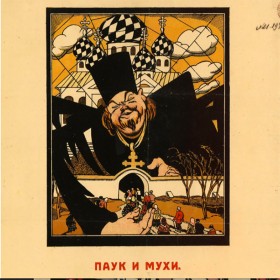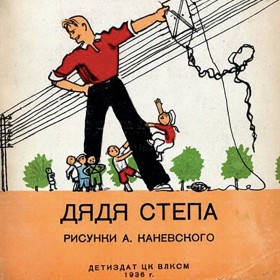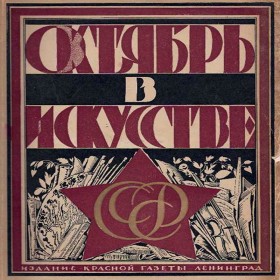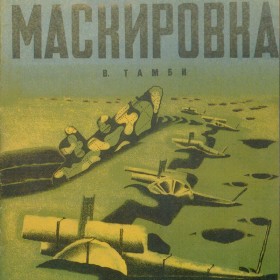Статьи
Прошлое РОСТА
Спустя годы, когда Маяковский готовил свою итоговую выставку, на которую не пришли ни коллеги, ни начальники, которых он так ждал, в статье «Прошу слова!» он написал:
«В 19 – 21 годах тысячи этих окон и радовали, и мозолили глаза с множества окон и витрин пустующих магазинов, клубных стен, вокзальных агитпунктов.
Большинство этих окон растеряла наша безалаберность.
Через годы над этими окнами будут корпеть ученые, охраняя от времени скверненькую бумагу. Охранять эти окна надо и надо. Так как – это – красочная история трех боевейших годов Союза – так как – это – предки всех советских сатирических журналов, предки труднейшего, безбумажного, безмашинного, ручного времени. Первые окна – уникумы, рисовались в одном экземпляре, дальнейшие размножались в десятках и сотнях экземпляров трафаретом. Основные плакатщики: Черемных, Малютин, я».
В этом тексте есть две очень важные вещи: поэт реально точно определил место такого феномена как «Окна» в советской, да и в мировой культуре. И тут он прав. Но то, что он пишет «Черемных, Малютин, я» - в этом есть глубокая несправедливость.
Не только они втроем творили «Окна».
В какой-то момент союз художников поднял, кстати, скандал – почему за «Окна» только два человека получают «гигантские деньги», а все остальные – например, гениальный плакатист Дмитрий Моор – вообще копейки. Даже устроили собрание по этому поводу. Какое-то время можно было найти денежные ведомости по проекту «Окна РОСТА», правда не очень понятно, где они сейчас. Возможно, в ЦГАЛИ.
Отрывок из интервью Николая Виноградова, который работал тогда трафаретчиком «Окон», хотя мы его знаем, скорей, как коллекционера и историка и реставратора Китай- Города в Москве:
«Что же на этом заседании решили? Срезали им или нет?
Вот получалось так: если им срезать, то остальные…
Ничего не получат… им нечего будет получать, или получать такую мизерную сумму, что они помрут с голоду.
- И что же, оставили прежние расценки?
-Да.-А возник конфликт по инициативе администрации?
-Кто-то поднял в РАБИСе этот вопрос.
В общем, бунт погасили.
Но с финансами тоже было все интересно потому что фин. директором РОСТА был некто Лев Гринкруг – до революции банкир, а после – просто финансист. «Бывший мужчина» мадам Лили Брик, которая тоже постоянно торчала в офисе с Маяковским и даже что-то красила, а на самом деле как водится – контролировала, чтобы все заказы финансы шли в «семью» (тут же в качестве художника применили даже ее официального мужа - Осипа Брика. И думается «Лёва» этому весьма способствовал.
Поэтому неудивительно что в ведомостях на выплаты попадаются фамилии художников-авторов текстов, которых никто никогда не видел, например «Радванский». Об этом тоже открытым текстом говорит Виноградов. С 1925 года Виноградов занимался реставрацией Китайгородской стены, Сухаревой башни, Триумфальных ворот и Красных ворот, грота в Александровском саду и ограды сада. С 1931 года Виноградов занимался реставрацией стен и башен Московского Кремля, а также Благовещенского собора, установив его первоначальные формы. В то же самое время он стал свидетелем сноса внутри Кремля монастырей и других старинных зданий.
То есть, это не просто «трафаретчик» – это выдающийся культурный деятель России.
Но нас он сейчас интересует как человек, который переживал за судьбу «Окон», понимая их важность. И как человек, который был свидетелем заката проекта. А Гринкруг отчалил в Париж по делу, да там и остался – не стал возвращаться в СССР и что удивительно – во Франции он тоже занимался банковским делом. Удивительные дела, конечно, тогда проворачивались на глазах у изумленной публики.
Но организационный кризис настиг «Окна».
Дело в том, что «Наркомпрос» просто начал выселять изготовителей «Окон» из того помещения, которое они занимали. И тогда стало ясно, что архив просто выбросят. И Николай Виноградов решился все, что можно спасти, просто вывезти.
«…Они были увязаны в пачки и заготовлены для отправки на бумажную фабрику. Черемных в это время мне как раз сказал: «Ты вот интересовался, собирал плакаты РОСТА. Можешь забрать и остальные». Вот в этом доме наверху. Я пошел посмотрел — целая гора навязанных тюков этих самых плакатов. Я к этому делу привлек сестру, жену Черемныха, нанял ломового извозчика, и мы эти плакаты оттуда вывезли. Плакаты эти лежали на самом верхнем этаже.
И вот на самом верхнем этаже, оттуда мы спускали эти тюки, вниз таскали, нагрузили этот самый полок и отвезли ко мне на квартиру. Я жил в это время на теперешней улице Чехова, дом 18. Там при квартире был такой сарайчик для дров, он пустовал. Я туда их все сложил. И первую группу плакатов я передал в Музей революции»
Но хочется рассказать о тех художниках Окон, которые во многом благодаря Маяковскому, который старательно подчеркивал свое авторство буквально всего на проекте, остались в тени и невоспетыми.
Например, Василий Вениаминович Хвостенко. (Да, панно в павильоне Культура на ВДНХ 1938 года это его рук дело). Уроженец Курской губернии. Учился до 1917 в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). И его преподавателями были потрясающие русские художники К. Коровин, А. Корин, С. Малютин, Л. Пастернак.
Он одним из первых революционных художников полностью погрузился в политическую живопись и графику. «Ленин на броневике» - это его. В войну 1919—1920 гг. работал декоратором в 1-й армии Туркфронта.
А в 1920 г. его командировали в Главполитпросвет, где он и работал в «Окнах РОСТА». После этого проекта он стал известным станковистом – его творческая жизнь на «Окнах» не закончилась. Он работал в цехах заводов-новостроек, спускался в шахты. «Рабочие как боги, — любил говорить художник, — ими создан костяк культуры. В нашем искусстве надо быть такими же искренними, упорными, как рабочие в своем деле».
Как пишет сам Маяковский про масштабы проекта: «Всего около девятисот названий по одной Москве. Ленинград, Баку, Саратов стали заводить свои окна.
Диапазон тем огромен: агитация за Коминтерн и за сбор грибов для голодающих, борьба с Врангелем и с тифозной вошью, плакаты о сохранении старых газет и об электрификации. Я рылся в Третьяковке, в Музее революции, в архивах участников. Едва ли от всей массы окон осталось сейчас более ста целых листов. Мы работали без установки на историю и славу. Вчерашний плакат безжалостно топтался в десятках переездов. Надо сохранить и напечатать оставшиеся, пока не поздно. Только случайно найденный у М. Черемных альбом фотографий дал возможность разыскать тексты и снимки с исчезнувшего.»
Он не случайно говорит про альбомы фотографий – дело в том, что в качестве отчетности «Окна» фотографировали специально приставленные фотографы – потому что как только «Окно» уходило из мастерских оно могло уже никогда не вернуться и след его был бы потерян. А ведь делали все очень быстро. Как вспоминают участники работ – если РОСТА как телеграфное агентство выпускало какую-то новость, то буквально через 40 минут уже был готов плакат на эту тему и его уж развозили по «точкам» - по городу. Вот это оперативность. А вы говорите «интернет». У них даже копировальных и типографских машин для этого не было.
Да вот сам Маяковский об этом и рассказывает: «Вспоминаю — отдыхов не было. Работали в огромной нетопленной, сводящей морозом (впоследствии — выедающая глаза дымом буржуйка) мастерской РОСТА. Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься и, поспав ровно столько, сколько необходимо, вскочишь работать снова.
С течением времени мы до того изощрили руку, что могли рисовать сложный рабочий силуэт от пятки с закрытыми глазами, и линия, обрисовав, сливалась с линией.
По часам Сухаревки, видневшимся из окна, мы вдруг роем бросались на бумагу, состязались в быстроте наброска, вызывая удивление Джона Рида, Голичера и других заезжих, осматривающих нас иностранных товарищей и путешественников. От нас требовалась машинная быстрота: бывало, телеграфное известие о фронтовой победе через сорок минут — час уже висело по улице красочным плакатом. «Красочным» — сказано чересчур шикарно, красок почти не было, брали любую, чуть размешивая на слюне. Того темпа, этой быстроты требовал характер работы, и от этой быстроты вывешивания вестей об опасности и о победе зависело количество новых бойцов. И эта часть обшей агитации подымала на фронт.»
Завидная эффективность пропагандистской машины – вот что это такое. Кстати, хотелось бы знать, что за краски они все-таки использовали. Существовали ли еще запасы дореволюционных красок или это были импортные краски. Или все-таки, какие-то комбинаты производили какие-то количества красок, пригодных для создания плакатов. Но насколько мы видим сегодня, разбирая для проекта «Арт-Проп» плакаты, предоставленные Государственным архивом РФ, даже черный пигмент «гуляет» - он совсем неоднороден на всех поверхностях.
Очень редко в связи с «Окнами РОСТА» упоминают имя Антона Михайловича Лавинского. Тем не менее, он вместе со своей женой Елизаветой, активно создавали новую советскую пропаганду и находились в орбите Маяковского настолько близко, что их сын Никита, который стал известным советским художником, отныне считается официально его сыном (в 2013 году на Первом канале выпустили фильм: "Владимир Маяковский. Третий лишний", в котором Елизавета Лавинская сообщает, что она внучка Маяковского, а ее отец, является сыном поэта.)
Но Антон Лавинский не просто «еще один художник «Окон» - это один из самых важных персон революционного авангарда. Он одним из первых начал использовать комбинированные фотографии для создания плакатов. Он вообще – один из родоначальников жанра советского рекламного плаката. Афиша фильма «Броненосец Потемкин» - это его работа.
Он работал как бы сейчас определили и в 3D и в 2D. Он график, плакатист, дизайнер, сценограф, скульптор, архитектор. Является крупнейшим представителем конструктивизма в советской плакатной графике 1920-х годов. До своих занятий в РОСТА в 1919 году преподавал в Саратовских государственных свободных художественных мастерских. Являлся членом саратовского «Общества художников нового искусства» (Презентисты). Был он и профессором Вхутемаса в Москве на скульптурном, а затем деревообрабатывающем факультетах.
1921 Член Института художественной культуры, Член объединения Леф (Левый фронт искусства). Был художником журнала «Леф». То есть, он представлял наиболее экстремальный революционный спектр новой советской культуры, который так или иначе довольно скоро проиграл в аппаратной борьбе за звание официального советского господствующего стиля.
И совершенно невозможно не упомянуть имя Владимира Осиповича Роскина (для фанатов ВДНХ сразу скажу: он, кроме всего, прочего был художником павильона «Атомная энергия»). Из семьи московского присяжного поверенного Судебной палаты совершенно с младых ногтей решил что будет художником: в 1913 году одновременно с обучением в реальном училище посещал воскресные классы Строгановского училища, в 1915 году учился в школе Фёдора Рерберга, в 1916 году — в студии Ильи Машкова. А потом поступил в натурный класс Московской школы живописи, ваяния и зодчества.
Кроме того, что сам был художником, он был натуральным культуртрегером (словечко тех времен известное нам по произведениям Ильфа и Петрова). В послереволюционные годы он работал в Наркомпросе инструктором школьного отдела изобразительных искусств. Отдел ИЗО Наркомпроса формировал в это время коллекции губернских музеев и всевозможных художественных школ на местах.
Роскин путешествовал по России с лекциями о современном искусстве и отбирал работы авангардистов для коллекций провинциальных музеев, которые просили привозить им образцы нового, «левого» искусства: произведения К. Малевича, М. Шагала, В. Кандинского, В. Татлина, А. Родченко, В. Степановой, П. Кончаловского, А. Лентулова и Р. Фалька. То есть, нёс революционную культуру в массы.
Потом его Маяковский пригласил в РОСТА и из того, что нам любезно предоставил Госархив, мы публикуем его «Окно» «Рабочие и крестьяне, запомните истину эту: надо идти на фронт, надо помочь фронту, кроме самих себя у нас помощников нету» (текст Риты Райт, впоследствии Райт-Ковалевой, популярной среди интеллигенции переводчицы). А ведь были еще его плакаты «В Америке сытно, в России голодно, но из Америки в Россию едут 15000 рабочих…», «В Германии независимых было два сорта: одни не боялись ни какого черта»…
Он прожил потрясающую творческую жизнь – всё время конфликтовал с официозом, которого он за долгие советские эпохи видал очень разного (последний раз его чуть не «отменили» за поддержку опального Оскара Рабина в 1967-м). Это его-то человека, который видел и Ленина, и Луначарского, и Сталина, и Троцкого.
Но что -то есть щемящее в его работе «Хорошее отношение к лошадям» 1977 года, где видны… «Окна РОСТА» как воспоминание и благодарность за яркие годы.
Продолжал писать до последних дней своей жизни. До 1984 года.
Фантастические, конечно, были люди.
«В 19 – 21 годах тысячи этих окон и радовали, и мозолили глаза с множества окон и витрин пустующих магазинов, клубных стен, вокзальных агитпунктов.
Большинство этих окон растеряла наша безалаберность.
Через годы над этими окнами будут корпеть ученые, охраняя от времени скверненькую бумагу. Охранять эти окна надо и надо. Так как – это – красочная история трех боевейших годов Союза – так как – это – предки всех советских сатирических журналов, предки труднейшего, безбумажного, безмашинного, ручного времени. Первые окна – уникумы, рисовались в одном экземпляре, дальнейшие размножались в десятках и сотнях экземпляров трафаретом. Основные плакатщики: Черемных, Малютин, я».
В этом тексте есть две очень важные вещи: поэт реально точно определил место такого феномена как «Окна» в советской, да и в мировой культуре. И тут он прав. Но то, что он пишет «Черемных, Малютин, я» - в этом есть глубокая несправедливость.
Не только они втроем творили «Окна».
В какой-то момент союз художников поднял, кстати, скандал – почему за «Окна» только два человека получают «гигантские деньги», а все остальные – например, гениальный плакатист Дмитрий Моор – вообще копейки. Даже устроили собрание по этому поводу. Какое-то время можно было найти денежные ведомости по проекту «Окна РОСТА», правда не очень понятно, где они сейчас. Возможно, в ЦГАЛИ.
Отрывок из интервью Николая Виноградова, который работал тогда трафаретчиком «Окон», хотя мы его знаем, скорей, как коллекционера и историка и реставратора Китай- Города в Москве:
«Что же на этом заседании решили? Срезали им или нет?
Вот получалось так: если им срезать, то остальные…
Ничего не получат… им нечего будет получать, или получать такую мизерную сумму, что они помрут с голоду.
- И что же, оставили прежние расценки?
-Да.-А возник конфликт по инициативе администрации?
-Кто-то поднял в РАБИСе этот вопрос.
В общем, бунт погасили.
Но с финансами тоже было все интересно потому что фин. директором РОСТА был некто Лев Гринкруг – до революции банкир, а после – просто финансист. «Бывший мужчина» мадам Лили Брик, которая тоже постоянно торчала в офисе с Маяковским и даже что-то красила, а на самом деле как водится – контролировала, чтобы все заказы финансы шли в «семью» (тут же в качестве художника применили даже ее официального мужа - Осипа Брика. И думается «Лёва» этому весьма способствовал.
Поэтому неудивительно что в ведомостях на выплаты попадаются фамилии художников-авторов текстов, которых никто никогда не видел, например «Радванский». Об этом тоже открытым текстом говорит Виноградов. С 1925 года Виноградов занимался реставрацией Китайгородской стены, Сухаревой башни, Триумфальных ворот и Красных ворот, грота в Александровском саду и ограды сада. С 1931 года Виноградов занимался реставрацией стен и башен Московского Кремля, а также Благовещенского собора, установив его первоначальные формы. В то же самое время он стал свидетелем сноса внутри Кремля монастырей и других старинных зданий.
То есть, это не просто «трафаретчик» – это выдающийся культурный деятель России.
Но нас он сейчас интересует как человек, который переживал за судьбу «Окон», понимая их важность. И как человек, который был свидетелем заката проекта. А Гринкруг отчалил в Париж по делу, да там и остался – не стал возвращаться в СССР и что удивительно – во Франции он тоже занимался банковским делом. Удивительные дела, конечно, тогда проворачивались на глазах у изумленной публики.
Но организационный кризис настиг «Окна».
Дело в том, что «Наркомпрос» просто начал выселять изготовителей «Окон» из того помещения, которое они занимали. И тогда стало ясно, что архив просто выбросят. И Николай Виноградов решился все, что можно спасти, просто вывезти.
«…Они были увязаны в пачки и заготовлены для отправки на бумажную фабрику. Черемных в это время мне как раз сказал: «Ты вот интересовался, собирал плакаты РОСТА. Можешь забрать и остальные». Вот в этом доме наверху. Я пошел посмотрел — целая гора навязанных тюков этих самых плакатов. Я к этому делу привлек сестру, жену Черемныха, нанял ломового извозчика, и мы эти плакаты оттуда вывезли. Плакаты эти лежали на самом верхнем этаже.
И вот на самом верхнем этаже, оттуда мы спускали эти тюки, вниз таскали, нагрузили этот самый полок и отвезли ко мне на квартиру. Я жил в это время на теперешней улице Чехова, дом 18. Там при квартире был такой сарайчик для дров, он пустовал. Я туда их все сложил. И первую группу плакатов я передал в Музей революции»
Но хочется рассказать о тех художниках Окон, которые во многом благодаря Маяковскому, который старательно подчеркивал свое авторство буквально всего на проекте, остались в тени и невоспетыми.
Например, Василий Вениаминович Хвостенко. (Да, панно в павильоне Культура на ВДНХ 1938 года это его рук дело). Уроженец Курской губернии. Учился до 1917 в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). И его преподавателями были потрясающие русские художники К. Коровин, А. Корин, С. Малютин, Л. Пастернак.
Он одним из первых революционных художников полностью погрузился в политическую живопись и графику. «Ленин на броневике» - это его. В войну 1919—1920 гг. работал декоратором в 1-й армии Туркфронта.
А в 1920 г. его командировали в Главполитпросвет, где он и работал в «Окнах РОСТА». После этого проекта он стал известным станковистом – его творческая жизнь на «Окнах» не закончилась. Он работал в цехах заводов-новостроек, спускался в шахты. «Рабочие как боги, — любил говорить художник, — ими создан костяк культуры. В нашем искусстве надо быть такими же искренними, упорными, как рабочие в своем деле».
Как пишет сам Маяковский про масштабы проекта: «Всего около девятисот названий по одной Москве. Ленинград, Баку, Саратов стали заводить свои окна.
Диапазон тем огромен: агитация за Коминтерн и за сбор грибов для голодающих, борьба с Врангелем и с тифозной вошью, плакаты о сохранении старых газет и об электрификации. Я рылся в Третьяковке, в Музее революции, в архивах участников. Едва ли от всей массы окон осталось сейчас более ста целых листов. Мы работали без установки на историю и славу. Вчерашний плакат безжалостно топтался в десятках переездов. Надо сохранить и напечатать оставшиеся, пока не поздно. Только случайно найденный у М. Черемных альбом фотографий дал возможность разыскать тексты и снимки с исчезнувшего.»
Он не случайно говорит про альбомы фотографий – дело в том, что в качестве отчетности «Окна» фотографировали специально приставленные фотографы – потому что как только «Окно» уходило из мастерских оно могло уже никогда не вернуться и след его был бы потерян. А ведь делали все очень быстро. Как вспоминают участники работ – если РОСТА как телеграфное агентство выпускало какую-то новость, то буквально через 40 минут уже был готов плакат на эту тему и его уж развозили по «точкам» - по городу. Вот это оперативность. А вы говорите «интернет». У них даже копировальных и типографских машин для этого не было.
Да вот сам Маяковский об этом и рассказывает: «Вспоминаю — отдыхов не было. Работали в огромной нетопленной, сводящей морозом (впоследствии — выедающая глаза дымом буржуйка) мастерской РОСТА. Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься и, поспав ровно столько, сколько необходимо, вскочишь работать снова.
С течением времени мы до того изощрили руку, что могли рисовать сложный рабочий силуэт от пятки с закрытыми глазами, и линия, обрисовав, сливалась с линией.
По часам Сухаревки, видневшимся из окна, мы вдруг роем бросались на бумагу, состязались в быстроте наброска, вызывая удивление Джона Рида, Голичера и других заезжих, осматривающих нас иностранных товарищей и путешественников. От нас требовалась машинная быстрота: бывало, телеграфное известие о фронтовой победе через сорок минут — час уже висело по улице красочным плакатом. «Красочным» — сказано чересчур шикарно, красок почти не было, брали любую, чуть размешивая на слюне. Того темпа, этой быстроты требовал характер работы, и от этой быстроты вывешивания вестей об опасности и о победе зависело количество новых бойцов. И эта часть обшей агитации подымала на фронт.»
Завидная эффективность пропагандистской машины – вот что это такое. Кстати, хотелось бы знать, что за краски они все-таки использовали. Существовали ли еще запасы дореволюционных красок или это были импортные краски. Или все-таки, какие-то комбинаты производили какие-то количества красок, пригодных для создания плакатов. Но насколько мы видим сегодня, разбирая для проекта «Арт-Проп» плакаты, предоставленные Государственным архивом РФ, даже черный пигмент «гуляет» - он совсем неоднороден на всех поверхностях.
Очень редко в связи с «Окнами РОСТА» упоминают имя Антона Михайловича Лавинского. Тем не менее, он вместе со своей женой Елизаветой, активно создавали новую советскую пропаганду и находились в орбите Маяковского настолько близко, что их сын Никита, который стал известным советским художником, отныне считается официально его сыном (в 2013 году на Первом канале выпустили фильм: "Владимир Маяковский. Третий лишний", в котором Елизавета Лавинская сообщает, что она внучка Маяковского, а ее отец, является сыном поэта.)
Но Антон Лавинский не просто «еще один художник «Окон» - это один из самых важных персон революционного авангарда. Он одним из первых начал использовать комбинированные фотографии для создания плакатов. Он вообще – один из родоначальников жанра советского рекламного плаката. Афиша фильма «Броненосец Потемкин» - это его работа.
Он работал как бы сейчас определили и в 3D и в 2D. Он график, плакатист, дизайнер, сценограф, скульптор, архитектор. Является крупнейшим представителем конструктивизма в советской плакатной графике 1920-х годов. До своих занятий в РОСТА в 1919 году преподавал в Саратовских государственных свободных художественных мастерских. Являлся членом саратовского «Общества художников нового искусства» (Презентисты). Был он и профессором Вхутемаса в Москве на скульптурном, а затем деревообрабатывающем факультетах.
1921 Член Института художественной культуры, Член объединения Леф (Левый фронт искусства). Был художником журнала «Леф». То есть, он представлял наиболее экстремальный революционный спектр новой советской культуры, который так или иначе довольно скоро проиграл в аппаратной борьбе за звание официального советского господствующего стиля.
И совершенно невозможно не упомянуть имя Владимира Осиповича Роскина (для фанатов ВДНХ сразу скажу: он, кроме всего, прочего был художником павильона «Атомная энергия»). Из семьи московского присяжного поверенного Судебной палаты совершенно с младых ногтей решил что будет художником: в 1913 году одновременно с обучением в реальном училище посещал воскресные классы Строгановского училища, в 1915 году учился в школе Фёдора Рерберга, в 1916 году — в студии Ильи Машкова. А потом поступил в натурный класс Московской школы живописи, ваяния и зодчества.
Кроме того, что сам был художником, он был натуральным культуртрегером (словечко тех времен известное нам по произведениям Ильфа и Петрова). В послереволюционные годы он работал в Наркомпросе инструктором школьного отдела изобразительных искусств. Отдел ИЗО Наркомпроса формировал в это время коллекции губернских музеев и всевозможных художественных школ на местах.
Роскин путешествовал по России с лекциями о современном искусстве и отбирал работы авангардистов для коллекций провинциальных музеев, которые просили привозить им образцы нового, «левого» искусства: произведения К. Малевича, М. Шагала, В. Кандинского, В. Татлина, А. Родченко, В. Степановой, П. Кончаловского, А. Лентулова и Р. Фалька. То есть, нёс революционную культуру в массы.
Потом его Маяковский пригласил в РОСТА и из того, что нам любезно предоставил Госархив, мы публикуем его «Окно» «Рабочие и крестьяне, запомните истину эту: надо идти на фронт, надо помочь фронту, кроме самих себя у нас помощников нету» (текст Риты Райт, впоследствии Райт-Ковалевой, популярной среди интеллигенции переводчицы). А ведь были еще его плакаты «В Америке сытно, в России голодно, но из Америки в Россию едут 15000 рабочих…», «В Германии независимых было два сорта: одни не боялись ни какого черта»…
Он прожил потрясающую творческую жизнь – всё время конфликтовал с официозом, которого он за долгие советские эпохи видал очень разного (последний раз его чуть не «отменили» за поддержку опального Оскара Рабина в 1967-м). Это его-то человека, который видел и Ленина, и Луначарского, и Сталина, и Троцкого.
Но что -то есть щемящее в его работе «Хорошее отношение к лошадям» 1977 года, где видны… «Окна РОСТА» как воспоминание и благодарность за яркие годы.
Продолжал писать до последних дней своей жизни. До 1984 года.
Фантастические, конечно, были люди.
Натан Альтман
Когда перед нами раскидывается яркое лоскутное пространство агитационной пропаганды, а именно первых лет празднования годовщины Октября и Первомая 1918-1932 года, первым из имен светится имя художника Натана Альтмана. Грандиозные оформления Дворцовой площади в Петрограде, театральные постановки у стен Биржи, казалось бы, откуда мальчику из бедной винницкой семьи браться за такие широкомасштабные проекты. Но история жизни Натана Исаевича Альтмана (1899-1970 ) показывает, что еще шире было его сердце. Единственная прижизненная выставка и покровительство набросков Владимира Ильича, включая бронзовый бюстик Ленина.
Увлечение рисованием углем на стенах бедного жилища привели совсем юного Альтмана в Одесское художественное училище, откуда он направился прямиком в Париж, навстречу к импрессионизму. В те времена Москва и Петербург были закрыты для переезда из черты оседлости. В 1910 году Натан Альтман появляется в «Улье». «Здесь или подыхали с голоду, или становились знаменитыми…», писал о приюте для гениев Марк Шагал. На юго-западе Парижа в трехэтажной ротонде на участке в полгектара – он же павильон бордосских вин по проекту Эйфеля, купленный на распродаже имущества Всемирной выставки 1900 года меценатом, скульптором Альфредом Буше – уже восемь лет работал комплекс, состоящий их 140 студий-мастерских. «Улей» стал сосредоточением талантливых и стремящихся творцов.
Наведывался туда и парижский корреспондент газеты «Киевская мысль» А. Луначарский. Впоследствии многие знакомые Луначарского по «фабрике талантов», находившиеся в тот момент в эмиграции, вернутся в СССР и начнут работать под руководством первого наркома просвещения РСФСР (1917-1929) Анатолия Васильевича Луначарского. Среди таких имен как Александр Архипенко, Хаим Сутин, Фернан Леже, Маревна (в том числе написавшая книгу «Моя жизнь с художниками «Улья»), Юрий Анненков, Марк Шагал, Михаил Кикоин, Владимир Баранов-Россинэ, Амедео Модильяни, встречается и имя Натана Альтмана.
Экспрессом за год напитавшись всеми видами современного искусства, от кубизма до сюрреализма, Альтман едет в Бердичев, получать в ремесленной управе диплом художника вывесок. Это подтвержденное ремесло позволило еврею из Винницы легально находится и функционировать в Петербурге.
Натан Альтман моментально становится своим в богемной художественной среде северной столицы. «Он появился бесшумно и уверенно. Однажды художники и художественники заметили, что их число стало на одну единицу больше, чем прежде. Альтман не шумел, не кричал “я! я!”, не разводил теорий. Все произошло чрезвычайно спокойно и тихо; может быть, надо сказать: все произошло чрезвычайно прилично. Альтман вошел в чужое общество, как к себе домой, и сразу стал существовать в качестве равноправного сочлена», - вспоминал искусствовед, переводчик, критик Абрам Эфрос в «Очерках о художниках». Мандельштам посвящает ему свои стихи в «Бродячей собаке», его работы участвуют в выставках объединений «Мир искусства», «Бубновый валет», «Союза молодежи», «Еврейского общества поощрения художеств».
Спустя три года Натан Альтман пишет портрет, навечно связавший имя художника с изображением. В мастерской-мансарде на Мытнинской набережной поэтесса Анна Ахматова принимала на холсте кубические черты. Альтману удалось соединить кубизм с академической формой, чтобы передать образ поэта, характер его поэзии, психологически-артистический образ. Несмотря на то, что, находясь до этого одновременно в Париже Анне Ахматовой и Натану Альтману не случилось поработать вместе, и ту парижскую Ахматову мы знаем по работам Модильяни, в Петрограде им удается воплотить мандельштамовские строки на холсте:
В пол-оборота, о, печаль!
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложно-классическая шаль.
На одной из выставок художника портрет приобрел коллекционер Аркадий Вениаминович Руманов. Его коллекция, насчитывавшая сотни экспонатов, включала произведения русского и зарубежного изобразительного искусства, старинной нумизматики, портретной миниатюры немецких художников XVIII в. Врубель, Рерих, Васнецов, а также Альтман были национализированы государством после эмиграции Аркадия Вениаминовича. Сейчас портрет Анны Ахматовой работы Натана Исаевича, как и его автопортрет «Моё я» (1911), где они с Анной Андреевной похожи, как брат и сестра, находится в собрании Русского музея.
«Его мольберт в эти годы был пуст. Он делал проекты декорировок, марок, стягов, гербов, воздвигал мачты, протягивал цветные полотнища, декорировал театральные пьесы, был абстрактен, был футуристичен, был крайне лев, без вреда для себя и без помехи для своей репутации» - Абрам Эфрос свидетельствует о новом периоде творчества Натана Альтмана, который вместе с революцией 1917 года начинает искать новые платформы для своего творчества.
В 1918 году участвует в конкурсе на создание геральдики РСФСР: предложенный художником красный флаг с золотыми буквами аббревиатуры признали лучшим. Очень кстати приходятся в это время знакомства по «Улью». После доверенного ему оформления главной площади города - Дворцовой (тогда площади Евреинова) для первой годовщины Октября, Альтман получает руководящий пост в отделе ИЗО Наркомпроса Петрограда и должность главреда первой газеты СССР по вопросам искусства «Искусство коммуны», занимает должность профессора живописных и скульптурных мастерских СВОМАСа. Его соратником становится футурист Давид Штеренберг, знакомый по парижскому «Улью» и наркому Луначарскому. В 1921 году Альтман сменил Штеренберга на главенствующем посту в Наркомпросе в Москве. Оформление революционных праздников, в том числе многотысячных постановок, как оказалось, являются прекрасным опытом для работы в театре. С улиц и площадей Натан Альтман входит в сакральное пространство театров «Габима», ГОСЕТе, Государственного еврейского театра под руководством Соломона Михоэлса и режиссера Алексея Грановского (Абрама Азарха). В 1921-м оформляет постановку "Мистерии-буфф" Владимира Маяковского в переводе на немецкий язык для депутатов III Конгресса Коминтерна. В 1922 году Альтман выполнил сценографию спектакля "Гадибук" — мистической трагедии о любви и смерти по пьесе Семена Ан-ского в постановке Еврейской студии при МХТ под руководством Евгения Вахтангова. В 1928 году Альтман едет в Париж на гастроли вместе с Театром Грановского. Обратно театр возвращается без Грановского и без Альтмана.
Между Парижем 1910 и Парижем 1928 в жизни Натана Исаевича прослеживается непрекращающийся фейерверк из разных стилей, событий, платформ для выражения своего творчества, в котором полтора месяца 1920 года могли бы пройти незамеченными. Если бы Анатолий Луначарский не посоветовал Владимиру Ильичу Ленину заказать к своему пятидесятилетию портрет у Альтмана. Ленин доверял наркому просвещения, Луначарский доверял своему вкусу.
«— Ну рисовал Ленина, и что? Целый месяц в кабинете его рабочем проторчал. От свиста одурел! Он арии свистел не умолкая. Подложит под себя левую ногу, скоряжится весь и свистит. И писал одновременно. “Паркером”» - так сам художник отзывался о тех 90 днях (по пять-шесть часов работы в Кремле ежедневно) уже в конце жизни. Девять рисунков вождя, бронзовый бюст вождя, бронзовый бюст вождя на Всемирной выставке в Париже в 1925 году – первый его портрет, экспонировавшийся за границей. Возможно, именно они стали той самой охранной грамотой, которая позволила вернуться Альтману не просто обратно в СССР в 1935 году, но остаться живым в годы большого террора и спасти двух детей – племянника и племянницу своей второй жены Ирины Щеголевой, оставшихся без родителей.
Профиль вождя работы Альтмана в 1921 году украсил роспись фарфоровой тарелки с продовольственной карточкой и лозунгом "Кто не работает, тот не ест" - одной из самых известных агитационных тарелок. Тут же нельзя не вспомнить еще об одной знаменитой работе - "Земля трудящимся" (1919). Для эскиза художник взял за основу герб Петроградской трудовой коммуны, который представлял собой изображение ромба с фабричными зданиями, обрамленными снизу скрещенными серпом и колосом – символ союза земледельческого и промышленного труда, на котором строилось новое советское государство.
"Этот фарфор был яркий, жизнерадостный, праздничный" – писала Елена Данько, участница заводских творческих экспериментов времен Альтмана.
Период «яркого и жизнерадостного фарфора» закончится у Натана Исаевича со смертью маленького сына в Париже в 1935 году. Его творчество после возвращения в СССР, на территорию царившего чуждого Альтману соцреализма, уходит от реальности в мир книг и театра. Тогда же мастер женится на красавице вдове Ирине Щеголевой (в девичестве Тернавцевой). В 1937 году мужа сестры жены Альтмана – Бронислава Малаховского, принятого за польского шпиона, приговаривают к расстрелу, саму сестру - Марию отправляют в ссылку. Альтман решает взять маленькую племянницу Екатерину и старшего племянника Дмитрия к себе в семью. В годы войны, делает все, чтобы вывести жену, детей, тещу и даже сестру жены в эвакуацию в Пермь (Молотов) вместе с Мариинским театром, где работал в должности главного художника Кировского театра оперы и балета и кормил всю большую семью один. В фонде пермской художественной галереи хранится 42 работы, в том числе одна живописная, графика и эскизы к спектаклям Кировского театра -"Фауст", "Князь Игорь", "Лауренсия", "Гаянэ". С последним спектаклем связана курьезно-поэтическая история. Балет Арама Хачатуряна по необходимости решили украшать декорациями из солдатского сукна. На занавесе художник изобразил древних рыцарей, на заднике — хлопковые поля и горы. На что была сочинена эпиграмма: «Говорят, что на Севане мало знают о Натане. Но, наверно, и Натан мало знает про Севан».
По воспоминанию искусствоведа Михаила Мильчика, Натан Исаевич, с которым он познакомился в 1965 году, был всегда сдержан и неразговорчив, но одну его эмоциональную реплику Мильчик запомнил навсегда. «Когда в 1969 году ему присвоили звание народного художника РСФСР, и я пришел его поздравить, он ответил почти резко, что поздравлений не принимает. «Зачем они дали мне звание, я ведь имя имею!»».
Про него и его имя еще в 1924 году писал и затем скандировал в «Бродячей собаке» Осип Мандельштам:
Это есть художник Альтман,
Очень старый человек.
По‑немецки значит Альтман —
Очень старый человек.
Он художник старой школы,
Целый свой трудился век,
Оттого он невеселый,
Очень старый человек.
Похоронен Натан Исаевич Альтман (+1970) на кладбище в Комарово. Недалеко от Анны Андреевны Ахматовой.
Покинув рощи родины священной
«Покинув рощи родины священной
И дом, где Муза Плача изнывала,
Я, тихая, веселая, жила
На низком острове, который, словно плот,
Остановился в пышной невской дельте.
О, зимние таинственные дни,
И милый труд, и легкая усталость,
И розы в умывальном кувшине!
Был переулок снежным и недлинным.
И против двери к нам стеной алтарной
Воздвигнут храм святой Екатерины.
Как рано я из дома выходила,
И часто по нетронутому снегу
Свои следы вчерашние напрасно
На бледной, чистой пелене ища,
И вдоль реки, где шхуны, как голубки,
Друг к другу нежно, нежно прижимаясь,
О сером взморье до весны тоскуют, —
Я подходила к старому мосту.
Там комната, похожая на клетку,
Под самой крышей в грязном, шумном доме,
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом,
И жаловался весело, и грустно
О радости небывшей говорил.
Как в зеркало, глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым.
Теперь не знаю, где художник милый,
С которым я из голубой мансарды
Через окно на крышу выходила
И по карнизу шла над смертной бездной,
Чтоб видеть снег, Неву и облака, —
Но чувствую, что Музы наши дружны
Беспечной и пленительною дружбой,
Как девушки, не знавшие любви.»
1915 г.
Увлечение рисованием углем на стенах бедного жилища привели совсем юного Альтмана в Одесское художественное училище, откуда он направился прямиком в Париж, навстречу к импрессионизму. В те времена Москва и Петербург были закрыты для переезда из черты оседлости. В 1910 году Натан Альтман появляется в «Улье». «Здесь или подыхали с голоду, или становились знаменитыми…», писал о приюте для гениев Марк Шагал. На юго-западе Парижа в трехэтажной ротонде на участке в полгектара – он же павильон бордосских вин по проекту Эйфеля, купленный на распродаже имущества Всемирной выставки 1900 года меценатом, скульптором Альфредом Буше – уже восемь лет работал комплекс, состоящий их 140 студий-мастерских. «Улей» стал сосредоточением талантливых и стремящихся творцов.
Наведывался туда и парижский корреспондент газеты «Киевская мысль» А. Луначарский. Впоследствии многие знакомые Луначарского по «фабрике талантов», находившиеся в тот момент в эмиграции, вернутся в СССР и начнут работать под руководством первого наркома просвещения РСФСР (1917-1929) Анатолия Васильевича Луначарского. Среди таких имен как Александр Архипенко, Хаим Сутин, Фернан Леже, Маревна (в том числе написавшая книгу «Моя жизнь с художниками «Улья»), Юрий Анненков, Марк Шагал, Михаил Кикоин, Владимир Баранов-Россинэ, Амедео Модильяни, встречается и имя Натана Альтмана.
Экспрессом за год напитавшись всеми видами современного искусства, от кубизма до сюрреализма, Альтман едет в Бердичев, получать в ремесленной управе диплом художника вывесок. Это подтвержденное ремесло позволило еврею из Винницы легально находится и функционировать в Петербурге.
Натан Альтман моментально становится своим в богемной художественной среде северной столицы. «Он появился бесшумно и уверенно. Однажды художники и художественники заметили, что их число стало на одну единицу больше, чем прежде. Альтман не шумел, не кричал “я! я!”, не разводил теорий. Все произошло чрезвычайно спокойно и тихо; может быть, надо сказать: все произошло чрезвычайно прилично. Альтман вошел в чужое общество, как к себе домой, и сразу стал существовать в качестве равноправного сочлена», - вспоминал искусствовед, переводчик, критик Абрам Эфрос в «Очерках о художниках». Мандельштам посвящает ему свои стихи в «Бродячей собаке», его работы участвуют в выставках объединений «Мир искусства», «Бубновый валет», «Союза молодежи», «Еврейского общества поощрения художеств».
Спустя три года Натан Альтман пишет портрет, навечно связавший имя художника с изображением. В мастерской-мансарде на Мытнинской набережной поэтесса Анна Ахматова принимала на холсте кубические черты. Альтману удалось соединить кубизм с академической формой, чтобы передать образ поэта, характер его поэзии, психологически-артистический образ. Несмотря на то, что, находясь до этого одновременно в Париже Анне Ахматовой и Натану Альтману не случилось поработать вместе, и ту парижскую Ахматову мы знаем по работам Модильяни, в Петрограде им удается воплотить мандельштамовские строки на холсте:
В пол-оборота, о, печаль!
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложно-классическая шаль.
На одной из выставок художника портрет приобрел коллекционер Аркадий Вениаминович Руманов. Его коллекция, насчитывавшая сотни экспонатов, включала произведения русского и зарубежного изобразительного искусства, старинной нумизматики, портретной миниатюры немецких художников XVIII в. Врубель, Рерих, Васнецов, а также Альтман были национализированы государством после эмиграции Аркадия Вениаминовича. Сейчас портрет Анны Ахматовой работы Натана Исаевича, как и его автопортрет «Моё я» (1911), где они с Анной Андреевной похожи, как брат и сестра, находится в собрании Русского музея.
«Его мольберт в эти годы был пуст. Он делал проекты декорировок, марок, стягов, гербов, воздвигал мачты, протягивал цветные полотнища, декорировал театральные пьесы, был абстрактен, был футуристичен, был крайне лев, без вреда для себя и без помехи для своей репутации» - Абрам Эфрос свидетельствует о новом периоде творчества Натана Альтмана, который вместе с революцией 1917 года начинает искать новые платформы для своего творчества.
В 1918 году участвует в конкурсе на создание геральдики РСФСР: предложенный художником красный флаг с золотыми буквами аббревиатуры признали лучшим. Очень кстати приходятся в это время знакомства по «Улью». После доверенного ему оформления главной площади города - Дворцовой (тогда площади Евреинова) для первой годовщины Октября, Альтман получает руководящий пост в отделе ИЗО Наркомпроса Петрограда и должность главреда первой газеты СССР по вопросам искусства «Искусство коммуны», занимает должность профессора живописных и скульптурных мастерских СВОМАСа. Его соратником становится футурист Давид Штеренберг, знакомый по парижскому «Улью» и наркому Луначарскому. В 1921 году Альтман сменил Штеренберга на главенствующем посту в Наркомпросе в Москве. Оформление революционных праздников, в том числе многотысячных постановок, как оказалось, являются прекрасным опытом для работы в театре. С улиц и площадей Натан Альтман входит в сакральное пространство театров «Габима», ГОСЕТе, Государственного еврейского театра под руководством Соломона Михоэлса и режиссера Алексея Грановского (Абрама Азарха). В 1921-м оформляет постановку "Мистерии-буфф" Владимира Маяковского в переводе на немецкий язык для депутатов III Конгресса Коминтерна. В 1922 году Альтман выполнил сценографию спектакля "Гадибук" — мистической трагедии о любви и смерти по пьесе Семена Ан-ского в постановке Еврейской студии при МХТ под руководством Евгения Вахтангова. В 1928 году Альтман едет в Париж на гастроли вместе с Театром Грановского. Обратно театр возвращается без Грановского и без Альтмана.
Между Парижем 1910 и Парижем 1928 в жизни Натана Исаевича прослеживается непрекращающийся фейерверк из разных стилей, событий, платформ для выражения своего творчества, в котором полтора месяца 1920 года могли бы пройти незамеченными. Если бы Анатолий Луначарский не посоветовал Владимиру Ильичу Ленину заказать к своему пятидесятилетию портрет у Альтмана. Ленин доверял наркому просвещения, Луначарский доверял своему вкусу.
«— Ну рисовал Ленина, и что? Целый месяц в кабинете его рабочем проторчал. От свиста одурел! Он арии свистел не умолкая. Подложит под себя левую ногу, скоряжится весь и свистит. И писал одновременно. “Паркером”» - так сам художник отзывался о тех 90 днях (по пять-шесть часов работы в Кремле ежедневно) уже в конце жизни. Девять рисунков вождя, бронзовый бюст вождя, бронзовый бюст вождя на Всемирной выставке в Париже в 1925 году – первый его портрет, экспонировавшийся за границей. Возможно, именно они стали той самой охранной грамотой, которая позволила вернуться Альтману не просто обратно в СССР в 1935 году, но остаться живым в годы большого террора и спасти двух детей – племянника и племянницу своей второй жены Ирины Щеголевой, оставшихся без родителей.
Профиль вождя работы Альтмана в 1921 году украсил роспись фарфоровой тарелки с продовольственной карточкой и лозунгом "Кто не работает, тот не ест" - одной из самых известных агитационных тарелок. Тут же нельзя не вспомнить еще об одной знаменитой работе - "Земля трудящимся" (1919). Для эскиза художник взял за основу герб Петроградской трудовой коммуны, который представлял собой изображение ромба с фабричными зданиями, обрамленными снизу скрещенными серпом и колосом – символ союза земледельческого и промышленного труда, на котором строилось новое советское государство.
"Этот фарфор был яркий, жизнерадостный, праздничный" – писала Елена Данько, участница заводских творческих экспериментов времен Альтмана.
Период «яркого и жизнерадостного фарфора» закончится у Натана Исаевича со смертью маленького сына в Париже в 1935 году. Его творчество после возвращения в СССР, на территорию царившего чуждого Альтману соцреализма, уходит от реальности в мир книг и театра. Тогда же мастер женится на красавице вдове Ирине Щеголевой (в девичестве Тернавцевой). В 1937 году мужа сестры жены Альтмана – Бронислава Малаховского, принятого за польского шпиона, приговаривают к расстрелу, саму сестру - Марию отправляют в ссылку. Альтман решает взять маленькую племянницу Екатерину и старшего племянника Дмитрия к себе в семью. В годы войны, делает все, чтобы вывести жену, детей, тещу и даже сестру жены в эвакуацию в Пермь (Молотов) вместе с Мариинским театром, где работал в должности главного художника Кировского театра оперы и балета и кормил всю большую семью один. В фонде пермской художественной галереи хранится 42 работы, в том числе одна живописная, графика и эскизы к спектаклям Кировского театра -"Фауст", "Князь Игорь", "Лауренсия", "Гаянэ". С последним спектаклем связана курьезно-поэтическая история. Балет Арама Хачатуряна по необходимости решили украшать декорациями из солдатского сукна. На занавесе художник изобразил древних рыцарей, на заднике — хлопковые поля и горы. На что была сочинена эпиграмма: «Говорят, что на Севане мало знают о Натане. Но, наверно, и Натан мало знает про Севан».
По воспоминанию искусствоведа Михаила Мильчика, Натан Исаевич, с которым он познакомился в 1965 году, был всегда сдержан и неразговорчив, но одну его эмоциональную реплику Мильчик запомнил навсегда. «Когда в 1969 году ему присвоили звание народного художника РСФСР, и я пришел его поздравить, он ответил почти резко, что поздравлений не принимает. «Зачем они дали мне звание, я ведь имя имею!»».
Про него и его имя еще в 1924 году писал и затем скандировал в «Бродячей собаке» Осип Мандельштам:
Это есть художник Альтман,
Очень старый человек.
По‑немецки значит Альтман —
Очень старый человек.
Он художник старой школы,
Целый свой трудился век,
Оттого он невеселый,
Очень старый человек.
Похоронен Натан Исаевич Альтман (+1970) на кладбище в Комарово. Недалеко от Анны Андреевны Ахматовой.
Покинув рощи родины священной
«Покинув рощи родины священной
И дом, где Муза Плача изнывала,
Я, тихая, веселая, жила
На низком острове, который, словно плот,
Остановился в пышной невской дельте.
О, зимние таинственные дни,
И милый труд, и легкая усталость,
И розы в умывальном кувшине!
Был переулок снежным и недлинным.
И против двери к нам стеной алтарной
Воздвигнут храм святой Екатерины.
Как рано я из дома выходила,
И часто по нетронутому снегу
Свои следы вчерашние напрасно
На бледной, чистой пелене ища,
И вдоль реки, где шхуны, как голубки,
Друг к другу нежно, нежно прижимаясь,
О сером взморье до весны тоскуют, —
Я подходила к старому мосту.
Там комната, похожая на клетку,
Под самой крышей в грязном, шумном доме,
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом,
И жаловался весело, и грустно
О радости небывшей говорил.
Как в зеркало, глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым.
Теперь не знаю, где художник милый,
С которым я из голубой мансарды
Через окно на крышу выходила
И по карнизу шла над смертной бездной,
Чтоб видеть снег, Неву и облака, —
Но чувствую, что Музы наши дружны
Беспечной и пленительною дружбой,
Как девушки, не знавшие любви.»
1915 г.
Основы РОСТА
Маяковский при всех своих талантах, включая талант к самопиару, тем не менее понимал, что он в Окнах РОСТА совсем не первый парень на деревне. Хотя бы потому что не он их придумал, а Михаил Черемных, а еще потому, что, например, там работали настоящие художники с классическим образованием, которые не прикрывались «авангардом», а его творили своими собственными руками в реальном времени. И поэтому он всегда понимал, что Михаил Черемных – это настоящий лидер и потрясающий художник и всегда внимательно смотрел на каждую его работу и воспринимал каждое слово. НО вот что интересно – дело в том, что Черемных точно также смотрел на то, как творит Иван Малютин и буквально считал, что Малютин на него повлиял больше, чем кто бы то ни было.
Про Ивана Малютина и его роль в Окнах РОСТА сейчас мало говорят. А зря. Потому что он был реальной основой, фундаментом «Окон».
Там все сложилось воедино – человеческие качества – он был невероятно добрым человеком с обалденным чувством юмора, всегда готовый посмеяться с товарищами, но учудить натуральный пранк, который тогда называли «розыгрыш».
На примере Ивана Малютина ((1891—1932) раскрывается, как императорской России могли работать социальные лифты. Ведь Иван Андреевич родился в простой крестьянской семье, все детство провел в Тульской губернии, а в 1902 году поступил в Строгановское художественно-промышленное училище по классу Н. Андреева и закончил его в 1911 году как дипломированный скульптор.
Вот как это все происходило таким образом? Считается, что тогда общество было гораздо более классово сегрегировано, нежели это сложилось в развитых современных странах. И тем не менее… Иван Малютин вписался в художественные круги как нож в масло и подружился с участниками «Бубнового валета» и других прогрессивных творческих объединений. Но у него еще была любовь – театр. И ему очень повезло, что в те годы выдающийся промышленник и меценат Сергей Иванович Зимин организовал свой частный театр. Так что молодой Малютин все свои увлечения реализовал в рамках этого театра. Судя по всему, у Зимина с Малютиным были очень хорошие отношения, так как Зимин вытаскивал художника в Крым и т.д., а тот совершенно не стеснялся Зимина троллить. Так в Крыму Зимин повсюду с собой таскал Малютина, но что удивило Ивана, что в основном они бродили по винным хозяйствам и погребам. И на вопрос про Крым — -«Ну, как в Крыму солнце? Светло? Тепло?», отвечал — «не знаю, по-моему, и холодно, и темно, и сыро.»
С 1918 года Иван Малютин преподавал во ВХУТЕИНе а также рисует для журналов в сатирических журналах «Крокодил», «Бегемот», «Безбожник у станка», «Заноза», «Смехач». А потом его пригласили в Окна РОСТА. Скорей всего Черемных, который работал в тех же журналах, и пригласил.
Как пишет в своих воспоминаниях жена Черменыха: «Черемных восхищался ярким талантом Малютина и не стеснялся, как он говорил открыто, «драть с него». Правда, в РОСТе вообще все перенимали друг у друга. И только Иван Малютин никогда никому не подражал.
В Москву приехали ленинградские художники. Они очень хвалили Черемныха. Тогда Михаил Михайлович спросил:
— А как вам нравится Малютин? Мы считаем его лучшим художником РОСТа.
— Да, конечно, он хороший художник, но уж очень он вам, товарищ Черемных, подражает.
И Черемных, посмотрев на улыбающегося Малютина, сказал:
— Ай, ай, ай! Ваня! Как же тебе не стыдно!» ТО есть Малютин совершенно явственно «развел» питерских художников ко всеобщему удовольствию. Иногда правда «разводили» и его – когда в редакцию приехал иностранец и Малютина заставили сделать ему экскурсию. Малютин показывал ему на пальцах, не стесняясь в выражениях, все равно «эта иностранная чурка ничего не понимает по-русски». В конце выяснилось, что американец очень даже прекрасно говорит по-русски и вообще это был писатель Джон Рид, который написал книгу о русской революции «10 дней которые потрясли мир». С тех пор они и дружили.
Отличительной особенностью Московских “Окон РОСТА” была используемая техника трафаретного тиражирования. Художники готовили оригинал, по оригиналу, в зависимости от числа красок, делались формы из плотной промасленной бумаги или картона. Трафаретчики прокатывали по ним краски, по этим же трафаретам раскрашивались стены домов, заборы и тротуары (иногда до 100—150 экземпляров, расходившихся по окнам агитпунктов). Идею трафаретного тиражирования подсказал некий художник Пэт - создатель плаката "Царь, поп и кулак".
Иван Малютин владел этой техникой виртуозно, что в случае с авторским плакатом означает, что рисунок должен был бить не только ярким и доступным, но и технологичным для создания трафарета.
К сожалению, то, что сегодня является бесценным сокровищем русской культуры тогда воспринималось, как обычная ежедневная работа. По сравнению с плакатами издательства ВЦИК, литературного отдела ГЛАВПУР РВСР и других центральных издательств, работы художников РОСТА сохранились в довольно незначительных количествах.
Вот пишет Маяковский в статье «Прошу слова»:
“Едва ли от всей массы «Окон» осталось сейчас более ста целых листов. Мы работали без установки на историю и славу. Вчерашний плакат безжалостно топтался в десятках переездов. Только случайно найденный у М. Черемных альбом фотографий дал возможность разыскать тексты и снимки с исчезнувшего.” Поэтому так важно сейчас показать все что есть из «Окон», а не только сохранить в коллекциях государственных музеев.
После «Окон» Иван Андреевич много работал в журналах и даже в «Крокодиле» он начал работать намного раньше]6 чем тот начал выходить – в приложении к рабочей газете которая потом стало «Крокодилом».
Самое обидное , что он очень рано умер. При этом небрежность в изучении его творчества приводят к хамским ошибкам в, казалось бы, серьезных изданиях. Так в статье к альбому «Мастера советской карикатуры» некто Крылов пишет в одном абзаце: «сотрудничал в 20—30-х годах в журналах «Бов», «Бегемот», «Безбожник», … Умер художник в 1928 году». Нет, мы понимаем, что Иван Андреич и тут мог пошутить – таков он был человек.
Самое любопытное, что Черемных и Малютин, как локомотивы стиля «Окон РОСТА» разработали для всех остальных почти единый стиль- так чтобы все персонажи были узнаваемы сразу. Если Врангель – то папаха, гильзы на мундире, усы, если поляки – то все элементы польской формы (и тоже усы), если советский рабочий – то в красной рубахе и обязательно – в красной кепочке. И только у одного автора персонажи выглядят совсем по-другому – например, советские мужчины – с длинными волосами. Этого автора звали Алексей Сергеевич Левин и все его работы можно определить по этим деталям. Вот, например Окно РОСТА № 347. Если помнишь время злое и зверей различной масти
-понаддай со ссылкой хлеба, помогай Советской власти!
Если хочешь от пожарной ты избавиться напасти
-делай общую работу: помогай Советской власти.
Если хочешь для телеги получить в запас ты части;
дай фабричным людям мяса, помогай Советской власти!
Если жизнь для внуков хочешь, без цепей и в полном счастье.
Шли сынов на фронт скорее, помогай Советской власти.
В нашей учетной карточке, полученной от Госархива автор стихов не значится. Это вполне мог бы быть Маяковский. Но проверка по академическим публикациям о творчестве Маяковского данных стихов нет. Поэтому это могла написать и Рита Райт и прочие авторы текстов, которые собирались в кабинете у Маяковского – редактора «Окон».
Но вот именно в этом «Окне» видны все признаки авторского, индивидуального стиля, который Алексей Левин сохранил в рамках огромной агитационной машины.
Алексей Сергеевич Левин родился в 1893м году в Крыму – в Севастополе. В 1909 - 1914 годах учился в Одесском художественном училище, затем в ВХУ - ПГСХМ при Академии художеств в Петрограде (1915 - 1919), окончил, но диплома не получил. Совершенно непонятно – почему. Хотя… Петроградские Государственные свободные художественные учебные мастерские (СВОМАС, ПГСХМ, ПЕГОСХУМ), было весьма своеобразное художественное учебное заведение. В ПГСХМ принимались все желающие, свободно выбиравшие себе руководителей. А потом вообще решили обходиться без руководителей. Так что неудивительно, что и приложение своим талантам студенты выбирали сами. Вот, скажем Алексей Левин понял, что его стезя – это революционное оформление города. И уже в 1918 году принимал участие в оформлении Петрограда к 1-й годовщине Октября.
Потрясающее пространственное мышление, ощущение масштаба и новой эстетики потом ему очень пригодится в жизни.
В «Окна РОСТА» его пригласил Маяковский и он переехал в Москву и участвовал в них до самого финала. Тут, в Москве коллеги прозвали его «Джоном» - из-за какой-то его модной шляпы и далее только так и называли - «Джон Левин». У него образовалась большая квартира в центре Москвы и там очень часто собиралась вся творческая компания во главе с Маяковским. Насколько можно верить воспоминаниям современников (Михаил Вольпин), они там, конечно, чаще в карты играли, чем обсуждали творческие порывы. Но сегодня это бы назвали формой team building на самом деле. Потому что коллектив «Окон РОСТА» был весьма сплоченный.
Он написал много плакатов, но его талант декоратора тоже прорывался – так, оформлял Колонный зал Дома союзов к конгрессу Коминтерна (1920). Потом попробовал себя на бюрократической дорожке: был первым заведующим отделом искусств Моссовета.
Еще одна удивительная черта подхода Левина к «Окнам». На нашем сайте можно найти Окно РОСТА № 354 на стихи Маяковского: «Гражданин! Красноармеец, защищающий тебя разут. Если у тебя лишняя пара-отдай красноармейцу, и Красная Армия пойдет к победе!» Так вот, он сделан так, что догадаться, что это трафаретная технология – очень трудно и требует внимательнейшего рассмотрения. Работы Левина – словно сделаны в единственном экземпляре в классической художественной манере. Близкой к журнальной графике изданий 1905х годов, нежели к авангарду.
В 1922 - 1925 годах делал плакаты, один из них на Международной выставке художественно-декоративных искусств в Париже получил бронзовую медаль (1925). В эти же годы (1924 - 1931) оформлял книги для различных издательств. В 1928 году принимал участие в Международной выставке «Пресса» в Кельне. Занимался оформлением советского раздела на Лейпцигской ярмарке (1932); на Всемирной выставке в Париже (1937), за оформление советского павильона получил Гран-при. Да-да, того самого, который стоял ровно напротив немецкого павильона, над которым уже тогда реял нацистский орел.
Во время войны работал в «Окнах ТАСС». В последующие годы работал преимущественно как художник-оформитель выставок в СССР и за рубежом.
Прекрасная творческая биография.
Про Ивана Малютина и его роль в Окнах РОСТА сейчас мало говорят. А зря. Потому что он был реальной основой, фундаментом «Окон».
Там все сложилось воедино – человеческие качества – он был невероятно добрым человеком с обалденным чувством юмора, всегда готовый посмеяться с товарищами, но учудить натуральный пранк, который тогда называли «розыгрыш».
На примере Ивана Малютина ((1891—1932) раскрывается, как императорской России могли работать социальные лифты. Ведь Иван Андреевич родился в простой крестьянской семье, все детство провел в Тульской губернии, а в 1902 году поступил в Строгановское художественно-промышленное училище по классу Н. Андреева и закончил его в 1911 году как дипломированный скульптор.
Вот как это все происходило таким образом? Считается, что тогда общество было гораздо более классово сегрегировано, нежели это сложилось в развитых современных странах. И тем не менее… Иван Малютин вписался в художественные круги как нож в масло и подружился с участниками «Бубнового валета» и других прогрессивных творческих объединений. Но у него еще была любовь – театр. И ему очень повезло, что в те годы выдающийся промышленник и меценат Сергей Иванович Зимин организовал свой частный театр. Так что молодой Малютин все свои увлечения реализовал в рамках этого театра. Судя по всему, у Зимина с Малютиным были очень хорошие отношения, так как Зимин вытаскивал художника в Крым и т.д., а тот совершенно не стеснялся Зимина троллить. Так в Крыму Зимин повсюду с собой таскал Малютина, но что удивило Ивана, что в основном они бродили по винным хозяйствам и погребам. И на вопрос про Крым — -«Ну, как в Крыму солнце? Светло? Тепло?», отвечал — «не знаю, по-моему, и холодно, и темно, и сыро.»
С 1918 года Иван Малютин преподавал во ВХУТЕИНе а также рисует для журналов в сатирических журналах «Крокодил», «Бегемот», «Безбожник у станка», «Заноза», «Смехач». А потом его пригласили в Окна РОСТА. Скорей всего Черемных, который работал в тех же журналах, и пригласил.
Как пишет в своих воспоминаниях жена Черменыха: «Черемных восхищался ярким талантом Малютина и не стеснялся, как он говорил открыто, «драть с него». Правда, в РОСТе вообще все перенимали друг у друга. И только Иван Малютин никогда никому не подражал.
В Москву приехали ленинградские художники. Они очень хвалили Черемныха. Тогда Михаил Михайлович спросил:
— А как вам нравится Малютин? Мы считаем его лучшим художником РОСТа.
— Да, конечно, он хороший художник, но уж очень он вам, товарищ Черемных, подражает.
И Черемных, посмотрев на улыбающегося Малютина, сказал:
— Ай, ай, ай! Ваня! Как же тебе не стыдно!» ТО есть Малютин совершенно явственно «развел» питерских художников ко всеобщему удовольствию. Иногда правда «разводили» и его – когда в редакцию приехал иностранец и Малютина заставили сделать ему экскурсию. Малютин показывал ему на пальцах, не стесняясь в выражениях, все равно «эта иностранная чурка ничего не понимает по-русски». В конце выяснилось, что американец очень даже прекрасно говорит по-русски и вообще это был писатель Джон Рид, который написал книгу о русской революции «10 дней которые потрясли мир». С тех пор они и дружили.
Отличительной особенностью Московских “Окон РОСТА” была используемая техника трафаретного тиражирования. Художники готовили оригинал, по оригиналу, в зависимости от числа красок, делались формы из плотной промасленной бумаги или картона. Трафаретчики прокатывали по ним краски, по этим же трафаретам раскрашивались стены домов, заборы и тротуары (иногда до 100—150 экземпляров, расходившихся по окнам агитпунктов). Идею трафаретного тиражирования подсказал некий художник Пэт - создатель плаката "Царь, поп и кулак".
Иван Малютин владел этой техникой виртуозно, что в случае с авторским плакатом означает, что рисунок должен был бить не только ярким и доступным, но и технологичным для создания трафарета.
К сожалению, то, что сегодня является бесценным сокровищем русской культуры тогда воспринималось, как обычная ежедневная работа. По сравнению с плакатами издательства ВЦИК, литературного отдела ГЛАВПУР РВСР и других центральных издательств, работы художников РОСТА сохранились в довольно незначительных количествах.
Вот пишет Маяковский в статье «Прошу слова»:
“Едва ли от всей массы «Окон» осталось сейчас более ста целых листов. Мы работали без установки на историю и славу. Вчерашний плакат безжалостно топтался в десятках переездов. Только случайно найденный у М. Черемных альбом фотографий дал возможность разыскать тексты и снимки с исчезнувшего.” Поэтому так важно сейчас показать все что есть из «Окон», а не только сохранить в коллекциях государственных музеев.
После «Окон» Иван Андреевич много работал в журналах и даже в «Крокодиле» он начал работать намного раньше]6 чем тот начал выходить – в приложении к рабочей газете которая потом стало «Крокодилом».
Самое обидное , что он очень рано умер. При этом небрежность в изучении его творчества приводят к хамским ошибкам в, казалось бы, серьезных изданиях. Так в статье к альбому «Мастера советской карикатуры» некто Крылов пишет в одном абзаце: «сотрудничал в 20—30-х годах в журналах «Бов», «Бегемот», «Безбожник», … Умер художник в 1928 году». Нет, мы понимаем, что Иван Андреич и тут мог пошутить – таков он был человек.
Самое любопытное, что Черемных и Малютин, как локомотивы стиля «Окон РОСТА» разработали для всех остальных почти единый стиль- так чтобы все персонажи были узнаваемы сразу. Если Врангель – то папаха, гильзы на мундире, усы, если поляки – то все элементы польской формы (и тоже усы), если советский рабочий – то в красной рубахе и обязательно – в красной кепочке. И только у одного автора персонажи выглядят совсем по-другому – например, советские мужчины – с длинными волосами. Этого автора звали Алексей Сергеевич Левин и все его работы можно определить по этим деталям. Вот, например Окно РОСТА № 347. Если помнишь время злое и зверей различной масти
-понаддай со ссылкой хлеба, помогай Советской власти!
Если хочешь от пожарной ты избавиться напасти
-делай общую работу: помогай Советской власти.
Если хочешь для телеги получить в запас ты части;
дай фабричным людям мяса, помогай Советской власти!
Если жизнь для внуков хочешь, без цепей и в полном счастье.
Шли сынов на фронт скорее, помогай Советской власти.
В нашей учетной карточке, полученной от Госархива автор стихов не значится. Это вполне мог бы быть Маяковский. Но проверка по академическим публикациям о творчестве Маяковского данных стихов нет. Поэтому это могла написать и Рита Райт и прочие авторы текстов, которые собирались в кабинете у Маяковского – редактора «Окон».
Но вот именно в этом «Окне» видны все признаки авторского, индивидуального стиля, который Алексей Левин сохранил в рамках огромной агитационной машины.
Алексей Сергеевич Левин родился в 1893м году в Крыму – в Севастополе. В 1909 - 1914 годах учился в Одесском художественном училище, затем в ВХУ - ПГСХМ при Академии художеств в Петрограде (1915 - 1919), окончил, но диплома не получил. Совершенно непонятно – почему. Хотя… Петроградские Государственные свободные художественные учебные мастерские (СВОМАС, ПГСХМ, ПЕГОСХУМ), было весьма своеобразное художественное учебное заведение. В ПГСХМ принимались все желающие, свободно выбиравшие себе руководителей. А потом вообще решили обходиться без руководителей. Так что неудивительно, что и приложение своим талантам студенты выбирали сами. Вот, скажем Алексей Левин понял, что его стезя – это революционное оформление города. И уже в 1918 году принимал участие в оформлении Петрограда к 1-й годовщине Октября.
Потрясающее пространственное мышление, ощущение масштаба и новой эстетики потом ему очень пригодится в жизни.
В «Окна РОСТА» его пригласил Маяковский и он переехал в Москву и участвовал в них до самого финала. Тут, в Москве коллеги прозвали его «Джоном» - из-за какой-то его модной шляпы и далее только так и называли - «Джон Левин». У него образовалась большая квартира в центре Москвы и там очень часто собиралась вся творческая компания во главе с Маяковским. Насколько можно верить воспоминаниям современников (Михаил Вольпин), они там, конечно, чаще в карты играли, чем обсуждали творческие порывы. Но сегодня это бы назвали формой team building на самом деле. Потому что коллектив «Окон РОСТА» был весьма сплоченный.
Он написал много плакатов, но его талант декоратора тоже прорывался – так, оформлял Колонный зал Дома союзов к конгрессу Коминтерна (1920). Потом попробовал себя на бюрократической дорожке: был первым заведующим отделом искусств Моссовета.
Еще одна удивительная черта подхода Левина к «Окнам». На нашем сайте можно найти Окно РОСТА № 354 на стихи Маяковского: «Гражданин! Красноармеец, защищающий тебя разут. Если у тебя лишняя пара-отдай красноармейцу, и Красная Армия пойдет к победе!» Так вот, он сделан так, что догадаться, что это трафаретная технология – очень трудно и требует внимательнейшего рассмотрения. Работы Левина – словно сделаны в единственном экземпляре в классической художественной манере. Близкой к журнальной графике изданий 1905х годов, нежели к авангарду.
В 1922 - 1925 годах делал плакаты, один из них на Международной выставке художественно-декоративных искусств в Париже получил бронзовую медаль (1925). В эти же годы (1924 - 1931) оформлял книги для различных издательств. В 1928 году принимал участие в Международной выставке «Пресса» в Кельне. Занимался оформлением советского раздела на Лейпцигской ярмарке (1932); на Всемирной выставке в Париже (1937), за оформление советского павильона получил Гран-при. Да-да, того самого, который стоял ровно напротив немецкого павильона, над которым уже тогда реял нацистский орел.
Во время войны работал в «Окнах ТАСС». В последующие годы работал преимущественно как художник-оформитель выставок в СССР и за рубежом.
Прекрасная творческая биография.
Как Бедный боролся с попами
Работа Демьяна Бедного на ниве антирелигиозной пропаганды заслуживает отдельного разговора. И разговор этот по необходимости начинается с гимназического аттестата зрелости, с которым юный Ефим Придворов поступал н историко-филологический факультет Петербургского университета. В этом аттестате красовались сплошные тройки, и лишь по одному предмету была пятерка. Этим предметом был закон божий. В итоге Павел превратился в Савла. Как это могло произойти – вопрос риторический; русским интеллигентам было свойственно сжигать то, чему они поклонялись, и поклоняться тому, что они сжигали. Важно, что знания, усвоенные Ефимом, неожиданным образом пригодились Демьяну.
Перековку поэта в атеистическом духе можно связать с тем, что в начале 1910-х годов, после не слишком удачного флирта с народниками «Русского богатства», он прибился к большевикам – будущим гонителям Церкви. Однако и среди большевиков встречались очень разные люди. Тут сразу можно вспомнить о Сталине, который на всю жизнь, кажется, сохранил семинаристскую подкладку. А можно – о богостроителях (Луначарский, Богданов), которые хотели примирить марксизм если не с православием, то хотя бы с модными религиозно-мистическими исканиями своего времени. Но даже если мы внимательно посмотрим на того человека, который непосредственно, за ручку привёл Ефима Придворова в большевистскую прессу и партию и, так сказать, демьянизировал его – на Владимира Бонч-Бруевича, то мы обнаружим, что «всё не так однозначно».
Религиовед по своим исследовательским интересам, Бонч-Бруевич и после революции возражал против оголтелой борьбы с религией и, по мнению некоторых, именно по этой причине быстро выпал из руководящей советской обоймы.
Иное дело – Ленин. С ним у Демьяна Бедного завязалась тёплая переписка, которая после революции переросла в очную и хлебосольную дружбу (всё-таки были соседями по Кремлю). Вот тот, конечно, был кремень в деле борьбы с поповщиной. Даже Гегеля, своего учителя диалектики, случалось ему назвать «идеалистической сволочью» из-за чрезмерного почтения к «боженьке». Видимо, именно влияние Ленина и сделало из Демьяна воинствующего, даже сверх меры, атеиста. Хотя именно пренебрежение ленинским диагнозом-советом - «Идёт за читателем, а надо быть впереди»- Демьяна в конце концов и сгубило.
Попы, кресты, храмы и сам Иисус. Что это было для большевистского пропагандиста? Наверное, это уже требует пояснения. Здесь я бы говорил о трёх аспектах.
Во-первых, религия противоречила единственно верному марксистскому материалистическому учению. А поскольку учение считалось заведомо прогрессивным, то есть железно обещавшим будущее процветание, то религия, стало быть – тормоз на пути прогресса. Выбирайте: трактора или иконы, медицина или крещение, наука или поповские сказки. Люди тогда просто не могли представить, что можно кропить святой водой космические ракеты и что у атомной энергетики может быть свой святой покровитель.
Во-вторых, православная Церковь в Российской империи была структурой государственной со всеми прелестями этого положения, такими как доступ полиции к тайне исповеди. Борясь против государства, революционеры просто вынуждены были бороться и с этой «полицейской церковью». Другое дело, что большевики, придя к власти и провозгласив отделение церкви от государства, предпочли «не заметить» новое независимое положение Церкви, во главе которой теперь стоял избранный Патриарх.
Наконец, в-третьих, поп, монах, богослов тоже был идеологическим работником, то есть непосредственным конкурентом того же Демьяна Бедного, равно как и любого большевистского комиссара, литератора или публициста. Тут уже срабатывало профессиональное соперничество: кто убедительнее поборется за умы людей? Фельетон – конкурент проповеди. Плакат – конкурент иконы. И если отличные оценки Ефима Придворова по закону божьему и имели какое-то значение, то прежде всего они показывали интерес и склонность этого отрока к идеологической работе как роду деятельности.
Это противостояние идеологов не могло не отразиться и на «квартирном вопросе» (вспомним булгаковский образ Ивана Бездомного, отчасти списанный с Демьяна): Демьян Бедный принял посильное – в форме моральной поддержки - участие в изгнании из Кремля насельников Чудова и Вознесенского монастырей. Именно тогда комендант Кремля Мальков услышал от него, помимо множества нецензурщины в адрес попов, единственную цензурную, якобы народную поговорку: «Попы – трутни, живут на плутни». Позже, в 1921 году, появилось стихотворение под таким названием (в 1927 году под тем же названием вышла целая брошюра, 48 страниц, с обложкой работы художника Петра Алякринского). Образ попа в стихотворении выведен двумя штрихами, но предельно чётко:
«Попу распёрло рожу – во».
«Смеётся батя и трясёт
Оплывшею утробою».
И мораль:
«Досель в духовной кабале
Кротами тёмными в земле
Крестьяне наши роются…
И роются… и роются…
Когда ж разбудит их гроза?
Когда ж, когда ж у них глаза
На трутней всех откроются?»
Здесь, как и в агитках на другие темы, Демьян обращается к своей аудитории – крестьянам и вчерашним крестьянам, подавшимся в рабочие или солдаты – с помощью средств народного стиха, народной песни. И методы убеждения соответствуют аудитории. Во-первых, поп толст, потому что вас объедает. Во-вторых, поп обрюзг, он неопрятен, он слаб, поэтому можно безнаказанно выпереть его из вашей жизни. Этому нехитрому техзаданию советские художники-плакатисты в изображении духовенства следовали в подавляющем большинстве случаев.
* * *
На плакатах послереволюционных лет попа можно видеть в двух типах сюжетов. Во-первых, это поп как таковой, если речь идёт именно об антирелигиозном плакате. Во-вторых, поп как одна из карт колоды эксплуататорских классов, врагов народной власти. Поп и белый генерал. Поп и капиталист. Поп и кулак. Ну, или все вместе, с интервентами из Антанты в довесок. Сам Демьян Бедный в 1933 году вспоминал, как он призывал народ:
«К борьбе с судьбой былой, кровавой,
К борьбе с попом и кулаком,
К борьбе с помещичьей оравой,
С Деникиным и Колчаком».
В полном ассортименте таких персонажей появляется поп на плакате Виктора Дени «Деникинская банда» (поп, разумеется, толще всех). И Демьян припечатывает:
«Черносотенная стая:
Снизу – тройня пресвятая,
А у ней над головой –
Поп, Кулак, Городовой».
В 1929 году поп всё ещё занимает достойное место в «иконостасе» врагов. Плакат того же Виктора Дени «Враги пятилетки» выходит с подписью Демьяна:
«Помещик смотрит злым барбосом,
Кулак сопит бугристым носом,
Пьянчуга с горя пьёт запоем,
Поп оголтелым воет воем».
Хотя помещиков вроде бы прогнали, но, видимо, расставаться с привычными героями авторам не хотелось.
Ярчайший пример изображения попа как главного персонажа, с жирнющей мордой, заплывшими глазками и загребущими руками, мы видим на плакате «Паук и мухи» 1919 года. Демьян Бедный комментирует рисунок того же Виктора Дени:
«Ой вы, братцы-мужики,
Казаки – трудовики,
А давно уж паука
Взять пора вам за бока:
Ваши души он «спасал» -
Вашу кровушку сосал
Да кормил жену и чад –
Паучиху, паучат,
И пыхтел, осклабив рот:
- Ай дурак же наш народ!»
Плакат неизвестного автора «Поповская камаринская» (1920-е годы) с пространным стихотворным текстом Демьяна Бедного оригинален тем, что подражает житийной иконописной композиции: два центральных рисунка, окруженные «клеймами».
Не забывали плакатисты и про другие религии. Вновь время первой пятилетки, и художник Дмитрий Моор изображает сразу и православного священника, и раввина, и муллу, причём в руках у попа не только крест, но и почему-то обрез («Окно Изогиза №6»). Демьян Бедный пишет:
«Вон запрягли какую тройку
Кулак с буржуем-богачом,
Но наш успех, но нашу стройку
Нет, не сорвать им нипочём».
Тему противопоставления атеистического прогресса и религиозной отсталости развивает Михаил Черемных (между прочим, автор «Антирелигиозной азбуки») в плакате «Крест и трактор». Композиция верхней части рисунка остроумна: на огромном кресте, который несёт пашущий крестьянин, восседают поп и кулак и пьют чай из самовара. И снова стихотворная подпись Демьяна, целых 14 четверостиший, в том числе:
«Задрожала старина
Пред Октябрьским чудом.
Пролетарский трактор – на! –
С грохотом и гудом».
Наконец, плакат неизвестного художника (Общество художников-реалистов, 1929 год) «В мусорную яму», где никаких попов нет, но есть ловкий рабочий, который совковой лопатой выкидывает целую коллекцию предметов культа – тут и кресты, и кадило, и полотно со звездой Давида, и даже статуя – видимо, Девы Марии. Демьян напутствует паренька:
«Вот он – решительный, стальной
Борец с гнилою стариной…»
И подытоживает:
«Покончим с колдовской церковной дребеденью!
Наследью грязному позорнейших годин –
Иконам и крестам, всему «святому» хламу,
Остался нынче путь один:
На свалку, в мусорную яму!»
* * *
Демьян Бедный не стал бы главным советским антирелигиозным поэтом, если бы не его Opus Magnum – «Новый Завет без изъяна евангелиста Демьяна». Здесь-то ему и пригодилось по-настоящему с детства усвоенное знание закона божьего. Огромная поэма была написана в 1923 году, примерно тогда же, когда Емельян Ярославский начал публиковать свою знаменитую «Библию для верующих и неверующих», и напечатана в 11 номерах газеты «Правда» весной 1925 года. Но если у Ярославского была попытка критического анализа библейских текстов, рассчитанная на более-менее образованного человека, то Демьян поступает с новозаветными сюжетами грубо и развязно – а впрочем, с обычным расчетом на уровень своей аудитории. Похоже, сами заказчики антирелигиозной пропаганды со временем поняли, что поэт несколько переборщил, поэтому как минимум с послевоенного времени этот текст не имел широкого хождения.
Иоанн Креститель в поэме по-простому назван Иваном Захарычем, Богородица – Марьей Акимовной. Непорочное зачатие – сами понимаете как обыгрывается:
«И вдруг к невесте-недотроге,
Когда у неё была свадьба на пороге,
Подлетел какой-то Гаврилка,
Сказал, обхватив её: - «Милка!
Такая-сякая, пригожая,
Ни на кого не похожая!
Не ломайся, брось!»
А она и копыта врозь!»
Дальше, естественно, Иисус изображается жуликом, пьяницей и развратником, апостолы – недоумками, а Иуда – единственным нормальным из всей компании. В общем, смело, но бьёт куда-то в пустоту, поскольку грамотному человеку это неинтересно, а человек, только что научившийся читать по слогам, двести с лишним страниц подобного текста просто не одолеет. Ему как-то проще было с плакатами –посмотрит на картинку и со спокойной совестью пойдёт крушить храм.
Впрочем, есть в поэме места., актуальные и по сей день. Например, вот прямо про сегодняшнюю Украину и её отношения с НАТО:
«Баре белыми ручками машут,
Приглашают гостей почтенных,
Гордецов иноплеменных:
- Как вы с капиталом,
А мы с «человеческим материалом».
Эвон сколько у нас Пахомов-Ерём!
Не дорого берём».
«Новозаветная» поэма Демьяна послужила поводом для другого текста, без которого в этом разговоре тоже не обойтись. Это послание, до сих пор приписываемое Сергею Есенину, хотя в его авторстве на допросе в ОГПУ сознался некий Николай Горбачёв. Стихотворение длинное, из него обычно цитируют «Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакеевич Придворов!» Попробуем привести другие, менее известные строки:
«Демьян, в «Евангельи» твоём
Я не нашёл правдивого ответа.
В нём много бойких слов, ох как их много в нём,
Но слова нет достойного поэта.
Я не из тех, кто признаёт попов,
Кто безотчётно верит в Бога,
Кто лоб свой расшибить готов,
Молясь у каждого церковного порога.
Я не люблю религию раба,
Покорного от века и до века,
И вера у меня в чудесные слова —
Я верю в знание и силу Человека.
Я знаю, что стремясь по нужному пути,
Здесь на земле, не расставаясь с телом,
Не мы, так кто-нибудь другой ведь должен же дойти
К воистину божественным пределам.
И всё-таки, когда я в «Правде» прочитал
Неправду о Христе блудливого Демьяна —
Мне стало стыдно, будто я попал
В блевотину, извергнутую спьяну.
Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос
Далёкий миф — мы это понимаем, —
Но всё-таки нельзя ж, как годовалый пёс,
На всё и всех захлёбываться лаем».
Отсюда видно то, что, может быть, удобно не всем цитирующим «ударные» строки: автор «послания» выступает не с позиции верующего ортодокса, человека традиционных взглядов, а скорее с позиции марксиста-богостроителя или даже «цивилизованного» атеиста. Этот текст, ушедший в народ в 1926 году, позволяет лучше понять неизбежность той опалы, которая постигла Демьяна Бедного в тридцатые годы и от которой он так и не оправился до самой смерти. Он хорошо знал свою аудиторию, но в какой-то момент она его переросла – не аудитория «бывших» или «попутчиков», никогда его не жаловавшая, а те читатели, которые безусловно предпочитали трактор кресту, но уже не были готовы потреблять безвкусицу.
Игорь Караулов.
Перековку поэта в атеистическом духе можно связать с тем, что в начале 1910-х годов, после не слишком удачного флирта с народниками «Русского богатства», он прибился к большевикам – будущим гонителям Церкви. Однако и среди большевиков встречались очень разные люди. Тут сразу можно вспомнить о Сталине, который на всю жизнь, кажется, сохранил семинаристскую подкладку. А можно – о богостроителях (Луначарский, Богданов), которые хотели примирить марксизм если не с православием, то хотя бы с модными религиозно-мистическими исканиями своего времени. Но даже если мы внимательно посмотрим на того человека, который непосредственно, за ручку привёл Ефима Придворова в большевистскую прессу и партию и, так сказать, демьянизировал его – на Владимира Бонч-Бруевича, то мы обнаружим, что «всё не так однозначно».
Религиовед по своим исследовательским интересам, Бонч-Бруевич и после революции возражал против оголтелой борьбы с религией и, по мнению некоторых, именно по этой причине быстро выпал из руководящей советской обоймы.
Иное дело – Ленин. С ним у Демьяна Бедного завязалась тёплая переписка, которая после революции переросла в очную и хлебосольную дружбу (всё-таки были соседями по Кремлю). Вот тот, конечно, был кремень в деле борьбы с поповщиной. Даже Гегеля, своего учителя диалектики, случалось ему назвать «идеалистической сволочью» из-за чрезмерного почтения к «боженьке». Видимо, именно влияние Ленина и сделало из Демьяна воинствующего, даже сверх меры, атеиста. Хотя именно пренебрежение ленинским диагнозом-советом - «Идёт за читателем, а надо быть впереди»- Демьяна в конце концов и сгубило.
Попы, кресты, храмы и сам Иисус. Что это было для большевистского пропагандиста? Наверное, это уже требует пояснения. Здесь я бы говорил о трёх аспектах.
Во-первых, религия противоречила единственно верному марксистскому материалистическому учению. А поскольку учение считалось заведомо прогрессивным, то есть железно обещавшим будущее процветание, то религия, стало быть – тормоз на пути прогресса. Выбирайте: трактора или иконы, медицина или крещение, наука или поповские сказки. Люди тогда просто не могли представить, что можно кропить святой водой космические ракеты и что у атомной энергетики может быть свой святой покровитель.
Во-вторых, православная Церковь в Российской империи была структурой государственной со всеми прелестями этого положения, такими как доступ полиции к тайне исповеди. Борясь против государства, революционеры просто вынуждены были бороться и с этой «полицейской церковью». Другое дело, что большевики, придя к власти и провозгласив отделение церкви от государства, предпочли «не заметить» новое независимое положение Церкви, во главе которой теперь стоял избранный Патриарх.
Наконец, в-третьих, поп, монах, богослов тоже был идеологическим работником, то есть непосредственным конкурентом того же Демьяна Бедного, равно как и любого большевистского комиссара, литератора или публициста. Тут уже срабатывало профессиональное соперничество: кто убедительнее поборется за умы людей? Фельетон – конкурент проповеди. Плакат – конкурент иконы. И если отличные оценки Ефима Придворова по закону божьему и имели какое-то значение, то прежде всего они показывали интерес и склонность этого отрока к идеологической работе как роду деятельности.
Это противостояние идеологов не могло не отразиться и на «квартирном вопросе» (вспомним булгаковский образ Ивана Бездомного, отчасти списанный с Демьяна): Демьян Бедный принял посильное – в форме моральной поддержки - участие в изгнании из Кремля насельников Чудова и Вознесенского монастырей. Именно тогда комендант Кремля Мальков услышал от него, помимо множества нецензурщины в адрес попов, единственную цензурную, якобы народную поговорку: «Попы – трутни, живут на плутни». Позже, в 1921 году, появилось стихотворение под таким названием (в 1927 году под тем же названием вышла целая брошюра, 48 страниц, с обложкой работы художника Петра Алякринского). Образ попа в стихотворении выведен двумя штрихами, но предельно чётко:
«Попу распёрло рожу – во».
«Смеётся батя и трясёт
Оплывшею утробою».
И мораль:
«Досель в духовной кабале
Кротами тёмными в земле
Крестьяне наши роются…
И роются… и роются…
Когда ж разбудит их гроза?
Когда ж, когда ж у них глаза
На трутней всех откроются?»
Здесь, как и в агитках на другие темы, Демьян обращается к своей аудитории – крестьянам и вчерашним крестьянам, подавшимся в рабочие или солдаты – с помощью средств народного стиха, народной песни. И методы убеждения соответствуют аудитории. Во-первых, поп толст, потому что вас объедает. Во-вторых, поп обрюзг, он неопрятен, он слаб, поэтому можно безнаказанно выпереть его из вашей жизни. Этому нехитрому техзаданию советские художники-плакатисты в изображении духовенства следовали в подавляющем большинстве случаев.
* * *
На плакатах послереволюционных лет попа можно видеть в двух типах сюжетов. Во-первых, это поп как таковой, если речь идёт именно об антирелигиозном плакате. Во-вторых, поп как одна из карт колоды эксплуататорских классов, врагов народной власти. Поп и белый генерал. Поп и капиталист. Поп и кулак. Ну, или все вместе, с интервентами из Антанты в довесок. Сам Демьян Бедный в 1933 году вспоминал, как он призывал народ:
«К борьбе с судьбой былой, кровавой,
К борьбе с попом и кулаком,
К борьбе с помещичьей оравой,
С Деникиным и Колчаком».
В полном ассортименте таких персонажей появляется поп на плакате Виктора Дени «Деникинская банда» (поп, разумеется, толще всех). И Демьян припечатывает:
«Черносотенная стая:
Снизу – тройня пресвятая,
А у ней над головой –
Поп, Кулак, Городовой».
В 1929 году поп всё ещё занимает достойное место в «иконостасе» врагов. Плакат того же Виктора Дени «Враги пятилетки» выходит с подписью Демьяна:
«Помещик смотрит злым барбосом,
Кулак сопит бугристым носом,
Пьянчуга с горя пьёт запоем,
Поп оголтелым воет воем».
Хотя помещиков вроде бы прогнали, но, видимо, расставаться с привычными героями авторам не хотелось.
Ярчайший пример изображения попа как главного персонажа, с жирнющей мордой, заплывшими глазками и загребущими руками, мы видим на плакате «Паук и мухи» 1919 года. Демьян Бедный комментирует рисунок того же Виктора Дени:
«Ой вы, братцы-мужики,
Казаки – трудовики,
А давно уж паука
Взять пора вам за бока:
Ваши души он «спасал» -
Вашу кровушку сосал
Да кормил жену и чад –
Паучиху, паучат,
И пыхтел, осклабив рот:
- Ай дурак же наш народ!»
Плакат неизвестного автора «Поповская камаринская» (1920-е годы) с пространным стихотворным текстом Демьяна Бедного оригинален тем, что подражает житийной иконописной композиции: два центральных рисунка, окруженные «клеймами».
Не забывали плакатисты и про другие религии. Вновь время первой пятилетки, и художник Дмитрий Моор изображает сразу и православного священника, и раввина, и муллу, причём в руках у попа не только крест, но и почему-то обрез («Окно Изогиза №6»). Демьян Бедный пишет:
«Вон запрягли какую тройку
Кулак с буржуем-богачом,
Но наш успех, но нашу стройку
Нет, не сорвать им нипочём».
Тему противопоставления атеистического прогресса и религиозной отсталости развивает Михаил Черемных (между прочим, автор «Антирелигиозной азбуки») в плакате «Крест и трактор». Композиция верхней части рисунка остроумна: на огромном кресте, который несёт пашущий крестьянин, восседают поп и кулак и пьют чай из самовара. И снова стихотворная подпись Демьяна, целых 14 четверостиший, в том числе:
«Задрожала старина
Пред Октябрьским чудом.
Пролетарский трактор – на! –
С грохотом и гудом».
Наконец, плакат неизвестного художника (Общество художников-реалистов, 1929 год) «В мусорную яму», где никаких попов нет, но есть ловкий рабочий, который совковой лопатой выкидывает целую коллекцию предметов культа – тут и кресты, и кадило, и полотно со звездой Давида, и даже статуя – видимо, Девы Марии. Демьян напутствует паренька:
«Вот он – решительный, стальной
Борец с гнилою стариной…»
И подытоживает:
«Покончим с колдовской церковной дребеденью!
Наследью грязному позорнейших годин –
Иконам и крестам, всему «святому» хламу,
Остался нынче путь один:
На свалку, в мусорную яму!»
* * *
Демьян Бедный не стал бы главным советским антирелигиозным поэтом, если бы не его Opus Magnum – «Новый Завет без изъяна евангелиста Демьяна». Здесь-то ему и пригодилось по-настоящему с детства усвоенное знание закона божьего. Огромная поэма была написана в 1923 году, примерно тогда же, когда Емельян Ярославский начал публиковать свою знаменитую «Библию для верующих и неверующих», и напечатана в 11 номерах газеты «Правда» весной 1925 года. Но если у Ярославского была попытка критического анализа библейских текстов, рассчитанная на более-менее образованного человека, то Демьян поступает с новозаветными сюжетами грубо и развязно – а впрочем, с обычным расчетом на уровень своей аудитории. Похоже, сами заказчики антирелигиозной пропаганды со временем поняли, что поэт несколько переборщил, поэтому как минимум с послевоенного времени этот текст не имел широкого хождения.
Иоанн Креститель в поэме по-простому назван Иваном Захарычем, Богородица – Марьей Акимовной. Непорочное зачатие – сами понимаете как обыгрывается:
«И вдруг к невесте-недотроге,
Когда у неё была свадьба на пороге,
Подлетел какой-то Гаврилка,
Сказал, обхватив её: - «Милка!
Такая-сякая, пригожая,
Ни на кого не похожая!
Не ломайся, брось!»
А она и копыта врозь!»
Дальше, естественно, Иисус изображается жуликом, пьяницей и развратником, апостолы – недоумками, а Иуда – единственным нормальным из всей компании. В общем, смело, но бьёт куда-то в пустоту, поскольку грамотному человеку это неинтересно, а человек, только что научившийся читать по слогам, двести с лишним страниц подобного текста просто не одолеет. Ему как-то проще было с плакатами –посмотрит на картинку и со спокойной совестью пойдёт крушить храм.
Впрочем, есть в поэме места., актуальные и по сей день. Например, вот прямо про сегодняшнюю Украину и её отношения с НАТО:
«Баре белыми ручками машут,
Приглашают гостей почтенных,
Гордецов иноплеменных:
- Как вы с капиталом,
А мы с «человеческим материалом».
Эвон сколько у нас Пахомов-Ерём!
Не дорого берём».
«Новозаветная» поэма Демьяна послужила поводом для другого текста, без которого в этом разговоре тоже не обойтись. Это послание, до сих пор приписываемое Сергею Есенину, хотя в его авторстве на допросе в ОГПУ сознался некий Николай Горбачёв. Стихотворение длинное, из него обычно цитируют «Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакеевич Придворов!» Попробуем привести другие, менее известные строки:
«Демьян, в «Евангельи» твоём
Я не нашёл правдивого ответа.
В нём много бойких слов, ох как их много в нём,
Но слова нет достойного поэта.
Я не из тех, кто признаёт попов,
Кто безотчётно верит в Бога,
Кто лоб свой расшибить готов,
Молясь у каждого церковного порога.
Я не люблю религию раба,
Покорного от века и до века,
И вера у меня в чудесные слова —
Я верю в знание и силу Человека.
Я знаю, что стремясь по нужному пути,
Здесь на земле, не расставаясь с телом,
Не мы, так кто-нибудь другой ведь должен же дойти
К воистину божественным пределам.
И всё-таки, когда я в «Правде» прочитал
Неправду о Христе блудливого Демьяна —
Мне стало стыдно, будто я попал
В блевотину, извергнутую спьяну.
Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос
Далёкий миф — мы это понимаем, —
Но всё-таки нельзя ж, как годовалый пёс,
На всё и всех захлёбываться лаем».
Отсюда видно то, что, может быть, удобно не всем цитирующим «ударные» строки: автор «послания» выступает не с позиции верующего ортодокса, человека традиционных взглядов, а скорее с позиции марксиста-богостроителя или даже «цивилизованного» атеиста. Этот текст, ушедший в народ в 1926 году, позволяет лучше понять неизбежность той опалы, которая постигла Демьяна Бедного в тридцатые годы и от которой он так и не оправился до самой смерти. Он хорошо знал свою аудиторию, но в какой-то момент она его переросла – не аудитория «бывших» или «попутчиков», никогда его не жаловавшая, а те читатели, которые безусловно предпочитали трактор кресту, но уже не были готовы потреблять безвкусицу.
Игорь Караулов.
Лица РОСТА
Уникальное явление искусства – «Окна РОСТА» - которое соединило в себе художественный авангард, политическую и пропагандистскую мощь, повлияло на развитие коммуникационной отрасли на много-много лет вперед. Оно породило многочисленных подражателей и очень точно отражало технические горизонты того времени – когда самым быстрым способом передачи информации был телеграф. Очень точно отражая новости в преломлении искусства, «Окна» влияли на сознание огромных масс людей, и по этому воздействию их можно сегодня сравнить разве что с интернетом.
Но спустя сто лет многие важные элементы этого явления уходят в сумрак памяти, оставляя только связку РОСТА-Маяковский, не позволяя рассмотреть других художников и авторов текстов, которые не менее Маяковского заслуживают сохранения их имен в истории. Поэтому мы расскажем о них – деятелях русского авангарда, вставших на сторону новой власти и создавших почти две тысячи листов настоящих произведений искусства.
Конечно, номер один в этом списке художник Михаил Михайлович Черемных, создатель самого первого «Окна». Сибиряк, уроженец города Томска. Если вы думаете, что Томск - это где-то далеко от «столичной культуры», то это не так. Например, в Томске были классы рисования и живописи Томского общества любителей художеств. И там по рекомендации самого Репина преподавал потрясающий русский живописец Семен Маркович Прохоров – выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, и Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств (у Ильи Репина и П. П. Чистякова). Учился он и в Италии. И этот мастер разглядел в юном Михаиле художника. И в не в нем одном – например друг Черемных Николай Котов тоже стал сильнейшим русским графиком, который и с Колчаком боролся языком плаката и Бурлюку в Сибири устраивал выставки. Не было никакой особой культурной дистанции между столицами и Сибирью. Во многом это потому, что бурлила революция девятьсот пятого года и перемешивала культурные слои в масштабах всей страны. Но уже тогда в Томске стало понятно, что молодой художник тяготеет к острому рисунку - первый рисунок Михаила Черемных, опубликованный в томском журнале «Сибирская новь» в январе 1910 года, представлял собой карикатуру на его педагогов по гимназии. Как потом напишет искусствовед Золотарев: ««Черемных – истинный авантюрист, создающий “новое” искусство и непримиримый разрушитель всего “старого”». Похоже, что это началось еще в детстве и юности.
Михаил Черемных продолжает обучение уже в Московском училище живописи ваяния и зодчества у самого Константина Коровина - с 1911 по 1917 год. И понятно, что молодой художник включился в революцию со всей страстью своего таланта. Уже в гражданскую войну он пишет агитплакаты («…Надо быть готовым», «Чтоб из этой лапы выпал нож, антифашистского фронта силы множь!»), а в 1919 году стал автором первого плаката из серии «Окна РОСТА». И вообще-то сама идея «Окон» принадлежит именно ему. Историографы ТАССа считают, что первое «Окно РОСТА» исполненное Михаилом не сохранилось. Однако галерея Vellum демонстрирует в сети одно изображение – «Помоги!», которое названо «Окном РОСТА» №1, и оно явно принадлежит кисти Черемныха. И только позже к нему присоединились В. Маяковский, И. Малютин, А. Нюренберг, О. Брик и другие художники. В 1922–1930 годы сотрудничал с журналами «Заноза», «Красный перец», «Лапоть», «Смехач». Отдельная тема – его сотрудничество с журналом «Безбожник», который самым серьезным образом занимался уничтожением религиозного сознания среди «нового населения СССР». Но вот что удивительно – практически в каждой антирелигиозной картине Черемныха сквозит тот факт, что он сам вырос в религиозной среде и на него традиция иконописи произвела неизгладимое впечатление.
В годы Великой Отечественной войны М. Черемных выполнил 58 плакатов «Окна ТАСС» («Близится час» №985, 1944; «Результат немецко-фашистских сговоров» №1008, 1944 и др.), больше него выполнили только четыре художника-автора.
В годы Великой Отечественной войны М. Черемных вновь оказался в родных сибирских краях. Тогда в творческой биографии художника уже было много ярких страниц, таких как создание легендарных Окон РОСТА, длительная и плодотворная деятельность в журнале «Крокодил» и даже работа над сложной партитурой Кремлёвских курантов. Будучи одним из авторов Окон ТАСС, в эвакуации в Бийске Черемных организует плакатную мастерскую, которая начинает выпускать агитационные листы и плакаты. Политическая карикатура художника вызывает огромный интерес, и в Барнауле организуют его выставку. В 1942 г. он участвует еще в одной выставке «Художники Сибири в дни Великой Отечественной войны», которая проходила в Новосибирске. В эвакуации Черемных работает также над эскизами к театральным постановкам
Вернувшись из эвакуации в Москву, до конца войны продолжал работу в коллективе редакции-мастерской «Окон ТАСС». В 1949–1962 годах преподавал в МГАХИ имени В. И. Сурикова, руководил мастерской плаката (1950–1954), заведующий кафедрой графики (1954–1962). Его жена Нина Александровна написала книгу воспоминаний о художнике – «Хочется, чтобы знали и другие… воспоминания о М. М. Черемныхе» (1966 год). Люди, которые знали Черемныха лично очень высоко ценили его за доброту – то есть, перед нами не образ желчного сатирика, который в злости на весь мир клеймит пороки и недостатки. Нет. Даже Борис Ефимов, тоже весьма сатиричного склада человек говорил удивительное: ««Именно доброта, душевность и рождали в нем боевую сатирическую злость против всего скверного, вредного и плохого, что служило ему мишенью».
Про Михаила Михайловича все-таки в связи с «Окнами» мы видим и публикации и вообще – уважительное внимание. Его и сам Маяковский очень уважал, потому что понимал, что есть художники «на хайпе» типа самого Владимира Владимировича, чей талант в изобразительном искусстве несоизмерим с его значением как поэта. А есть еще глубоко недооцененные авторы «Окон» типа Амшея Нюренберга.
Амшей Маркович Нюренберг, в отличие от Черемныха, совсем не сибиряк. Наоборот – он представитель «южного» направления в русском авангарде. А точнее – один из тех многочисленных талантов, урожденных на территории Малороссии, потомков беженцев из Польши, Австрии, Испании и Португалии, которые расположились в пределах Российской империи на ее южной окраине и чьи способности смогли расцвести, благодаря имперской системе поддержки художественно одаренной молодежи. Он родился в Елисаветграде (административный центр Херсонской губернии) – в городе-крепости, которая после освобождения Крыма императрицей от турок, потеряла свое стратегическое значение. Но надо сказать, что там образовался потрясающий культурно-политический «кластер» - Елисаветград в дальнейшей истории дал такое количество удивительных людей, что до сих пор искры сыплются. Отсюда и самая популярная в СССР переводчица западной литературы Рита Райт (она же автор текстов «Окон РОСТА») и Арсений Тарковский, и нобелевский лауреат по физике Игорь Тамм и даже первый президент Всемирного союза сионистов-ревизионистов Владимир (Зеев) Темкин.
Юный Амшей закончил Елисаветградское земское реальное училище, где рисование преподавал ученик И. Репина (опять Репин!) художник Ф. Козачинский. В 1904-1909 гг. учился в Одесском художественном училище у К. Костанди и Г. Ладыженского. А Кириак Константинович Костанди был вообще-то академиком Императорской академии художеств и вырос он в херсонском селе -так что-то тоже их наших «южан» - художник с потрясающей биографией. Он был и «передвижником» и одним из первых русских импрессионистов, а главное - он был преподавателем от бога. Он же был одним из основателей Товарищества южнорусских художников и председателем этого общества с 1902 года по 1920 год.
Именно на XIX выставке Товарищества южнорусских художников в 1908 году Амшей Нюренберг показал свои первые работы. Так работали социальные и творческие «лифты» тогда. В 1911 году уехал в Париж, занимался в частных академиях, в качестве художественного критика подрабатывал в русской газете “Парижский вестник”. В течение года делил мастерскую в знаменитом общежитии художников La Ruche (“Улей”) с Марком Шагалом. По возвращении в 1912 году жил в Москве и Елисаветграде.
Много работал в Одессе, а в 1919-м уехал в Москву и в 1920-м приступил к работе в Окнах РОСТА. За это время он изготовил около двухсот агитационных сатирических «окон». В это же время Нюренберг сделал ряд портретов Маяковского, которые легли в основу серии «Маяковский в РОСТА». Его стиль довольно сильно отличался от авангардного упрощения «а-ля Маяковский». Достаточно глянуть на сайте artprop.gaz.moscow его Окно РОСТА «№ 353. Железнодорожник! Красная армия, защищающая Коммуну страдает от разрухи» [конец сентября - начало октября 1920]. Фигуры, населяющие 4 рисунка составного «окна» ближе по фактуре даже не к народному лубку, а скорей к палехским рисункам для лаковых шкатулок. Даже вспомогательные формы – типа дыма от паровоза - написаны в сказочной традиции и агитационный плакат выглядит и работает совсем на другом уровне, нежели рубленые формы того же Маяковского.
В 1927м Луначарский посылает Нюренберга в Париж в командировку. На этот раз – читать лекции о феномене советского революционного авангарда. Что говорит нам о том, что нарком просвещения все хорошо понимал насчет «мягкой силы», как формы пропаганды за рубежом.
В 1941м Нюренберг был эвакуирован в Ташкент, однако, уже в 1943м он был уже опять в Москве. Продолжил заниматься живописью и литературным трудом. Он оставил после себя много воспоминаний. При жизни А. Нюренберга вышла его книга “Воспоминания, встречи, мысли об искусстве”.
Для того, чтобы немного рассказать о рабочей обстановке в «Окнах», приведем цитату из воспоминаний Амшея Марковича: «Летом 1920 года, узнав, что Маяковский собирает художников и налаживает в РОСТА выпуск агитационных плакатов, я отправился туда к нему. РОСТА помещалось в Милютинском переулке (сейчас улица Мархлевского). Пятый этаж, замызганная лестница, фанерные коридоры. Меня поразила комната, в которой работал Маяковский: небольшая, неприветливая. Пахло клеем, табаком и гнилой бумагой. На фанерных стенах висели ярчайшие плакаты - "Окна сатиры".
У ветхого стола, заваленного бумагой и папиросными коробками, на старом венском стуле сидел Маяковский. На поэте расстегнутый ватный пиджак с меховым воротником, коричневое шерстяное кашне и добротная каракулевая шапка, как обычно сдвинутая да затылок. Крупно вылепленное, южное лицо окутано голубым табачным дымом. Маяковский что-то быстро записывает. В его руке прыгающий свинцовый карандаш. Я поздоровался. Он встал и дружески пожал мою руку.
- Ну вот... очень хорошо, - сказал он, не выпуская изо рта папиросу. Голос звучал густо, тепло. - Очень хорошо сделали, что пришли. Нам нужны работники. Я верю, что все художники придут в РОСТА. Только здесь возможна настоящая творческая художественная жизнь. Сейчас надо писать не тоскующих девушек и не лирические пейзажи, а агитационные плакаты. Станковая живопись никому нынче не нужна. Ваши меценаты думают теперь не о Сезанне и Матиссе, а о пшенной крупе и подсолнечном масле... Ну, а Красной Армии, истекающей на фронтах кровью, картинки сейчас ни к чему.
Я согласился с ним.
- Итак, да здравствует агитационный плакат! Завтра в десять часов утра вы уже должны быть с первой работой.
Получив десяток листов газетного срыва, несколько пакетов остропахнувших анилиновых красок, столярного клея и тему (Маяковский написал ее тут же, при мне, на листе блокнота), я, с колотившимся сердцем, бросился домой.
Ежедневно в десять часов утра работники РОСТА собирались вокруг Маяковского: грузный, молчаливый и трудолюбивый Черемных, веселый балагур, темпераментный Малютин и я. Иногда приходили Левин и Лавинский.
Маяковский принимал нашу работу на ходу. Мнение свое высказывал резко и откровенно, смягчая свои слова только тогда, когда перед ним были плакаты Черемныха. Поэт очень высоко ставил все то, что делал этот мастер карикатуры. Я не преувеличу, если скажу, что Маяковский многому научился у него. Малютин и я часто наблюдали, как Маяковский, заимствуя у Черемныха те или другие образы, стремился их по-своему передать. Маяковский и не скрывал этого.
- Это я под влиянием Михал Михалыча сделал, - откровенно говорил он.
Малютина Маяковский любил и ценил как художника щедрого, настоящего смеха. Часто, рассматривая его плакаты, Маяковский повторял:
- Здорово, Малютин. Очень смешно и очень хорошо! Браво!
Поэту нравилась малютинская страсть ко всему новому в искусстве. Малютин в то время сильно увлекался творчеством Сезанна и некоторые "осезаненные" плакаты свои подписывал "Иван Малютин а-lа Сезанн".
Так что нам надо будет обязательно рассказать и про Ивана Малютина тоже.
Но спустя сто лет многие важные элементы этого явления уходят в сумрак памяти, оставляя только связку РОСТА-Маяковский, не позволяя рассмотреть других художников и авторов текстов, которые не менее Маяковского заслуживают сохранения их имен в истории. Поэтому мы расскажем о них – деятелях русского авангарда, вставших на сторону новой власти и создавших почти две тысячи листов настоящих произведений искусства.
Конечно, номер один в этом списке художник Михаил Михайлович Черемных, создатель самого первого «Окна». Сибиряк, уроженец города Томска. Если вы думаете, что Томск - это где-то далеко от «столичной культуры», то это не так. Например, в Томске были классы рисования и живописи Томского общества любителей художеств. И там по рекомендации самого Репина преподавал потрясающий русский живописец Семен Маркович Прохоров – выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, и Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств (у Ильи Репина и П. П. Чистякова). Учился он и в Италии. И этот мастер разглядел в юном Михаиле художника. И в не в нем одном – например друг Черемных Николай Котов тоже стал сильнейшим русским графиком, который и с Колчаком боролся языком плаката и Бурлюку в Сибири устраивал выставки. Не было никакой особой культурной дистанции между столицами и Сибирью. Во многом это потому, что бурлила революция девятьсот пятого года и перемешивала культурные слои в масштабах всей страны. Но уже тогда в Томске стало понятно, что молодой художник тяготеет к острому рисунку - первый рисунок Михаила Черемных, опубликованный в томском журнале «Сибирская новь» в январе 1910 года, представлял собой карикатуру на его педагогов по гимназии. Как потом напишет искусствовед Золотарев: ««Черемных – истинный авантюрист, создающий “новое” искусство и непримиримый разрушитель всего “старого”». Похоже, что это началось еще в детстве и юности.
Михаил Черемных продолжает обучение уже в Московском училище живописи ваяния и зодчества у самого Константина Коровина - с 1911 по 1917 год. И понятно, что молодой художник включился в революцию со всей страстью своего таланта. Уже в гражданскую войну он пишет агитплакаты («…Надо быть готовым», «Чтоб из этой лапы выпал нож, антифашистского фронта силы множь!»), а в 1919 году стал автором первого плаката из серии «Окна РОСТА». И вообще-то сама идея «Окон» принадлежит именно ему. Историографы ТАССа считают, что первое «Окно РОСТА» исполненное Михаилом не сохранилось. Однако галерея Vellum демонстрирует в сети одно изображение – «Помоги!», которое названо «Окном РОСТА» №1, и оно явно принадлежит кисти Черемныха. И только позже к нему присоединились В. Маяковский, И. Малютин, А. Нюренберг, О. Брик и другие художники. В 1922–1930 годы сотрудничал с журналами «Заноза», «Красный перец», «Лапоть», «Смехач». Отдельная тема – его сотрудничество с журналом «Безбожник», который самым серьезным образом занимался уничтожением религиозного сознания среди «нового населения СССР». Но вот что удивительно – практически в каждой антирелигиозной картине Черемныха сквозит тот факт, что он сам вырос в религиозной среде и на него традиция иконописи произвела неизгладимое впечатление.
В годы Великой Отечественной войны М. Черемных выполнил 58 плакатов «Окна ТАСС» («Близится час» №985, 1944; «Результат немецко-фашистских сговоров» №1008, 1944 и др.), больше него выполнили только четыре художника-автора.
В годы Великой Отечественной войны М. Черемных вновь оказался в родных сибирских краях. Тогда в творческой биографии художника уже было много ярких страниц, таких как создание легендарных Окон РОСТА, длительная и плодотворная деятельность в журнале «Крокодил» и даже работа над сложной партитурой Кремлёвских курантов. Будучи одним из авторов Окон ТАСС, в эвакуации в Бийске Черемных организует плакатную мастерскую, которая начинает выпускать агитационные листы и плакаты. Политическая карикатура художника вызывает огромный интерес, и в Барнауле организуют его выставку. В 1942 г. он участвует еще в одной выставке «Художники Сибири в дни Великой Отечественной войны», которая проходила в Новосибирске. В эвакуации Черемных работает также над эскизами к театральным постановкам
Вернувшись из эвакуации в Москву, до конца войны продолжал работу в коллективе редакции-мастерской «Окон ТАСС». В 1949–1962 годах преподавал в МГАХИ имени В. И. Сурикова, руководил мастерской плаката (1950–1954), заведующий кафедрой графики (1954–1962). Его жена Нина Александровна написала книгу воспоминаний о художнике – «Хочется, чтобы знали и другие… воспоминания о М. М. Черемныхе» (1966 год). Люди, которые знали Черемныха лично очень высоко ценили его за доброту – то есть, перед нами не образ желчного сатирика, который в злости на весь мир клеймит пороки и недостатки. Нет. Даже Борис Ефимов, тоже весьма сатиричного склада человек говорил удивительное: ««Именно доброта, душевность и рождали в нем боевую сатирическую злость против всего скверного, вредного и плохого, что служило ему мишенью».
Про Михаила Михайловича все-таки в связи с «Окнами» мы видим и публикации и вообще – уважительное внимание. Его и сам Маяковский очень уважал, потому что понимал, что есть художники «на хайпе» типа самого Владимира Владимировича, чей талант в изобразительном искусстве несоизмерим с его значением как поэта. А есть еще глубоко недооцененные авторы «Окон» типа Амшея Нюренберга.
Амшей Маркович Нюренберг, в отличие от Черемныха, совсем не сибиряк. Наоборот – он представитель «южного» направления в русском авангарде. А точнее – один из тех многочисленных талантов, урожденных на территории Малороссии, потомков беженцев из Польши, Австрии, Испании и Португалии, которые расположились в пределах Российской империи на ее южной окраине и чьи способности смогли расцвести, благодаря имперской системе поддержки художественно одаренной молодежи. Он родился в Елисаветграде (административный центр Херсонской губернии) – в городе-крепости, которая после освобождения Крыма императрицей от турок, потеряла свое стратегическое значение. Но надо сказать, что там образовался потрясающий культурно-политический «кластер» - Елисаветград в дальнейшей истории дал такое количество удивительных людей, что до сих пор искры сыплются. Отсюда и самая популярная в СССР переводчица западной литературы Рита Райт (она же автор текстов «Окон РОСТА») и Арсений Тарковский, и нобелевский лауреат по физике Игорь Тамм и даже первый президент Всемирного союза сионистов-ревизионистов Владимир (Зеев) Темкин.
Юный Амшей закончил Елисаветградское земское реальное училище, где рисование преподавал ученик И. Репина (опять Репин!) художник Ф. Козачинский. В 1904-1909 гг. учился в Одесском художественном училище у К. Костанди и Г. Ладыженского. А Кириак Константинович Костанди был вообще-то академиком Императорской академии художеств и вырос он в херсонском селе -так что-то тоже их наших «южан» - художник с потрясающей биографией. Он был и «передвижником» и одним из первых русских импрессионистов, а главное - он был преподавателем от бога. Он же был одним из основателей Товарищества южнорусских художников и председателем этого общества с 1902 года по 1920 год.
Именно на XIX выставке Товарищества южнорусских художников в 1908 году Амшей Нюренберг показал свои первые работы. Так работали социальные и творческие «лифты» тогда. В 1911 году уехал в Париж, занимался в частных академиях, в качестве художественного критика подрабатывал в русской газете “Парижский вестник”. В течение года делил мастерскую в знаменитом общежитии художников La Ruche (“Улей”) с Марком Шагалом. По возвращении в 1912 году жил в Москве и Елисаветграде.
Много работал в Одессе, а в 1919-м уехал в Москву и в 1920-м приступил к работе в Окнах РОСТА. За это время он изготовил около двухсот агитационных сатирических «окон». В это же время Нюренберг сделал ряд портретов Маяковского, которые легли в основу серии «Маяковский в РОСТА». Его стиль довольно сильно отличался от авангардного упрощения «а-ля Маяковский». Достаточно глянуть на сайте artprop.gaz.moscow его Окно РОСТА «№ 353. Железнодорожник! Красная армия, защищающая Коммуну страдает от разрухи» [конец сентября - начало октября 1920]. Фигуры, населяющие 4 рисунка составного «окна» ближе по фактуре даже не к народному лубку, а скорей к палехским рисункам для лаковых шкатулок. Даже вспомогательные формы – типа дыма от паровоза - написаны в сказочной традиции и агитационный плакат выглядит и работает совсем на другом уровне, нежели рубленые формы того же Маяковского.
В 1927м Луначарский посылает Нюренберга в Париж в командировку. На этот раз – читать лекции о феномене советского революционного авангарда. Что говорит нам о том, что нарком просвещения все хорошо понимал насчет «мягкой силы», как формы пропаганды за рубежом.
В 1941м Нюренберг был эвакуирован в Ташкент, однако, уже в 1943м он был уже опять в Москве. Продолжил заниматься живописью и литературным трудом. Он оставил после себя много воспоминаний. При жизни А. Нюренберга вышла его книга “Воспоминания, встречи, мысли об искусстве”.
Для того, чтобы немного рассказать о рабочей обстановке в «Окнах», приведем цитату из воспоминаний Амшея Марковича: «Летом 1920 года, узнав, что Маяковский собирает художников и налаживает в РОСТА выпуск агитационных плакатов, я отправился туда к нему. РОСТА помещалось в Милютинском переулке (сейчас улица Мархлевского). Пятый этаж, замызганная лестница, фанерные коридоры. Меня поразила комната, в которой работал Маяковский: небольшая, неприветливая. Пахло клеем, табаком и гнилой бумагой. На фанерных стенах висели ярчайшие плакаты - "Окна сатиры".
У ветхого стола, заваленного бумагой и папиросными коробками, на старом венском стуле сидел Маяковский. На поэте расстегнутый ватный пиджак с меховым воротником, коричневое шерстяное кашне и добротная каракулевая шапка, как обычно сдвинутая да затылок. Крупно вылепленное, южное лицо окутано голубым табачным дымом. Маяковский что-то быстро записывает. В его руке прыгающий свинцовый карандаш. Я поздоровался. Он встал и дружески пожал мою руку.
- Ну вот... очень хорошо, - сказал он, не выпуская изо рта папиросу. Голос звучал густо, тепло. - Очень хорошо сделали, что пришли. Нам нужны работники. Я верю, что все художники придут в РОСТА. Только здесь возможна настоящая творческая художественная жизнь. Сейчас надо писать не тоскующих девушек и не лирические пейзажи, а агитационные плакаты. Станковая живопись никому нынче не нужна. Ваши меценаты думают теперь не о Сезанне и Матиссе, а о пшенной крупе и подсолнечном масле... Ну, а Красной Армии, истекающей на фронтах кровью, картинки сейчас ни к чему.
Я согласился с ним.
- Итак, да здравствует агитационный плакат! Завтра в десять часов утра вы уже должны быть с первой работой.
Получив десяток листов газетного срыва, несколько пакетов остропахнувших анилиновых красок, столярного клея и тему (Маяковский написал ее тут же, при мне, на листе блокнота), я, с колотившимся сердцем, бросился домой.
Ежедневно в десять часов утра работники РОСТА собирались вокруг Маяковского: грузный, молчаливый и трудолюбивый Черемных, веселый балагур, темпераментный Малютин и я. Иногда приходили Левин и Лавинский.
Маяковский принимал нашу работу на ходу. Мнение свое высказывал резко и откровенно, смягчая свои слова только тогда, когда перед ним были плакаты Черемныха. Поэт очень высоко ставил все то, что делал этот мастер карикатуры. Я не преувеличу, если скажу, что Маяковский многому научился у него. Малютин и я часто наблюдали, как Маяковский, заимствуя у Черемныха те или другие образы, стремился их по-своему передать. Маяковский и не скрывал этого.
- Это я под влиянием Михал Михалыча сделал, - откровенно говорил он.
Малютина Маяковский любил и ценил как художника щедрого, настоящего смеха. Часто, рассматривая его плакаты, Маяковский повторял:
- Здорово, Малютин. Очень смешно и очень хорошо! Браво!
Поэту нравилась малютинская страсть ко всему новому в искусстве. Малютин в то время сильно увлекался творчеством Сезанна и некоторые "осезаненные" плакаты свои подписывал "Иван Малютин а-lа Сезанн".
Так что нам надо будет обязательно рассказать и про Ивана Малютина тоже.
Двери для РОСТА
В любом масштабном культурном проекте есть моменты, когда заявленные цели и задачи вдруг получают иное измерение. И становится понятно, что вот именно сейчас мы собственными руками прикасаемся к истории…даже не искусства и не пропаганды, а истории всей страны. Так происходит сейчас с проектом «Искусство пропаганды», когда мы приступили к работе с Государственным архивом РФ, который оказался крупнейшим хранителем работ художников, трудившихся над созданием уникального проекта, которые принято называть «Окна РОСТА».
Владимир Маяковский как художник и поэт, Алексей Левин, Михаил Черемных, Амшей Нюренберг, Иван Малютин, Владимир Роскин, автор текстов Рита Райт, Антон Лавинский и другие. При этом нам с популярнейшим фотографом Геннадием Авраменко, который трудился в архиве, вручили не «плакаты» , а оригинальные авторские листы – составные части «Окон», некоторые из который состоят из восьми-двенадцати частей.
Это непередаваемое чувство – когда ты очень аккуратно ставишь на пюпитр для фотосъемки лист, который сто три года года назад разрисовывал сам Владимир Маяковский лично. Или Михаил Черемных, у которого в агитационно-плакатном деле буквально статус культового художника.
Сто три года! А краски, формы и даже многие темы – как будто это 21й век- ничто не кажется устаревшим, «немодным», «так уже не рисуют». Еще как рисуют – даже современная поп-культура и реклама вышла с этих почти невыцветших листов.
По науке – наименее стабильный цвет – красный. Так уж получилось, что первым всегда выцветает красный пигмент. Но тут оказалось все не так – чаще всего выцветают подписи, сделанные черным. Как будто время хочет показать оригинальность образа и замысла художника без привязки к тексту столетнего политического хронографа.
А дальше началось полное погружение в полученные материалы. Казалось бы – про Окна РОСТА знают все, причем, с детства. То есть, если человек в чтении литературы, хотя бы из-за школьной программы дошел до Маяковского, тут же всплывут «Окна РОСТА». Более того – начинает казаться, что именно Маяковский сделал все Окна РОСТА и буквально для каждого написал гениальное стихотворение. Это восприятие и величие Маяковского в рамках русской-советской поэзии во многом сыграло с «Окнами» дурную шутку. Дело в том, что школа «маяковсковедения» у нас богатая и весьма научная – ни одно написанное Маяковским слово не прошло мимо ученых и такого не было, чтобы слова эти не попали в академические сборники, были изучены со всех сторон, оценены, описаны и каталогизированы. С «Окнами» это совсем не так. И получается, что в академических сборниках вы можете найти буквально все, что Владимир Владимирович написал в рамках проекта РОСТА, а самих изображений…там нет. Потому что академическая литература – не совсем место для репродукций картинок. То, что встречается в связи с Маяковским весьма разрозненно, обычно в черно-белой репродукции самого низкого качества. Это тоже можно понять – см. выше. То, что можно найти в сети это обычно самые известные плакаты, которые не только неверно аттрибутированы, но и не показывают разнообразие стилей, художественных техник, авторских подходов, которое становятся очевидны при внимательном рассмотрении качественных репродукций с оригиналов. И вообще сливается в некий красно-черный ряд каких то непонятных изображений каких-то людей, среди которых в лучшем случае можно отчетливо разглядеть коммунистического рабочего или красного воина, который воюет с чем-то империалистическо-черным. Но все гораздо-гораздо сложней и прекрасней.
И вообще – основоположником «Окон» был совсем не Маяковский, а прекрасный художник Михаил Черемных. Хотя, первое, что вам покажут поисковики это «Окна РОСТА Маяковского». Это неправда. А точней – неверно понимаемый маркетинг. Если лимонад – то «Колокольчик», если пальто, то «Большевичка», если «Окно РОСТА», то Маяковского. Люди сегодня не в состоянии держать в голове больше одного факта, предпочитая интернет как источник мудрости и знаний.
Да и не назывались они сначала никакими «Окнами РОСТА». Они назывались «Окна сатиры РОСТА», «Витрины сатиры РОСТА», «Окна РОСТА» и чаще всего просто «РОСТА». РОСТА – это Российское телеграфное агентство, которое было образовано 7 сентября 1918 года.
Первое "Окно сатиры РОСТА" было посвящено наступлению на Москву войск главнокомандующего Вооруженными силами Юга России Антона Деникина и поражению коммунистов в Венгрии. Оно содержало карикатуры, сатирические стихи и фельетоны. Плакат был создан художником Михаилом Черемных (1890-1962) и поэтом Николаем Ивановым-Граменом (1885-1961). После одобрения ответственным руководителем РОСТА Платоном Керженцевым (1881-1940) в конце сентября 1919 года его разместили в витрине бывшего магазина "Фабрично-торгового товарищества А. И. Абрикосова сыновей" на углу Тверской улицы и Чернышёвского переулка. Но вот беда – не осталось от этого самого первого «окна» совсем ничего. Так что тот, кто найдет его на чердаке у бабушки, сразу станет рублевым миллионером.
И тут мы подходим к вопросу технологии.
То самое первое «Окно Сатиры РОСТА» Михаил Черемных нарисовал в единственном экземпляре – типа оперативный отклик на текущие события в стране и мире. Но формат имел такой успех, что все задумались над тем, чтобы «окна» тиражировать. Типографский способ совсем не подходил – были проблемы с бумагой, с типографской краской, с самими типографиями и в конце концов с оперативностью, несмотря на то, что первоначальная периодичность выпусков была раз в неделю.
К декабрю 1919 года в Москве имелось девять витрин с постоянно обновлявшимися "Окнами РОСТА" - в зданиях на Кузнецком Мосту, Сретенке и др. Тогда решено было кинуть на проект художников, которые моментально перерисовывали плакаты с «мастер-постера». При увеличении потребности перешли на трафаретную технологию. Эта технология потом вернулась к нам (а точнее – «к ним») вместе с движением городских граффитистов, например, Banksy. Эти «Окна» сразу видно – их линии прерывисты, в отличие от «ручных» произведений. Кстати, при ближайшем рассмотрении даешься диву – насколько тонко и технологично выполнены эти трафареты – это реальное произведение искусства в строгих технических рамках. За три часа таким образом удавалось сделать тираж в 300 плакатов. Это началось в 1920-м году.
Копии моментально выставлялись в витринах, а также на вокзальных агитпунктах и других оживленных местах. "Окна РОСТА" были типа тогдашнего интернета: значительно оперативнее еженедельных общественно-политических журналов, они же дополняли материалы ежедневных газет.
Постепенно исчезло слово «Сатира». Когда государство поняло, насколько мощный инструмент у него оказался в руках, вместо сугубо сатирического подхода, настал вполне серьезный. Тем более, многие трагические события как-то не очень вязались со смешками, даже сатирическими и едкими. И они стали просто «Окна РОСТА» или «РОСТА» и далее следовал номер. Но к нашему разочарованию, с нумерацией все очень сложно. Первые выпуски не имели сквозной нумерации. Она пришла только в феврале - марте 1920 года, когда была введена общая нумерация всех "Окон РОСТА". Весной того же года около 300 экземпляров московских плакатов начали рассылать в 47 местных отделений Российского телеграфного агентства. Наряду с этим, самостоятельный выпуск плакатов наладил ряд филиалов: Одесский (ЮгРОСТА), Омский (СибРОСТА) и др. В Петроградском отделении РОСТА (ПетроРОСТА) в апреле - мае 1920 года был создан специальный плакатный отдел. Его возглавил художник Владимир Козлинский, помощниками которого стали Владимир Лебедев и Лев Бродаты. Они начали выпуск петроградских "Окон РОСТА". Тексты к ним писали сатирики Владимир Воинов и Александр Флит. Петроградские "Окна РОСТА" выставлялись в витринах пустующих магазинов, демонстрировались на заводах и фабриках, в рабочих клубах и воинских частях. ТАССовские историографы (как правооприемники) нам сообщают , что к началу 1921 года "Окна сатиры" выходили в более чем 50 городах. Но вот мы собираем по листу Окно РОСТА № 353 с вот таким текстом: Железнодорожник! Красная армия, защищающая Коммуну страдает от разрухи. Последнюю каплю твоих сил отдай на борьбу с разрухой. Фронт подкрепят поезда и будет близок мир для несущихся к нему на паровозе.» Какая тут может быть «Сатира»? На кого? И понятно, что у этого плаката (автор
Амшей Нюренберг [конец сентября - начало октября 1920) просто написано: «Наркомпрос РОСТА №353». Ни тебе «Окна» , ни тебе «Сатиры». А многочисленные девелоперы московского проекта на провинциальной сцене -одесские, омские, питерские, дробя успешный бренд , увеличивали охват населения пропагандой, но для исследователя чрезвычайно затруднили нумерацию и аттрибуцию. А ведь мы потом увидим и «Агитокна» в Саратове – весьма мощное течение во время войны, малоизученное столичными искусствоведами. Увидим мы и «Окна ТАСС», которые в войну сменили агитпроизведения РОСТА.
Что сделал Маяковский? Он упростил формат лубка, которым пользовался Черемных. И предложил в нескольких кадрах концентрировать внимание на разработке одной темы и одной проблемы. Ну и конечно – его поэтический гений позволял очень емко формулировать в очень запоминающейся форме подписи к «Окнам». Удивительные авторы подключились к созданию подписей. Внезапно , например, выясняется , что много «Окон» написала Рита Райт (псевдоним Раисы Черномордик из Херсона), которая потом стала Ритой Райт-Ковалевой, основной проводницей западной культуры за «железный занавес» в СССР в виде переводов Сэлинджера, Воннегута и прочих американских авторов (да-да, та самая, которая переводила «гамбургер» как «котлета»).
Буквально все художники, которые выпустили почти две тысячи листов «Окон» - это деятели русского художественного авангарда. И поэтому каждый лист несет на себе отпечаток именно самого передового авангардного искусства. И сам является произведением русского авангарда. Тут даже не поспоришь.
Многие рукотворные произведения были переизданы потом, когда появились какие-то деньги и типографские возможности у Наркомпроса , под которым как раз и действовали группы художников. Так сегодняшней публике Окно РОСТА № 241, которое имело первым листом надпись «Царь голод». (Сья история была в некоей республике-баба на базар плыла, а у бабы бублики…) например, известно в виде типографского тиражного плаката, пересобранного под названием «История про бублики и про бабу, не признающую республики» с большим лого «РСФСР».
И оно отчего-то приобрело какое-то невиданное значение: на текст этого плаката выдающийся советский композитор Георгий Свиридов написал арию в 1957 году как часть Патетической оратории «Разговор с товарищем Лениным». Мы ее еще застали в исполнении Эдуарда Хиля. Так что не все так просто с этими «Окнами РОСТА».
Это было ярчайшее и уникальное явление в искусстве и в пропаганде, и оно промелькнуло кометой через советский небосовод – к 1921му году все кончилось, как и параллельно закончился роман советской власти с авангардом.
Через «Окно» прошло удивительное число художников мирового уровня – вплоть до Казимира Малевича. Вот можете себе представить – что где-то в каком-то хранилище лежит «Окно РОСТА», написанное рукой Малевича. Трудно себе представить ценность такого произведения… с любой точки зрения. А скорей всего – лежит…
Проект «Арт-Проп» продолжает публикации уникального собрания из Государственного архива РФ, за что огромное спасибо его директору Ларисе Александровне Роговой.
Сохраним историю страны вместе!
Владимир Маяковский как художник и поэт, Алексей Левин, Михаил Черемных, Амшей Нюренберг, Иван Малютин, Владимир Роскин, автор текстов Рита Райт, Антон Лавинский и другие. При этом нам с популярнейшим фотографом Геннадием Авраменко, который трудился в архиве, вручили не «плакаты» , а оригинальные авторские листы – составные части «Окон», некоторые из который состоят из восьми-двенадцати частей.
Это непередаваемое чувство – когда ты очень аккуратно ставишь на пюпитр для фотосъемки лист, который сто три года года назад разрисовывал сам Владимир Маяковский лично. Или Михаил Черемных, у которого в агитационно-плакатном деле буквально статус культового художника.
Сто три года! А краски, формы и даже многие темы – как будто это 21й век- ничто не кажется устаревшим, «немодным», «так уже не рисуют». Еще как рисуют – даже современная поп-культура и реклама вышла с этих почти невыцветших листов.
По науке – наименее стабильный цвет – красный. Так уж получилось, что первым всегда выцветает красный пигмент. Но тут оказалось все не так – чаще всего выцветают подписи, сделанные черным. Как будто время хочет показать оригинальность образа и замысла художника без привязки к тексту столетнего политического хронографа.
А дальше началось полное погружение в полученные материалы. Казалось бы – про Окна РОСТА знают все, причем, с детства. То есть, если человек в чтении литературы, хотя бы из-за школьной программы дошел до Маяковского, тут же всплывут «Окна РОСТА». Более того – начинает казаться, что именно Маяковский сделал все Окна РОСТА и буквально для каждого написал гениальное стихотворение. Это восприятие и величие Маяковского в рамках русской-советской поэзии во многом сыграло с «Окнами» дурную шутку. Дело в том, что школа «маяковсковедения» у нас богатая и весьма научная – ни одно написанное Маяковским слово не прошло мимо ученых и такого не было, чтобы слова эти не попали в академические сборники, были изучены со всех сторон, оценены, описаны и каталогизированы. С «Окнами» это совсем не так. И получается, что в академических сборниках вы можете найти буквально все, что Владимир Владимирович написал в рамках проекта РОСТА, а самих изображений…там нет. Потому что академическая литература – не совсем место для репродукций картинок. То, что встречается в связи с Маяковским весьма разрозненно, обычно в черно-белой репродукции самого низкого качества. Это тоже можно понять – см. выше. То, что можно найти в сети это обычно самые известные плакаты, которые не только неверно аттрибутированы, но и не показывают разнообразие стилей, художественных техник, авторских подходов, которое становятся очевидны при внимательном рассмотрении качественных репродукций с оригиналов. И вообще сливается в некий красно-черный ряд каких то непонятных изображений каких-то людей, среди которых в лучшем случае можно отчетливо разглядеть коммунистического рабочего или красного воина, который воюет с чем-то империалистическо-черным. Но все гораздо-гораздо сложней и прекрасней.
И вообще – основоположником «Окон» был совсем не Маяковский, а прекрасный художник Михаил Черемных. Хотя, первое, что вам покажут поисковики это «Окна РОСТА Маяковского». Это неправда. А точней – неверно понимаемый маркетинг. Если лимонад – то «Колокольчик», если пальто, то «Большевичка», если «Окно РОСТА», то Маяковского. Люди сегодня не в состоянии держать в голове больше одного факта, предпочитая интернет как источник мудрости и знаний.
Да и не назывались они сначала никакими «Окнами РОСТА». Они назывались «Окна сатиры РОСТА», «Витрины сатиры РОСТА», «Окна РОСТА» и чаще всего просто «РОСТА». РОСТА – это Российское телеграфное агентство, которое было образовано 7 сентября 1918 года.
Первое "Окно сатиры РОСТА" было посвящено наступлению на Москву войск главнокомандующего Вооруженными силами Юга России Антона Деникина и поражению коммунистов в Венгрии. Оно содержало карикатуры, сатирические стихи и фельетоны. Плакат был создан художником Михаилом Черемных (1890-1962) и поэтом Николаем Ивановым-Граменом (1885-1961). После одобрения ответственным руководителем РОСТА Платоном Керженцевым (1881-1940) в конце сентября 1919 года его разместили в витрине бывшего магазина "Фабрично-торгового товарищества А. И. Абрикосова сыновей" на углу Тверской улицы и Чернышёвского переулка. Но вот беда – не осталось от этого самого первого «окна» совсем ничего. Так что тот, кто найдет его на чердаке у бабушки, сразу станет рублевым миллионером.
И тут мы подходим к вопросу технологии.
То самое первое «Окно Сатиры РОСТА» Михаил Черемных нарисовал в единственном экземпляре – типа оперативный отклик на текущие события в стране и мире. Но формат имел такой успех, что все задумались над тем, чтобы «окна» тиражировать. Типографский способ совсем не подходил – были проблемы с бумагой, с типографской краской, с самими типографиями и в конце концов с оперативностью, несмотря на то, что первоначальная периодичность выпусков была раз в неделю.
К декабрю 1919 года в Москве имелось девять витрин с постоянно обновлявшимися "Окнами РОСТА" - в зданиях на Кузнецком Мосту, Сретенке и др. Тогда решено было кинуть на проект художников, которые моментально перерисовывали плакаты с «мастер-постера». При увеличении потребности перешли на трафаретную технологию. Эта технология потом вернулась к нам (а точнее – «к ним») вместе с движением городских граффитистов, например, Banksy. Эти «Окна» сразу видно – их линии прерывисты, в отличие от «ручных» произведений. Кстати, при ближайшем рассмотрении даешься диву – насколько тонко и технологично выполнены эти трафареты – это реальное произведение искусства в строгих технических рамках. За три часа таким образом удавалось сделать тираж в 300 плакатов. Это началось в 1920-м году.
Копии моментально выставлялись в витринах, а также на вокзальных агитпунктах и других оживленных местах. "Окна РОСТА" были типа тогдашнего интернета: значительно оперативнее еженедельных общественно-политических журналов, они же дополняли материалы ежедневных газет.
Постепенно исчезло слово «Сатира». Когда государство поняло, насколько мощный инструмент у него оказался в руках, вместо сугубо сатирического подхода, настал вполне серьезный. Тем более, многие трагические события как-то не очень вязались со смешками, даже сатирическими и едкими. И они стали просто «Окна РОСТА» или «РОСТА» и далее следовал номер. Но к нашему разочарованию, с нумерацией все очень сложно. Первые выпуски не имели сквозной нумерации. Она пришла только в феврале - марте 1920 года, когда была введена общая нумерация всех "Окон РОСТА". Весной того же года около 300 экземпляров московских плакатов начали рассылать в 47 местных отделений Российского телеграфного агентства. Наряду с этим, самостоятельный выпуск плакатов наладил ряд филиалов: Одесский (ЮгРОСТА), Омский (СибРОСТА) и др. В Петроградском отделении РОСТА (ПетроРОСТА) в апреле - мае 1920 года был создан специальный плакатный отдел. Его возглавил художник Владимир Козлинский, помощниками которого стали Владимир Лебедев и Лев Бродаты. Они начали выпуск петроградских "Окон РОСТА". Тексты к ним писали сатирики Владимир Воинов и Александр Флит. Петроградские "Окна РОСТА" выставлялись в витринах пустующих магазинов, демонстрировались на заводах и фабриках, в рабочих клубах и воинских частях. ТАССовские историографы (как правооприемники) нам сообщают , что к началу 1921 года "Окна сатиры" выходили в более чем 50 городах. Но вот мы собираем по листу Окно РОСТА № 353 с вот таким текстом: Железнодорожник! Красная армия, защищающая Коммуну страдает от разрухи. Последнюю каплю твоих сил отдай на борьбу с разрухой. Фронт подкрепят поезда и будет близок мир для несущихся к нему на паровозе.» Какая тут может быть «Сатира»? На кого? И понятно, что у этого плаката (автор
Амшей Нюренберг [конец сентября - начало октября 1920) просто написано: «Наркомпрос РОСТА №353». Ни тебе «Окна» , ни тебе «Сатиры». А многочисленные девелоперы московского проекта на провинциальной сцене -одесские, омские, питерские, дробя успешный бренд , увеличивали охват населения пропагандой, но для исследователя чрезвычайно затруднили нумерацию и аттрибуцию. А ведь мы потом увидим и «Агитокна» в Саратове – весьма мощное течение во время войны, малоизученное столичными искусствоведами. Увидим мы и «Окна ТАСС», которые в войну сменили агитпроизведения РОСТА.
Что сделал Маяковский? Он упростил формат лубка, которым пользовался Черемных. И предложил в нескольких кадрах концентрировать внимание на разработке одной темы и одной проблемы. Ну и конечно – его поэтический гений позволял очень емко формулировать в очень запоминающейся форме подписи к «Окнам». Удивительные авторы подключились к созданию подписей. Внезапно , например, выясняется , что много «Окон» написала Рита Райт (псевдоним Раисы Черномордик из Херсона), которая потом стала Ритой Райт-Ковалевой, основной проводницей западной культуры за «железный занавес» в СССР в виде переводов Сэлинджера, Воннегута и прочих американских авторов (да-да, та самая, которая переводила «гамбургер» как «котлета»).
Буквально все художники, которые выпустили почти две тысячи листов «Окон» - это деятели русского художественного авангарда. И поэтому каждый лист несет на себе отпечаток именно самого передового авангардного искусства. И сам является произведением русского авангарда. Тут даже не поспоришь.
Многие рукотворные произведения были переизданы потом, когда появились какие-то деньги и типографские возможности у Наркомпроса , под которым как раз и действовали группы художников. Так сегодняшней публике Окно РОСТА № 241, которое имело первым листом надпись «Царь голод». (Сья история была в некоей республике-баба на базар плыла, а у бабы бублики…) например, известно в виде типографского тиражного плаката, пересобранного под названием «История про бублики и про бабу, не признающую республики» с большим лого «РСФСР».
И оно отчего-то приобрело какое-то невиданное значение: на текст этого плаката выдающийся советский композитор Георгий Свиридов написал арию в 1957 году как часть Патетической оратории «Разговор с товарищем Лениным». Мы ее еще застали в исполнении Эдуарда Хиля. Так что не все так просто с этими «Окнами РОСТА».
Это было ярчайшее и уникальное явление в искусстве и в пропаганде, и оно промелькнуло кометой через советский небосовод – к 1921му году все кончилось, как и параллельно закончился роман советской власти с авангардом.
Через «Окно» прошло удивительное число художников мирового уровня – вплоть до Казимира Малевича. Вот можете себе представить – что где-то в каком-то хранилище лежит «Окно РОСТА», написанное рукой Малевича. Трудно себе представить ценность такого произведения… с любой точки зрения. А скорей всего – лежит…
Проект «Арт-Проп» продолжает публикации уникального собрания из Государственного архива РФ, за что огромное спасибо его директору Ларисе Александровне Роговой.
Сохраним историю страны вместе!
Три портрета с плаката
О великом и так и не состоявшемся поколении советских «белокурых бестий» конца 30-х годов.
Это могло быть, наверное, самое великое поколение отечественной культуры, но ему дважды не повезло. Сначала лучших из них, так всегда бывает, вполне закономерно, повыбило на Великой Отечественной войне. А потом выработанные ими неоромантические художественные принципы окончательно добили их таланливые, но чересчур конформистские, даже в лучших своих проявлениях, «шестидесятники».
Да что там принципы!
Даже их самих превратили в ходульных персонажей из неплохого, в общем, но совсем уж какого-то плоского спектакля Юрия Любимова «Павшие и живые» из «ранней Таганки»: хотя, конечно, спасибо Таганке уже и за это.
Хотя бы за то, что просто вспомнили.
Я, по крайней мере, впервые гениальные стихи молодых Павла Когана и Николая Майорова услышал именно там.
Впрочем, об этом чуть ниже.
Нам пока интереснее другое.
Это было поколение художников, - в широком смысле этого слова, - если не полностью, то уж совершенно точно частично сформированное советским агитпропом: тогда еще молодым, дерзким и авангардным, в самом полном и хорошем содержании этого слова. Продукт эпохи, что называется.
И даже – чуть больше, простите.
Поколение модернистов, где предметом модернизации стал не формальный художественный язык, приемы и образы, а сам их носитель из плоти и крови: «модернизируется» не художественное произведение, а сам художник, сам творец.
Сам человек.
Как и другие социальные эксперименты молодой и жутко талантливой советской власти – опыт довольно-таки, с точки зрения традиционных консервативных ценностей, мягко говоря, - страшноватый.
Но, надо отдать должное, - он почти удался.
Они и сами, эти ребята, оставаясь музыкантами, художниками (вспомним хотя бы знаменитую «плеяду») и поэтами, как будто сошли с героического плаката. Оставаясь при этом, что уж совсем странно и удивительно, не картонными персонажами, а совершенно живыми, радующимися и страдающими людьми. Обремененными вполне человеческими желаниями и страстями.
Но при этом людьми совершенно нового, формирующегося в стране и впоследствии утерянного типажа: если хотите – теми самыми «коммунарами» из ранних Стругацких, которых братья мечтали увидеть в полдень, в XXII веке.
Точнее их прообразами, разумеется.
Стругацкие ведь, будучи, - несмотря на все свои «замечательные», во всех смыслах этого слова, эволюции и метания, - по-настоящему талантливыми писателями-фантастами ничего особенно не выдумывали. А просто продолжали вдаль ту линию реальности, которую видели за окном.
Короче, - смотрите работы Дейнеки.
Тех же «Будущих летчиков», к примеру, написанных, кстати, в «самом мрачном из всех годов, году тридцать седьмом». И даже не думайте воспринимать их, как какую-то «социальную фантастику».
Отнюдь.
Все так и было.
На самом деле, несмотря на все реально катившиеся катком по «руководящим работникам» страны репрессии, - в культурном, да и просто бытовом смысле, - это было какое-то удивительно звонкое, радостное время. Никакой, обычно свойственной подобным трагическим реакционным переломам эпох и «полицейщине», воспользуемся определением Александра Блока, «победоносцевской глухоты».
А Александр Александрович понимал толк в искусстве не только «слушания революции», но и вообще музыки эпох.
Помните, наверное, еще:
В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи
А только — тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна;
Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице не трудно, —
И затуманилась она…
(с, Александр Блок «Возмездие»)
А теперь просто сравните.
Вслушайтесь.
Косым,
стремительным
углом
И ветром,
режущим глаза,
Переломившейся ветлой
На землю падала гроза.
И,
громом возвестив весну,
Она
звенела по траве,
С размаху вышибая дверь
В стремительность
и крутизну.
И вниз.
К обрыву.
Под уклон.
К воде.
К беседке из надежд,
Где столько вымокло
одежд,
Надежд и песен утекло…
Это – «Гроза» лидера поэтического поколения «неоромантиков конца 30-х годов ХХ века» Павла Когана.
На дворе, - начало 1936 года.
И расслышать в них реакцию, страх и репрессии может только совершенно глухой к поэзии человек.
При этом, быть психологически «новым человеком» («коммунаром», снова воспользуемся определением ранних Стругацких) для этих ребят вовсе не означало «быть правоверным коммунистом». Более того, в целом, естественно, придерживаясь ортодоксальных коммунистических воззрений они ничуть не боялись свою, весьма отличную от линии партии, точку зрения выражать.
Они вообще ни черта не боялись, честно так говоря.
Тот же Павел Коган спокойно и бесстрастно читал и на семинаре Ильи Сельвинского в Литературном институте имени Горького, и на многочисленных «литературных вечерах», написанное в 1937 году стихотворение «Поэту», посвященное расстрелу Николая Степановича Гумилева:
…Есть на свете город Каир,
Он ночами мне часто снится,
Как стихи прямые твои,
Как косые ее ресницы.
Но, хрипя, отвечает тень:
«Прекрати. Перестань. Не надо.
В мире ночь. В мире будет день.
И весна за снега награда.
Мир огромен. Снега косы,
Людям — слово, а травам шелест.
Сын ты этой земли иль не сын?
Сын ты этой земле иль пришелец?
Выходи. Колобродь. Атамань.
Травы дрогнут. Дороги заждались вождя…
…Но ты слишком долго вдыхал болотный туман.
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя».
(с, Павел Коган «Поэту»).
…Последняя строчка, с прямой почти что цитатой из «Жирафа», - как специально для особенно непонятливых. И, совсем уж для непонятливых, - еще один отрывок из предыдущего текста, из хрестоматийной «Грозы», совершенно художественно авангардное, революционно-агитпроповское:
И люди вышли из квартир,
Устало высохла трава.
И снова тишь.
И снова мир.
Как равнодушье, как овал.
Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!
Советский агитпроп мог быть бы доволен.
Но и не только он.
Есть такая апокрифическая история, легенда, что, когда «поэта Гумилева» вызвали на расстрел, он ответил «здесь нет поэта Гумилева, здесь есть русский офицер Гумилев». Разведгруппа под командованием советского офицера Павла Когана попала в фашистскую засаду 23 сентября 1942 года на сопке Сахарная Голова под Новороссийском.
Лейтенант Коган погиб в перестрелке, не выпуская из рук оружия
А «Бригантина», написанная им почти что в шутку, вместе с приятелем композитором Георгием Лепским, до сих пор поднимает паруса едва ли не на каждом бардовском фестивале. При этом многие даже не подозревают, кто ее написал. Не знаю уж, был бы этому рад поэт-формалист, «сталинский неоромантик 30-х», очевидный лидер поэтического поколения и доблестный офицер-разведчик Павел Коган этой новости.
Наверное, - все-таки был рад.
Песня-то – отличная получилась, как бы, - несмотря, фактически, ни на что.
Пусть поют…
…Еще один молодой поэт ушедший в вечность на той войне, Михаил Валентинович Кульчицкий, который так и остался просто Мишей не только для современников, но и потомков, - тоже был своего рода плакатом, но плакатом совсем уж авангардистским, состоявшим целиком из метаний и противоречий.
Потомственный дворянин, сын Валентина Михайловича Кульчицкого, знаменитого харьковского адвоката и отставного офицера Русской Императорской армии, автора известной в свое время книги «Советы молодому офицеру». Считавшейся чуть ли не «офицерским Домостроем», Миша был в поколении самым пламенным комсомольцем и вообще «человеком будущего». Евтушенко, как и все «шестидесятники», справедливо полагавший себя пребывающим в неоплатном долгу перед этими ребятами, вообще считал его «самым талантливым поэтом поколения», но это, конечно, не совсем так. Миша просто был самым ярким экспериментатором, яростным формалистом, раздолбаем и авангардистом и «звукописцем» в поколении. Впрочем, он и сам про себя все очень точно сказал.
х х х
Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: "лейтенант"
звучит вот так: "Налейте нам!"
И, зная топографию,
он топает по гравию.
Война - совсем не фейерверк,
а просто - трудная работа,
когда,
черна от пота,
вверх
скользит по пахоте пехота.
Марш!
И глина в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног
наворачивается на чeботы
весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино.
…Тоже шагнувший к нам прямо с плаката советского агитпропа поэт и младший лейтенант Михаил Кульчицкий погиб в бою под селом Трембачево нынешней Луганской народной республики в составе Российской Федерации, при наступлении от Сталинграда по направлению к Харькову 19 января 1943 года, чуть больше, чем через двадцать дней, после того, как написал приведенное выше стихотворения.
Захоронен в братской могиле в селе Павленково, ЛНР.
Его Бородино – там…
Ну, а самым большим поэтом поколения, давшим нам его образ и своеобразный манифест, даже немногие оставшиеся в живых поминали совершенно другого человека. А они, оставшиеся в живых, - были, конечно, их имена тоже на века в русской литературе: Сергей Наровчатов, Юрий Левитанский, Слуцкий, гениальный Давид Самойлов, оставивший в своем знаменитом «Перебирая наши даты» предельно точную и образную картину навсегда ушедшего на ту страшную войну поколения:
Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет — одни деревья.
И вроде день у нас погожий,
И вроде ветер тянет к лету…
Аукаемся мы с Сережей,
Но леса нет, и эха нету.
А я все слышу, слышу, слышу,
Их голоса припоминая…
Я говорю про Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая…
Николай тут – это Николай Майоров, поэт огромного дарования, автор портрета и манифеста поколения.
Тоже – «литинститутца» (только семинар другой, Антокольского), потомственного ивановского пролетария не без налета ницшеанства, разумеется, - впрочем, Ницше в проклятые сталинские времена порицаем, конечно, был, но запрещаем не был, запреты на него пошли в куда более либеральные и людоедские хрущевские времена, - тоже авангардиста, само собой. Но при этом поэта действительно огромного, как про него говорил Павел Антокольский «некрасовского» таланта. При этом истинной советской белокурой (точнее, - русокудрой) бестии конца тридцатых годов.
Просто послушайте.
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.
Мы жгли костры и вспять пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы –
Так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы – спросите жён!
Пройдут века, и вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображён.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
Да в серой прозе наших дневников.
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь раскрывали ветру. Из ковша
Тянули воду полными глотками
И в женщину влюблялись не спеша.
И шли вперёд, и падали, и, еле
В обмотках грубых ноги волоча,
Мы видели, как женщины глядели
На нашего шального трубача.
А тот трубил, мир ни во что не ставя
(Ремень сползал с покатого плеча),
Он тоже дома женщину оставил,
Не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень твёрд, уступы каменисты,
Почти со всех сторон окружены,
Глядели вверх – и небо было чисто,
Как светлый лоб оставленной жены.
(Николай Майоров, «Мы», 1940 год)
Пулеметчик пулемётной роты 1106-го стрелкового полка 331 стрелковой дивизии и большой советский поэт Николай Майоров геройски погиб во время первого большого наступления советских войск в бою у деревни Баранцево Смоленской области. Похоронен в братской могиле в селе Карманово Гагаринского района.
Разумеется, - они были не одиноки: только прав был Самойлов, леса не осталось, «одни деревья».
А потом поэтика и разработанная система художественных приемов так и не состоявшегося великого художественного поколения была еще и беззастенчиво разграблена их эпигонами «шестидесятниками»: неслучайно многие нынешние «певцы авторской песни ртом» до сих пор свято уверены, что знаменитая «Бригантина» - это то ли Визбор, то ли вообще какой Окуджава. И с презрением говорят о Дейнеке «это какой-то плакат». Просто потому, что шестидесятники (а их таланта никто не отрицает), наследовав прием и сохранив некоторую «плакатность» убрали из своего автопортрета то, что было у «сталинских неоромантиков»: живую плоть и кровь, живую любовь и ярость.
И оттого пришли (не все, разумеется) к вполне законному финалу куклы из папье-маше.
И причин тут долго искать не надо, об этом писали и один из «отцов» советского авангарда Илья Эренбург в ненавистном советской интеллигенции «Дне втором» и Ильф с Петровым в «Золотом теленке», помните, наверное, еще: «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «полпред». В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких. высоких материй. У его обитателей стремление одно — как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.
Маленькие люди торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучны эпохе и только тогда их товарец может найти сбыт. В советское время, когда в большом мире созданы идеологические твердыни, в маленьком мире замечается оживление. Под все мелкие изобретения муравьиного мира подводится гранитная база «коммунистической» идеологии. На пузыре «уйди-уйди» изображается Чемберлен, очень похожий на того, каким его рисуют в «Известиях». В популярной песенке умный слесарь, чтобы добиться любви комсомолки, в три рефрена выполняет и даже перевыполняет промфинплан. И пока в большом мире идет яростная дискуссия об оформлении нового быта, в маленьком мире уже вce готово: есть галстук «Мечта ударника», толстовка-гладковка, гипсовая статуэтка «Купающаяся колхозница» и дамские пробковые подмышники «Любовь пчел трудовых» (с).
Вот.
Именно такой, прости Господи, «размен» и состоялся.
Впрочем, - все в этом мире уходит и возвращается: по крайней мере, так говорил их, может, и не очень любимый, но тщательно перечитываемый Ницше с его теорией вечного возвращения. Ну, а что касается самих «белокурых бестий» конца советских тридцатых годов, то они никуда от нас и не уходили.
Ибо, шагнув в вечность нашего мира из него уже точно никуда невозможно уйти.
Дмитрий Лекух.
Это могло быть, наверное, самое великое поколение отечественной культуры, но ему дважды не повезло. Сначала лучших из них, так всегда бывает, вполне закономерно, повыбило на Великой Отечественной войне. А потом выработанные ими неоромантические художественные принципы окончательно добили их таланливые, но чересчур конформистские, даже в лучших своих проявлениях, «шестидесятники».
Да что там принципы!
Даже их самих превратили в ходульных персонажей из неплохого, в общем, но совсем уж какого-то плоского спектакля Юрия Любимова «Павшие и живые» из «ранней Таганки»: хотя, конечно, спасибо Таганке уже и за это.
Хотя бы за то, что просто вспомнили.
Я, по крайней мере, впервые гениальные стихи молодых Павла Когана и Николая Майорова услышал именно там.
Впрочем, об этом чуть ниже.
Нам пока интереснее другое.
Это было поколение художников, - в широком смысле этого слова, - если не полностью, то уж совершенно точно частично сформированное советским агитпропом: тогда еще молодым, дерзким и авангардным, в самом полном и хорошем содержании этого слова. Продукт эпохи, что называется.
И даже – чуть больше, простите.
Поколение модернистов, где предметом модернизации стал не формальный художественный язык, приемы и образы, а сам их носитель из плоти и крови: «модернизируется» не художественное произведение, а сам художник, сам творец.
Сам человек.
Как и другие социальные эксперименты молодой и жутко талантливой советской власти – опыт довольно-таки, с точки зрения традиционных консервативных ценностей, мягко говоря, - страшноватый.
Но, надо отдать должное, - он почти удался.
Они и сами, эти ребята, оставаясь музыкантами, художниками (вспомним хотя бы знаменитую «плеяду») и поэтами, как будто сошли с героического плаката. Оставаясь при этом, что уж совсем странно и удивительно, не картонными персонажами, а совершенно живыми, радующимися и страдающими людьми. Обремененными вполне человеческими желаниями и страстями.
Но при этом людьми совершенно нового, формирующегося в стране и впоследствии утерянного типажа: если хотите – теми самыми «коммунарами» из ранних Стругацких, которых братья мечтали увидеть в полдень, в XXII веке.
Точнее их прообразами, разумеется.
Стругацкие ведь, будучи, - несмотря на все свои «замечательные», во всех смыслах этого слова, эволюции и метания, - по-настоящему талантливыми писателями-фантастами ничего особенно не выдумывали. А просто продолжали вдаль ту линию реальности, которую видели за окном.
Короче, - смотрите работы Дейнеки.
Тех же «Будущих летчиков», к примеру, написанных, кстати, в «самом мрачном из всех годов, году тридцать седьмом». И даже не думайте воспринимать их, как какую-то «социальную фантастику».
Отнюдь.
Все так и было.
На самом деле, несмотря на все реально катившиеся катком по «руководящим работникам» страны репрессии, - в культурном, да и просто бытовом смысле, - это было какое-то удивительно звонкое, радостное время. Никакой, обычно свойственной подобным трагическим реакционным переломам эпох и «полицейщине», воспользуемся определением Александра Блока, «победоносцевской глухоты».
А Александр Александрович понимал толк в искусстве не только «слушания революции», но и вообще музыки эпох.
Помните, наверное, еще:
В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи
А только — тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна;
Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице не трудно, —
И затуманилась она…
(с, Александр Блок «Возмездие»)
А теперь просто сравните.
Вслушайтесь.
Косым,
стремительным
углом
И ветром,
режущим глаза,
Переломившейся ветлой
На землю падала гроза.
И,
громом возвестив весну,
Она
звенела по траве,
С размаху вышибая дверь
В стремительность
и крутизну.
И вниз.
К обрыву.
Под уклон.
К воде.
К беседке из надежд,
Где столько вымокло
одежд,
Надежд и песен утекло…
Это – «Гроза» лидера поэтического поколения «неоромантиков конца 30-х годов ХХ века» Павла Когана.
На дворе, - начало 1936 года.
И расслышать в них реакцию, страх и репрессии может только совершенно глухой к поэзии человек.
При этом, быть психологически «новым человеком» («коммунаром», снова воспользуемся определением ранних Стругацких) для этих ребят вовсе не означало «быть правоверным коммунистом». Более того, в целом, естественно, придерживаясь ортодоксальных коммунистических воззрений они ничуть не боялись свою, весьма отличную от линии партии, точку зрения выражать.
Они вообще ни черта не боялись, честно так говоря.
Тот же Павел Коган спокойно и бесстрастно читал и на семинаре Ильи Сельвинского в Литературном институте имени Горького, и на многочисленных «литературных вечерах», написанное в 1937 году стихотворение «Поэту», посвященное расстрелу Николая Степановича Гумилева:
…Есть на свете город Каир,
Он ночами мне часто снится,
Как стихи прямые твои,
Как косые ее ресницы.
Но, хрипя, отвечает тень:
«Прекрати. Перестань. Не надо.
В мире ночь. В мире будет день.
И весна за снега награда.
Мир огромен. Снега косы,
Людям — слово, а травам шелест.
Сын ты этой земли иль не сын?
Сын ты этой земле иль пришелец?
Выходи. Колобродь. Атамань.
Травы дрогнут. Дороги заждались вождя…
…Но ты слишком долго вдыхал болотный туман.
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя».
(с, Павел Коган «Поэту»).
…Последняя строчка, с прямой почти что цитатой из «Жирафа», - как специально для особенно непонятливых. И, совсем уж для непонятливых, - еще один отрывок из предыдущего текста, из хрестоматийной «Грозы», совершенно художественно авангардное, революционно-агитпроповское:
И люди вышли из квартир,
Устало высохла трава.
И снова тишь.
И снова мир.
Как равнодушье, как овал.
Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!
Советский агитпроп мог быть бы доволен.
Но и не только он.
Есть такая апокрифическая история, легенда, что, когда «поэта Гумилева» вызвали на расстрел, он ответил «здесь нет поэта Гумилева, здесь есть русский офицер Гумилев». Разведгруппа под командованием советского офицера Павла Когана попала в фашистскую засаду 23 сентября 1942 года на сопке Сахарная Голова под Новороссийском.
Лейтенант Коган погиб в перестрелке, не выпуская из рук оружия
А «Бригантина», написанная им почти что в шутку, вместе с приятелем композитором Георгием Лепским, до сих пор поднимает паруса едва ли не на каждом бардовском фестивале. При этом многие даже не подозревают, кто ее написал. Не знаю уж, был бы этому рад поэт-формалист, «сталинский неоромантик 30-х», очевидный лидер поэтического поколения и доблестный офицер-разведчик Павел Коган этой новости.
Наверное, - все-таки был рад.
Песня-то – отличная получилась, как бы, - несмотря, фактически, ни на что.
Пусть поют…
…Еще один молодой поэт ушедший в вечность на той войне, Михаил Валентинович Кульчицкий, который так и остался просто Мишей не только для современников, но и потомков, - тоже был своего рода плакатом, но плакатом совсем уж авангардистским, состоявшим целиком из метаний и противоречий.
Потомственный дворянин, сын Валентина Михайловича Кульчицкого, знаменитого харьковского адвоката и отставного офицера Русской Императорской армии, автора известной в свое время книги «Советы молодому офицеру». Считавшейся чуть ли не «офицерским Домостроем», Миша был в поколении самым пламенным комсомольцем и вообще «человеком будущего». Евтушенко, как и все «шестидесятники», справедливо полагавший себя пребывающим в неоплатном долгу перед этими ребятами, вообще считал его «самым талантливым поэтом поколения», но это, конечно, не совсем так. Миша просто был самым ярким экспериментатором, яростным формалистом, раздолбаем и авангардистом и «звукописцем» в поколении. Впрочем, он и сам про себя все очень точно сказал.
х х х
Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: "лейтенант"
звучит вот так: "Налейте нам!"
И, зная топографию,
он топает по гравию.
Война - совсем не фейерверк,
а просто - трудная работа,
когда,
черна от пота,
вверх
скользит по пахоте пехота.
Марш!
И глина в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног
наворачивается на чeботы
весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино.
…Тоже шагнувший к нам прямо с плаката советского агитпропа поэт и младший лейтенант Михаил Кульчицкий погиб в бою под селом Трембачево нынешней Луганской народной республики в составе Российской Федерации, при наступлении от Сталинграда по направлению к Харькову 19 января 1943 года, чуть больше, чем через двадцать дней, после того, как написал приведенное выше стихотворения.
Захоронен в братской могиле в селе Павленково, ЛНР.
Его Бородино – там…
Ну, а самым большим поэтом поколения, давшим нам его образ и своеобразный манифест, даже немногие оставшиеся в живых поминали совершенно другого человека. А они, оставшиеся в живых, - были, конечно, их имена тоже на века в русской литературе: Сергей Наровчатов, Юрий Левитанский, Слуцкий, гениальный Давид Самойлов, оставивший в своем знаменитом «Перебирая наши даты» предельно точную и образную картину навсегда ушедшего на ту страшную войну поколения:
Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет — одни деревья.
И вроде день у нас погожий,
И вроде ветер тянет к лету…
Аукаемся мы с Сережей,
Но леса нет, и эха нету.
А я все слышу, слышу, слышу,
Их голоса припоминая…
Я говорю про Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая…
Николай тут – это Николай Майоров, поэт огромного дарования, автор портрета и манифеста поколения.
Тоже – «литинститутца» (только семинар другой, Антокольского), потомственного ивановского пролетария не без налета ницшеанства, разумеется, - впрочем, Ницше в проклятые сталинские времена порицаем, конечно, был, но запрещаем не был, запреты на него пошли в куда более либеральные и людоедские хрущевские времена, - тоже авангардиста, само собой. Но при этом поэта действительно огромного, как про него говорил Павел Антокольский «некрасовского» таланта. При этом истинной советской белокурой (точнее, - русокудрой) бестии конца тридцатых годов.
Просто послушайте.
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.
Мы жгли костры и вспять пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы –
Так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы – спросите жён!
Пройдут века, и вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображён.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
Да в серой прозе наших дневников.
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь раскрывали ветру. Из ковша
Тянули воду полными глотками
И в женщину влюблялись не спеша.
И шли вперёд, и падали, и, еле
В обмотках грубых ноги волоча,
Мы видели, как женщины глядели
На нашего шального трубача.
А тот трубил, мир ни во что не ставя
(Ремень сползал с покатого плеча),
Он тоже дома женщину оставил,
Не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень твёрд, уступы каменисты,
Почти со всех сторон окружены,
Глядели вверх – и небо было чисто,
Как светлый лоб оставленной жены.
(Николай Майоров, «Мы», 1940 год)
Пулеметчик пулемётной роты 1106-го стрелкового полка 331 стрелковой дивизии и большой советский поэт Николай Майоров геройски погиб во время первого большого наступления советских войск в бою у деревни Баранцево Смоленской области. Похоронен в братской могиле в селе Карманово Гагаринского района.
Разумеется, - они были не одиноки: только прав был Самойлов, леса не осталось, «одни деревья».
А потом поэтика и разработанная система художественных приемов так и не состоявшегося великого художественного поколения была еще и беззастенчиво разграблена их эпигонами «шестидесятниками»: неслучайно многие нынешние «певцы авторской песни ртом» до сих пор свято уверены, что знаменитая «Бригантина» - это то ли Визбор, то ли вообще какой Окуджава. И с презрением говорят о Дейнеке «это какой-то плакат». Просто потому, что шестидесятники (а их таланта никто не отрицает), наследовав прием и сохранив некоторую «плакатность» убрали из своего автопортрета то, что было у «сталинских неоромантиков»: живую плоть и кровь, живую любовь и ярость.
И оттого пришли (не все, разумеется) к вполне законному финалу куклы из папье-маше.
И причин тут долго искать не надо, об этом писали и один из «отцов» советского авангарда Илья Эренбург в ненавистном советской интеллигенции «Дне втором» и Ильф с Петровым в «Золотом теленке», помните, наверное, еще: «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «полпред». В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких. высоких материй. У его обитателей стремление одно — как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.
Маленькие люди торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучны эпохе и только тогда их товарец может найти сбыт. В советское время, когда в большом мире созданы идеологические твердыни, в маленьком мире замечается оживление. Под все мелкие изобретения муравьиного мира подводится гранитная база «коммунистической» идеологии. На пузыре «уйди-уйди» изображается Чемберлен, очень похожий на того, каким его рисуют в «Известиях». В популярной песенке умный слесарь, чтобы добиться любви комсомолки, в три рефрена выполняет и даже перевыполняет промфинплан. И пока в большом мире идет яростная дискуссия об оформлении нового быта, в маленьком мире уже вce готово: есть галстук «Мечта ударника», толстовка-гладковка, гипсовая статуэтка «Купающаяся колхозница» и дамские пробковые подмышники «Любовь пчел трудовых» (с).
Вот.
Именно такой, прости Господи, «размен» и состоялся.
Впрочем, - все в этом мире уходит и возвращается: по крайней мере, так говорил их, может, и не очень любимый, но тщательно перечитываемый Ницше с его теорией вечного возвращения. Ну, а что касается самих «белокурых бестий» конца советских тридцатых годов, то они никуда от нас и не уходили.
Ибо, шагнув в вечность нашего мира из него уже точно никуда невозможно уйти.
Дмитрий Лекух.
ГИНХУК слева
Среди художественных институций ранних Советов несколько особняком стоит петроградский ГИНХУК: говорят про него мало, сгинул без следа, в Сети информации с гулькин нос. Что же это был за зверь?
Начать придется с конца, потому что именно конец ГИНХУКа по некоторой иронии судьбы — самый известный эпизод его истории. В июне 1926 года в «Ленинградской правде» вышла статья «Монастырь на госснабжении. Отчетная выставка Государственного института художественной культуры», подписанная Г. Серый. Статья была разгромная, и после нее институт расформировали.
Велик соблазн тут же припечатать: на великих прогрессивных художников написала донос серая бездарность, трусливый Швондер. Однако Григорий Гингер, скрывавшийся за псевдонимом Серый, вовсе не был Швондером, да и писать под псевдонимом для той эпохи было так же естественно, как сейчас придумать смешной никнейм для соцсети. Сын знаменитейшего петербургского архитектора Сергея Гингера — петербургский модерн обязан своей славой ему не в меньшей мере, чем Лидвалю или Хренову. Ученик знаменитой гимназии Мая — среди других выпускников Рерих, Бенуа, Лихачев и Фасмер, например. Высшее образование получил на Историко-филологическом факультете Петроградского университета. Друг Исаака Бродского — и первый директор его музея-квартиры. Ветеран Первой мировой, он в 1941-ом поступил в ополчение и воевал на Ленинградском и Волховском фронтах.
Одним словом, похоже скорее на то, что это был человек недюжинной храбрости, ума, образованности, вкуса, насмотренности — you name it. Что ж, карикатурная история, стократно повторенная в Сети — про варвара, разрушившего уникальный храм искусства — рассыпается на глазах. А можно ли понять, что произошло на самом деле?
Чтобы хотя бы попробовать, вернемся к началу.
Петроградский Музей художественной культуры появился как одно из подразделений Отдела ИЗО Наркомпроса в 1919 году. По сути, это был первый в мире музей современного искусства, и в этом смысле что Тейт, что MoMa, что Центр Помпиду наследуют именно ему. Для формирования коллекции была создана специальная комиссия в Петрограде, но во многом ее функции дублировала Соединенная комиссия в Москве, причем обе они существовали при Музейном бюро, которое осуществляло и свои собственные закупки. А был еще Академический центр Наркомпроса — в неразберихе первых послереволюционных лет все эти инстанции путались друг у друга под ногами, никто не понимал, кто тут кому подчиняется, все тянули одеяло на себя.
Тянуть, между прочим, было что. На закупку произведений современного искусства выделялись деньги. К 1921 году, когда петроградский МХК впервые открыл свои двери для публики, его живописная экспозиция включала 257 произведений 69 авторов. А к 1925 году коллекция музея насчитывала уже 1470 произведений 101 автора.
Надо ли говорить, что комиссии, принимавшие решения о том, какие произведения у каких художников закупать, составлялись из тех же самых художников. Альтман, Пунин, Малевич, Лапшин, Тырса, и так далее, и снова они же, по-другому перетасованные. Увы, конкретные ведомости, по которым осуществлялись закупки, с подписями и ценами, до сих пор не опубликованы. Мы далеки от того, чтобы огульно обвинить художников в том, что они использовали служебное положение для того, чтобы, по сути, за государственные деньги покупать у самих себя работы — однако то, что такое могло случаться и время от времени случалось, несомненно.
В 1922 году открываются залы новой живописи в Русском музее — то, что сейчас называется Отделом новейших течений, — и МХК включается в аппаратную борьбу еще и с ГРМ (Государственным Русским Музеем). Мало того, примерно в то же время руководство МХК пытается добиться от Москвы того, чтобы ему переподчинили московский ИНХУК, — борьба шла по всем фронтам.
Борьба шла и внутри самого музея. Тут нет места подробно вдаваться в эту игру престолов. Татлин с Пуниным оттесняет Матюшина, их в свою очередь оттесняет группа из Мансурова, Филонова и Малевича, потом Малевич оттеснит Филонова и Мансурова — одним словом, никакого Телемского аббатства не получилось. Глупо было бы думать, что речь шла только о грызне за финансирование, бюджеты и закупки — нет, конечно, друг с другом боролись школы, направления, представления о том, что вообще такое современная живопись. И все же — как это должно было смотреться со стороны?
В 1923 году МХК был преобразован в ГИНХУК — то есть из музея в институт. Именно на этом крутом вираже Малевич перехватил руководство у Татлина, чего последний ему никогда не простил.
Чем же должен был стать Государственный институт художественной культуры в отличие от простого Музея художественной культуры?
Что ж, идея была в том, что поскольку живопись умерла, а окончательная художественная истина найдена (это супрематизм, конечно), изобразительное искусство и должно стать, и неизбежно станет теперь с одной стороны наукой, а с другой — техникой.
Тут опять критически важно отметить, что для модерна это — генеральная идея, пронизывающая любые рассуждения о любом искусстве. Достижения науки и техники к двадцатому веку поразили воображение современников и изменили их представления о жизни. Во-первых, казалось, что это развитие вот-вот кардинально изменит не просто жизнь человечества, а само человеческое существо. Во-вторых, казалось, что сами принципы точных и естественных наук настолько универсальны, что их можно применить к чему угодно. Теоретизирование об искусстве существовало со времен «Науки поэзии» Горация, но впервые появилась идея, что к теории искусства можно и нужно применить методы естественных наук. Мало кто сомневался в том, что если это сделать, то мгновенно будут достигнуты какие-то еще неведомые, но поразительные, глобальные результаты, которые в свою очередь изменят и само искусство. Идея красивая и завораживающая воображение, что уж там.
Случай ГИНХУКа был редкой попыткой поставить эту работу на институциональные рельсы в рамках государственного финансирования. Не просто редкой, а, кажется, вообще в мировой практике уникальной.
Сформированный на основе МХК институт включал в себя пять отделов. Органической культуры, материальной культуры, экспериментальный, общей методологии и формально-теоретический отдел. Малевич был одновременно директором института и руководителем формально-теоретического отдела, который считался в институте главным.
Чем же конкретно занимались в институте? А вот тут начинаются сложности. Понять это, увы, довольно трудно.
Рисовали таблицы. Сколько и каких квадратов насчитывается у одного и другого художника. Проводили эксперименты. Предлагали «лаборантам», то есть ученикам Малевича по большей части, совмещать на одном полотне футуристические элементы с сезаннистскими. Проводили отчетные выставки. Развешивали те самые таблицы вперемежку со своими картинами.
Кстати, выставки, в соответствии с этой новой научной парадигмой, должны были стать не выставками в старом смысле, а — чем? Опять трудно сказать. Ведь выставка — это что-то мертвое, это просто классификация уже состоявшегося искусства, а тут речь должна была идти о живом процессе. И все же, хоть ты тресни, а выставка — это развешенные по стенам картинки в рамках. В актуальной прессе далеко не только Г. Серый выражал свое недоумение: обещали какого-то невиданного зверя, а показывают всю ту же историю живописи, только не за двести лет, а за последние двадцать.
Результаты деятельности этого то ли научного, то ли творческого коллектива, по крайней мере с точки зрения начальства, должны были в чем-то выражаться, хотя бы в количестве посетителей экспозиции музея при институте. Что ж, в самые лучшие месяцы институт рапортовал о десятке посетителей в день. Но посетители, насколько можно понять, бывали скорее обескуражены и скучали.
Если новое искусство должно было пропагандировать какие бы то ни было идеи, то фрезеровщики и сварщики с петроградских заводов их, очевидно, не понимали и видели на стенах, увы, только квадраты и линии.
То есть идея-то у Малевича и возглавляемого им коллектива была, конечно, — идея была в том, что живописная форма никак не связана с содержанием, что эволюция содержания полностью подчинена эволюции формы, которая развивается сама по себе и сама из себя. Так что, когда Гингер пишет в «Ленинградской правде», что идеи сотрудников института «безграмотны с точки зрения любого марксиста», он, разумеется, прав.
Сто лет спустя не нужно быть марксистом, чтобы усомниться, а правда ли, что форма диктует содержание. Более того, идея о том, что, допустим, передвижникам важно было по-новому расставить цветовые пятна на холсте, и только поэтому им пришлось изображать страдания простого народа, а так бы им до этого простого народа и дела не было бы, выскажи ее кто-нибудь в научной дискуссии, скорее всего показалась бы экзотической.
Однако для двадцатых годов мысль была модная. Были ли какие-нибудь аналоги? Ну конечно, совсем рядом, буквально по тем же улицам в те же дни ходили Эйхенбаум, Шкловский, Тынянов и иже с ними — то есть те, кого теперь во всем мировом литературоведении называют русскими формалистами.
Были ли идеи формалистов продуктивными? Ну, конечно. Оказались ли они окончательно объясняющими все на свете? Разумеется, нет. Даже там, где формальный метод дал самые точные результаты, в стиховедении, где можно конкретно посчитать количество хоть слогов, хоть ударений, хоть нарушений метрического ударения — всякий раз и до сих пор стиховед впадает в ступор, когда его просят что-то сказать о связи его безусловно интересных наблюдений с собственно смыслом стихотворения.
Существенное отличие между компанией формалистов и ГИНХУКом было в том, однако, что формалисты не получали ни огромного здания на Исаакиевской площади для своего института, ни государственного финансирования на его содержание. И это в те самые годы, когда в Поволжье люди вымирали целыми селами от голода.
Можно предположить, что Луначарскому трудно было объяснить своим коллегам по Совету народных комиссаров, зачем нужно содержать институт, в котором все грызутся между собой, развивают странную науку, которую и наукой-то не назовешь, который за три года существования не дал ни одного хоть сколько-нибудь интересного результата, сотрудники которого прямо гордятся тем, что их работа не имеет никакого практического смысла, а если уж говорить об агитации и пропаганде — агитируют они совершенно точно не за то, что прямо сейчас нужно для выживания молодого государства, а за что-то совсем другое.
Можно посмотреть на это дело и с другой стороны. К 1926 году некоторые модернистские иллюзии стали разрушаться. Стало понятно, что супрематизм, хотя и открыл по дороге новый художественный язык, никакой Истины все же не достиг, и живопись на нем не кончилась. Стало понятно, что формальный метод в искусствоведении, при всех интересных результатах, которые он дал, все же существенно ограничен и объясняет далеко не все. Стало понятно, наконец, что искусство не конь в сферическом вакууме и не может быть отделено от общественно-исторических процессов.
И вот этот-то кризис модерна и вскрыл в своей довольно издевательской статье Гингер, после чего институту оставалось только закрыться как рудименту ушедшей эпохи.
Вадим Левенталь.
Начать придется с конца, потому что именно конец ГИНХУКа по некоторой иронии судьбы — самый известный эпизод его истории. В июне 1926 года в «Ленинградской правде» вышла статья «Монастырь на госснабжении. Отчетная выставка Государственного института художественной культуры», подписанная Г. Серый. Статья была разгромная, и после нее институт расформировали.
Велик соблазн тут же припечатать: на великих прогрессивных художников написала донос серая бездарность, трусливый Швондер. Однако Григорий Гингер, скрывавшийся за псевдонимом Серый, вовсе не был Швондером, да и писать под псевдонимом для той эпохи было так же естественно, как сейчас придумать смешной никнейм для соцсети. Сын знаменитейшего петербургского архитектора Сергея Гингера — петербургский модерн обязан своей славой ему не в меньшей мере, чем Лидвалю или Хренову. Ученик знаменитой гимназии Мая — среди других выпускников Рерих, Бенуа, Лихачев и Фасмер, например. Высшее образование получил на Историко-филологическом факультете Петроградского университета. Друг Исаака Бродского — и первый директор его музея-квартиры. Ветеран Первой мировой, он в 1941-ом поступил в ополчение и воевал на Ленинградском и Волховском фронтах.
Одним словом, похоже скорее на то, что это был человек недюжинной храбрости, ума, образованности, вкуса, насмотренности — you name it. Что ж, карикатурная история, стократно повторенная в Сети — про варвара, разрушившего уникальный храм искусства — рассыпается на глазах. А можно ли понять, что произошло на самом деле?
Чтобы хотя бы попробовать, вернемся к началу.
Петроградский Музей художественной культуры появился как одно из подразделений Отдела ИЗО Наркомпроса в 1919 году. По сути, это был первый в мире музей современного искусства, и в этом смысле что Тейт, что MoMa, что Центр Помпиду наследуют именно ему. Для формирования коллекции была создана специальная комиссия в Петрограде, но во многом ее функции дублировала Соединенная комиссия в Москве, причем обе они существовали при Музейном бюро, которое осуществляло и свои собственные закупки. А был еще Академический центр Наркомпроса — в неразберихе первых послереволюционных лет все эти инстанции путались друг у друга под ногами, никто не понимал, кто тут кому подчиняется, все тянули одеяло на себя.
Тянуть, между прочим, было что. На закупку произведений современного искусства выделялись деньги. К 1921 году, когда петроградский МХК впервые открыл свои двери для публики, его живописная экспозиция включала 257 произведений 69 авторов. А к 1925 году коллекция музея насчитывала уже 1470 произведений 101 автора.
Надо ли говорить, что комиссии, принимавшие решения о том, какие произведения у каких художников закупать, составлялись из тех же самых художников. Альтман, Пунин, Малевич, Лапшин, Тырса, и так далее, и снова они же, по-другому перетасованные. Увы, конкретные ведомости, по которым осуществлялись закупки, с подписями и ценами, до сих пор не опубликованы. Мы далеки от того, чтобы огульно обвинить художников в том, что они использовали служебное положение для того, чтобы, по сути, за государственные деньги покупать у самих себя работы — однако то, что такое могло случаться и время от времени случалось, несомненно.
В 1922 году открываются залы новой живописи в Русском музее — то, что сейчас называется Отделом новейших течений, — и МХК включается в аппаратную борьбу еще и с ГРМ (Государственным Русским Музеем). Мало того, примерно в то же время руководство МХК пытается добиться от Москвы того, чтобы ему переподчинили московский ИНХУК, — борьба шла по всем фронтам.
Борьба шла и внутри самого музея. Тут нет места подробно вдаваться в эту игру престолов. Татлин с Пуниным оттесняет Матюшина, их в свою очередь оттесняет группа из Мансурова, Филонова и Малевича, потом Малевич оттеснит Филонова и Мансурова — одним словом, никакого Телемского аббатства не получилось. Глупо было бы думать, что речь шла только о грызне за финансирование, бюджеты и закупки — нет, конечно, друг с другом боролись школы, направления, представления о том, что вообще такое современная живопись. И все же — как это должно было смотреться со стороны?
В 1923 году МХК был преобразован в ГИНХУК — то есть из музея в институт. Именно на этом крутом вираже Малевич перехватил руководство у Татлина, чего последний ему никогда не простил.
Чем же должен был стать Государственный институт художественной культуры в отличие от простого Музея художественной культуры?
Что ж, идея была в том, что поскольку живопись умерла, а окончательная художественная истина найдена (это супрематизм, конечно), изобразительное искусство и должно стать, и неизбежно станет теперь с одной стороны наукой, а с другой — техникой.
Тут опять критически важно отметить, что для модерна это — генеральная идея, пронизывающая любые рассуждения о любом искусстве. Достижения науки и техники к двадцатому веку поразили воображение современников и изменили их представления о жизни. Во-первых, казалось, что это развитие вот-вот кардинально изменит не просто жизнь человечества, а само человеческое существо. Во-вторых, казалось, что сами принципы точных и естественных наук настолько универсальны, что их можно применить к чему угодно. Теоретизирование об искусстве существовало со времен «Науки поэзии» Горация, но впервые появилась идея, что к теории искусства можно и нужно применить методы естественных наук. Мало кто сомневался в том, что если это сделать, то мгновенно будут достигнуты какие-то еще неведомые, но поразительные, глобальные результаты, которые в свою очередь изменят и само искусство. Идея красивая и завораживающая воображение, что уж там.
Случай ГИНХУКа был редкой попыткой поставить эту работу на институциональные рельсы в рамках государственного финансирования. Не просто редкой, а, кажется, вообще в мировой практике уникальной.
Сформированный на основе МХК институт включал в себя пять отделов. Органической культуры, материальной культуры, экспериментальный, общей методологии и формально-теоретический отдел. Малевич был одновременно директором института и руководителем формально-теоретического отдела, который считался в институте главным.
Чем же конкретно занимались в институте? А вот тут начинаются сложности. Понять это, увы, довольно трудно.
Рисовали таблицы. Сколько и каких квадратов насчитывается у одного и другого художника. Проводили эксперименты. Предлагали «лаборантам», то есть ученикам Малевича по большей части, совмещать на одном полотне футуристические элементы с сезаннистскими. Проводили отчетные выставки. Развешивали те самые таблицы вперемежку со своими картинами.
Кстати, выставки, в соответствии с этой новой научной парадигмой, должны были стать не выставками в старом смысле, а — чем? Опять трудно сказать. Ведь выставка — это что-то мертвое, это просто классификация уже состоявшегося искусства, а тут речь должна была идти о живом процессе. И все же, хоть ты тресни, а выставка — это развешенные по стенам картинки в рамках. В актуальной прессе далеко не только Г. Серый выражал свое недоумение: обещали какого-то невиданного зверя, а показывают всю ту же историю живописи, только не за двести лет, а за последние двадцать.
Результаты деятельности этого то ли научного, то ли творческого коллектива, по крайней мере с точки зрения начальства, должны были в чем-то выражаться, хотя бы в количестве посетителей экспозиции музея при институте. Что ж, в самые лучшие месяцы институт рапортовал о десятке посетителей в день. Но посетители, насколько можно понять, бывали скорее обескуражены и скучали.
Если новое искусство должно было пропагандировать какие бы то ни было идеи, то фрезеровщики и сварщики с петроградских заводов их, очевидно, не понимали и видели на стенах, увы, только квадраты и линии.
То есть идея-то у Малевича и возглавляемого им коллектива была, конечно, — идея была в том, что живописная форма никак не связана с содержанием, что эволюция содержания полностью подчинена эволюции формы, которая развивается сама по себе и сама из себя. Так что, когда Гингер пишет в «Ленинградской правде», что идеи сотрудников института «безграмотны с точки зрения любого марксиста», он, разумеется, прав.
Сто лет спустя не нужно быть марксистом, чтобы усомниться, а правда ли, что форма диктует содержание. Более того, идея о том, что, допустим, передвижникам важно было по-новому расставить цветовые пятна на холсте, и только поэтому им пришлось изображать страдания простого народа, а так бы им до этого простого народа и дела не было бы, выскажи ее кто-нибудь в научной дискуссии, скорее всего показалась бы экзотической.
Однако для двадцатых годов мысль была модная. Были ли какие-нибудь аналоги? Ну конечно, совсем рядом, буквально по тем же улицам в те же дни ходили Эйхенбаум, Шкловский, Тынянов и иже с ними — то есть те, кого теперь во всем мировом литературоведении называют русскими формалистами.
Были ли идеи формалистов продуктивными? Ну, конечно. Оказались ли они окончательно объясняющими все на свете? Разумеется, нет. Даже там, где формальный метод дал самые точные результаты, в стиховедении, где можно конкретно посчитать количество хоть слогов, хоть ударений, хоть нарушений метрического ударения — всякий раз и до сих пор стиховед впадает в ступор, когда его просят что-то сказать о связи его безусловно интересных наблюдений с собственно смыслом стихотворения.
Существенное отличие между компанией формалистов и ГИНХУКом было в том, однако, что формалисты не получали ни огромного здания на Исаакиевской площади для своего института, ни государственного финансирования на его содержание. И это в те самые годы, когда в Поволжье люди вымирали целыми селами от голода.
Можно предположить, что Луначарскому трудно было объяснить своим коллегам по Совету народных комиссаров, зачем нужно содержать институт, в котором все грызутся между собой, развивают странную науку, которую и наукой-то не назовешь, который за три года существования не дал ни одного хоть сколько-нибудь интересного результата, сотрудники которого прямо гордятся тем, что их работа не имеет никакого практического смысла, а если уж говорить об агитации и пропаганде — агитируют они совершенно точно не за то, что прямо сейчас нужно для выживания молодого государства, а за что-то совсем другое.
Можно посмотреть на это дело и с другой стороны. К 1926 году некоторые модернистские иллюзии стали разрушаться. Стало понятно, что супрематизм, хотя и открыл по дороге новый художественный язык, никакой Истины все же не достиг, и живопись на нем не кончилась. Стало понятно, что формальный метод в искусствоведении, при всех интересных результатах, которые он дал, все же существенно ограничен и объясняет далеко не все. Стало понятно, наконец, что искусство не конь в сферическом вакууме и не может быть отделено от общественно-исторических процессов.
И вот этот-то кризис модерна и вскрыл в своей довольно издевательской статье Гингер, после чего институту оставалось только закрыться как рудименту ушедшей эпохи.
Вадим Левенталь.
Четверо и их герой
Этому городу нужен был герой. Новый советский богатырь с вежливостью Гулливера. Сергей Михалков подарил всем детям страны дядю Стёпу. Честный, добрый, справедливый великан, готовый прийти на помощь вне зависимости от ситуации. Каждый малыш и школьник мог бы нарисовать у себя в воображении любого большого героя, скорее всего он был бы похож на папу. Но образы, созданные первыми иллюстраторами серии книг про человека, олицетворяющего собой героизм и справедливость, настолько архетипичны, что представить себе дядю Степу иным уже невозможно.
Для первой публикации поэмы о Степане Степанове с заставы Ильича в 1935 году журнал «Пионер» даже не заказывал иллюстрации, а использовал фотографии молодого поэта-песенника Сергея Михалкова. Через год «Детская литература» выпускает первую часть пенталогии с иллюстрациями Аминадава Моисеевича Каневского (1898 - 1976 гг).
В двадцатые годы через учебные классы Высших художественно- технических мастерских (Вхутемас) прошло много талантливых людей. В 1921 году Каневский попадает в мастерские прямо из Красной армии, куда ушел добровольцем. После окончания поступает на графический факультет Вхутемаса- Вхутеина, где учится у Владимира Андреевича Фаворского – не просто мастера русской гравюры, но и блестящего книжного иллюстратора. Фаворский знал об иллюстрации книг – всё, от шрифта до форзаца, понимая книгу как единый эстетический организм. Вторым оказавшим влияние на Каневского становится профессор и заведующий лабораторией шрифта, литографским отделением Николай Николаевич Куприянов. Куприянов является создателем нового жанра в истории изобразительного искусства – графический дневник художника.
Жанр карикатуры, который Аминадав Каневский стал пробовать еще в институте, привлекает внимание известного профессора Дмитрия Стахиевича Моора. Мастер после посещения студенческой выставки, рекомендует Каневского в журнал «Безбожник у станка». В дальнейшем стремление запечатлеть действительность через призму графики и юмора, приводят Каневского в «Крокодил», где он работает с 1936 года до конца своей жизни. «Художники-сатирики должны вторгаться в жизнь и смело бичевать те недостатки, которые у нас еще есть. Критикуя эти недостатки, мы и ведем своими средствами борьбу за положительного героя в искусстве. Все дело в том, с каких позиций критикует недостатки художник-сатирик. Это должна быть позиция партийной непримиримости к отрицательному во имя утверждения положительного» - писал Каневский.
По окончании Вхутеина Каневский и группа его однокурсников - Н. Коршунов, М. Ворон, И. Громицкий и другие, организовали бригаду плакатистов.
Группа работала при издательстве АХР, потом при Изогизе как «2-я мастерская полиграфформ». «Мы поэтому ставим первейшей своей задачей, — писал Каневский о работе бригады в журнале «За пролетарское искусство» (1932, № 1), — поднятие своего политического уровня, овладение марксистско-ленинским мировоззрением... Мы ставим своей задачей овладеть тематическим рисунком, цветом и композицией так, чтобы суметь превратить сложную политическую тему в ясный, простой и убедительный образ».
Ясные, простые и убедительные образы – за них полюбили Аминадава Каневского не только взрослые, но и дети. «Золотой ключик», «Девочка-ревушка» Агнии Барто, всем знакомый Мурзилка, сотни забавных и остроумных персонажей, и, конечно, дядя Стёпа. Первый Степан Степанов – это добродушный великан, который, страдая так или иначе, от собственного размера, не позволяющего ему многое, доступное обычному человеку, по ходу визуального продвижения героя по книге, превращается из безобидного паренька с чубом и в клетчатых штанах в героя-моряка. В дядю Стёпу Маяка. Его окружают знакомые по невинным героям карикатур Каневского персонажи. Обыватели в пару росчерков пера, требующие спасения от человека, над которым по-доброму смеялись, а порой и ругались в кино.
Аминадав Моисеевич Каневский является автором плакатов «Мы в колхозах, исполнены крепкой отваги, объявили поход против вражьей ватаги...» (1933), «Сильная и мощная диктатура пролетариата...» (1933), «Сорняки». Во время Великой Отечественной войны писал антигитлеровские плакаты, в том числе «На чужой каравай рта не разевай!», «Репка».
В 1957 году выходит книга, в которой дядя Стёпа трансформируется из неприкаянного щеголя в узких брюках в гражданина, отдавшего себя на помощь другим, сначала облачившись в военно-морскую форму, а затем и в форму милиционера. Поскольку Константину Павловичу Ротову (1902 – 1959) довелось работать над второй частью сборника о новом советском богатыре, то сходство с актером Алексеем Баталовым, порой даже пугающее, не должно смущать. Дочь Баталова, внучка Константина Ротова Надежда Алексеевна Баталова вспоминает: " - Отец ему не позировал. Он просто за ним наблюдал в быту и делал зарисовки…. В тот же год без предъявления каких-либо обвинений дед был отправлен на бессрочное поселение в Северо-Енисейск. И, как вы знаете, книга с его иллюстрациями была издана только в 1957 году - тремя годами раньше он был полностью реабилитирован и освобождён от ссылки решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР... В 1959 году Константин Ротов скончался. Вот такая история про дядю Стёпу."
Действительно, героя в милицейской форме с лицом Баталова (мужа своей дочери Ирины) придумал человек, попавший в лагерь на 8 лет за карикатуру с лошадью и птичками. Вспоминается билибинский осел с грифонами, правда без последствий для Билибина. В 1948 году Константин Ротов немногим спустя после освобождения, в декабре, без объяснения причин пожизненно высылается в посёлок Северо-Енисейский Красноярского края, где работает до 1954 художником в клубе. А ведь с 1920 года, после установления Советской власти на Дону, потомок донских казаков, блестящий художник с чувством меры в изображении окружающей действительности, начал работать в ростовских Дон-РОСТА, Политпросвете, ростовском отделении Госиздата. Перебрался в Петроград учиться на графическом факультете Петроградской академии, но больше времени проводил в плакатной мастерской у Владимира Маяковского и художника-карикатуриста Михаила Черемных. Почти сразу же в 1921 переехал в Москву. Не счесть изданий, где способность Ротова передать чувства, эмоции, тонкие характерные черты людей, пришлись к месту: «Правда», Комсомольская правда», «Рабочая газета», «Гудок», «Прожектор», «Огонёк», «Смехач», «30 дней», «Лапоть» и др. Константин Ротов был самоучкой – подробности, детали, стилизация его рисунков имеют корни в открытках и журналах «Мира Искусства», которые выписывали родители, а он посвящал себя их копированию. В 1939 году по собственному эскизу Ротов создает панно для Советского павильона на Нью-Йоркской выставке. На нём Папанин, Дуся Виноградова, Стаханов.
В соликамском лагере Константин Павлович между рисованием надкроватных ковриков познакомился с архитектором, представителем школы Баухауз Филиппом Тольцинером. Вместе они оформили соликамское ДК, делали игрушки по эскизам Ротова, организовали художественную мастерскую, где заключенные копировали классиков, выпускали альбомы по докладам Сталина и оформляли Пермскую сельскохозяйственную выставку. Там в лагере, взяв в качестве помощника запуганного еврейского мальчика, практически спас жизнь будущему поэту Михаилу Таничу. А вот поэт Сергей Михалков ничего не смог сделать, чтобы облегчить лагерную участь Ротова, не помог даже Лебедев-Кумач, но своего дядю Степу милиционера он доверяет иллюстратору после освобождения. И даже добавляет строчку про сапоги 45 размера. Именно такой размер обуви носил народный артист СССР Алексей Баталов.
Карикатура Константина Ротова от 1940 года, за которую его посадили: мы видим лошадь с мешком на голове. От головы до хвоста растянулась очередь из воробьев. У хвоста лошади надпись: «Закрыто на обед». Ротова также обвинили в работе на германскую разведку и буржуазные органы печати в годы Гражданской войны. Обвинения строились на показаниях художника Михаила Храпковского, под пытками оговорившего друга.
В 1969 году Сергей Михалков сразу признается, что третья часть написана им по заказу. По заказу детей. Про… детей! Малышей всего Союза интересовало, а есть ли у Степана Степанова семья. Что скажу ему в ответ, тяжело ответить «нет». Дядя Степа Ювеналия Дмитриевича Коровина (1914-1991) таков, что и ему тяжело ответить «нет».
Это не старомодный с папкой наперевес великан на заснеженных столичных улицах. Это летний, солнечный, белозубый богатырь спортивного вида с щекастым малышом на плечах.
В начале 1960-х гг., когда большинство придерживалось «сурового стиля» в живописи, Коровин развивает искусство светоносной литографии. Ещё во время учебы в Московском Институте изобразительных искусств в Москве (ныне — Московский академический художественный институт им. В.И. Сурикова), образованном на базе нескольких факультетов ВХУТЕМАСа-Вхутеина, его учителями были всё тот же Владимир Андреевич Фаворский, Павел Яковлевич Павлинов – мастер ксилографии, книжный иллюстратор, график, и, конечно, Константин Николаевич Истомин. Прямые линии, незаконченность рисунка, акварельные пятна, характерные для Ювеналия Дмитриевича имеют чёткие осознанные координаты на странице книги.
В Великую Отечественную послужил талантом и отточил его в 7-ой армии на Карельском фронте. Чертёжником. В 1959 году его серия эстампов о советском цирке завоевала международную награду в Лейпциге. А советский цирк получил шикарный подарок от заслуженного и узнаваемого мастера эстампов. Фронтовик Коровин был против преследования художников во время скандальной выставки в Манеже. После посещения Хрущева Ювеналия Дмитриевича сняли с поста председателя бюро графической секции Московского союза художников.
Ювеналий Дмитриевич автор не только образа Степана Степанова как богатыря-отца, но и четвертого Дяди Стёпы – ветерана. На обложке издания 1985 года наш старинный друг в лыжной шапке мчит на коньках, но при этом на 12 странице в профиль, весь обсыпанный детишками с деревянными автоматами, сидит вылитый, только уставший Сергей Михалков в кепке и синих штанах. Мир, населенный акварельными машинами в идеальной пустой Москве, с крохотными грудничками на руках у крохотной мамы в большом пространстве осеннего парка. В котором неугомонный дед с михалковскими усами становится добродушным дедушкой.
Нельзя не упомянуть об образе Дяди Степы созданным художником, который продолжает традицию русской изобразительной школы, через своего учителя Бориса Александровича Дехтярёва (1908-1993) – дядя Степа Германа Алексеевича Мазурина. Именно иллюстрации к михалковской книге Мазурин сделал еще на третьем курсе МГАХИ имени В. И. Сурикова. Преподаватели показали рисунки Сергею Михалкову, и уже через несколько месяцев в издательстве «Детская литература» вышла книга с его иллюстрациями.
С 1955 года Герман Алексеевич не оставлял работы с издательством. За свою жизнь он воплотил в изображение три сотни книг. Часто в жизнеописаниях художников двадцатого века мы видим их связь через столичные школы. Герман Мазурин поступил в пензенскую художественную школу скопировав портрет Сталина из календаря, потому, что в доме было много книг, но зачастую без картинок. И маленький Герман рисовал на листках и вклеивал их в книги. Поступив в 1947 году далее в художественное училище в Пензе он соприкасается с репинской веткой древа русской изобразительной школы - тогда в училище преподавал Иван Силович Горюшкин-Сорокопудров, ученик Ивана Репина. Далее на графическом факультете Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, куда Мазурин поступает в 1952 году, через своего профессора Бориса Александровича Бехтерёва, прививается ещё раз к Репину, поскольку Бехтерёв учился у Дмитрия Кардовского. Сам Борис Александрович долгие годы был главным художником издательства «Детская литература».
«Книжка с картинкой формируют ребёнка, через книгу малыш познаёт мир, читать он ещё не умеет, и именно картинка даёт ему представление об окружающем. Поэтому, чем лучше нарисован рисунок, чем реалистичнее и точнее он, тем яснее дети будут воспринимать действительность.» - так профессор и руководитель мастерской «Искусство книги» МГАХИ им. Сурикова Герман Алексеевич Мазурин говорит о своей метацели. Милиционер Степан Степанов выглядит так, как должен выглядеть советский человек мужского пола, который вызывает доверие и одновременно носит форму и погоны. Плащ героя, который выглядит, как обычный человек, если бы не рост. Окружающие предметы и обстановка предельно ясны даже современному малышу.
Герман Алексеевич автор многих диафильмов. Так что у нескольких поколений советских людей его неповторимый стиль запечатлен буквально на подкорке. Нет ничего более прекрасного, чем служить пропаганде чистого образа для детей.
«И однажды, с чемоданом
Сквозь рентген пройдя сперва,
Сел турист Степан Степанов
В самолет Париж — Москва.
У окошка в кресло сел.
Пристегнулся. Завтрак съел.
Только взялся за газету —
Что такое? Прилетел!
— Как леталось, дядя Степа?
— Как здоровье?
— Как Европа? —
А Степанов всем в ответ:
— Лучше дома — места нет!»
Сергей Михалков
Дядя Стёпа – ветеран
1981
Мария Мальцева-Самойлович.
Для первой публикации поэмы о Степане Степанове с заставы Ильича в 1935 году журнал «Пионер» даже не заказывал иллюстрации, а использовал фотографии молодого поэта-песенника Сергея Михалкова. Через год «Детская литература» выпускает первую часть пенталогии с иллюстрациями Аминадава Моисеевича Каневского (1898 - 1976 гг).
В двадцатые годы через учебные классы Высших художественно- технических мастерских (Вхутемас) прошло много талантливых людей. В 1921 году Каневский попадает в мастерские прямо из Красной армии, куда ушел добровольцем. После окончания поступает на графический факультет Вхутемаса- Вхутеина, где учится у Владимира Андреевича Фаворского – не просто мастера русской гравюры, но и блестящего книжного иллюстратора. Фаворский знал об иллюстрации книг – всё, от шрифта до форзаца, понимая книгу как единый эстетический организм. Вторым оказавшим влияние на Каневского становится профессор и заведующий лабораторией шрифта, литографским отделением Николай Николаевич Куприянов. Куприянов является создателем нового жанра в истории изобразительного искусства – графический дневник художника.
Жанр карикатуры, который Аминадав Каневский стал пробовать еще в институте, привлекает внимание известного профессора Дмитрия Стахиевича Моора. Мастер после посещения студенческой выставки, рекомендует Каневского в журнал «Безбожник у станка». В дальнейшем стремление запечатлеть действительность через призму графики и юмора, приводят Каневского в «Крокодил», где он работает с 1936 года до конца своей жизни. «Художники-сатирики должны вторгаться в жизнь и смело бичевать те недостатки, которые у нас еще есть. Критикуя эти недостатки, мы и ведем своими средствами борьбу за положительного героя в искусстве. Все дело в том, с каких позиций критикует недостатки художник-сатирик. Это должна быть позиция партийной непримиримости к отрицательному во имя утверждения положительного» - писал Каневский.
По окончании Вхутеина Каневский и группа его однокурсников - Н. Коршунов, М. Ворон, И. Громицкий и другие, организовали бригаду плакатистов.
Группа работала при издательстве АХР, потом при Изогизе как «2-я мастерская полиграфформ». «Мы поэтому ставим первейшей своей задачей, — писал Каневский о работе бригады в журнале «За пролетарское искусство» (1932, № 1), — поднятие своего политического уровня, овладение марксистско-ленинским мировоззрением... Мы ставим своей задачей овладеть тематическим рисунком, цветом и композицией так, чтобы суметь превратить сложную политическую тему в ясный, простой и убедительный образ».
Ясные, простые и убедительные образы – за них полюбили Аминадава Каневского не только взрослые, но и дети. «Золотой ключик», «Девочка-ревушка» Агнии Барто, всем знакомый Мурзилка, сотни забавных и остроумных персонажей, и, конечно, дядя Стёпа. Первый Степан Степанов – это добродушный великан, который, страдая так или иначе, от собственного размера, не позволяющего ему многое, доступное обычному человеку, по ходу визуального продвижения героя по книге, превращается из безобидного паренька с чубом и в клетчатых штанах в героя-моряка. В дядю Стёпу Маяка. Его окружают знакомые по невинным героям карикатур Каневского персонажи. Обыватели в пару росчерков пера, требующие спасения от человека, над которым по-доброму смеялись, а порой и ругались в кино.
Аминадав Моисеевич Каневский является автором плакатов «Мы в колхозах, исполнены крепкой отваги, объявили поход против вражьей ватаги...» (1933), «Сильная и мощная диктатура пролетариата...» (1933), «Сорняки». Во время Великой Отечественной войны писал антигитлеровские плакаты, в том числе «На чужой каравай рта не разевай!», «Репка».
В 1957 году выходит книга, в которой дядя Стёпа трансформируется из неприкаянного щеголя в узких брюках в гражданина, отдавшего себя на помощь другим, сначала облачившись в военно-морскую форму, а затем и в форму милиционера. Поскольку Константину Павловичу Ротову (1902 – 1959) довелось работать над второй частью сборника о новом советском богатыре, то сходство с актером Алексеем Баталовым, порой даже пугающее, не должно смущать. Дочь Баталова, внучка Константина Ротова Надежда Алексеевна Баталова вспоминает: " - Отец ему не позировал. Он просто за ним наблюдал в быту и делал зарисовки…. В тот же год без предъявления каких-либо обвинений дед был отправлен на бессрочное поселение в Северо-Енисейск. И, как вы знаете, книга с его иллюстрациями была издана только в 1957 году - тремя годами раньше он был полностью реабилитирован и освобождён от ссылки решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР... В 1959 году Константин Ротов скончался. Вот такая история про дядю Стёпу."
Действительно, героя в милицейской форме с лицом Баталова (мужа своей дочери Ирины) придумал человек, попавший в лагерь на 8 лет за карикатуру с лошадью и птичками. Вспоминается билибинский осел с грифонами, правда без последствий для Билибина. В 1948 году Константин Ротов немногим спустя после освобождения, в декабре, без объяснения причин пожизненно высылается в посёлок Северо-Енисейский Красноярского края, где работает до 1954 художником в клубе. А ведь с 1920 года, после установления Советской власти на Дону, потомок донских казаков, блестящий художник с чувством меры в изображении окружающей действительности, начал работать в ростовских Дон-РОСТА, Политпросвете, ростовском отделении Госиздата. Перебрался в Петроград учиться на графическом факультете Петроградской академии, но больше времени проводил в плакатной мастерской у Владимира Маяковского и художника-карикатуриста Михаила Черемных. Почти сразу же в 1921 переехал в Москву. Не счесть изданий, где способность Ротова передать чувства, эмоции, тонкие характерные черты людей, пришлись к месту: «Правда», Комсомольская правда», «Рабочая газета», «Гудок», «Прожектор», «Огонёк», «Смехач», «30 дней», «Лапоть» и др. Константин Ротов был самоучкой – подробности, детали, стилизация его рисунков имеют корни в открытках и журналах «Мира Искусства», которые выписывали родители, а он посвящал себя их копированию. В 1939 году по собственному эскизу Ротов создает панно для Советского павильона на Нью-Йоркской выставке. На нём Папанин, Дуся Виноградова, Стаханов.
В соликамском лагере Константин Павлович между рисованием надкроватных ковриков познакомился с архитектором, представителем школы Баухауз Филиппом Тольцинером. Вместе они оформили соликамское ДК, делали игрушки по эскизам Ротова, организовали художественную мастерскую, где заключенные копировали классиков, выпускали альбомы по докладам Сталина и оформляли Пермскую сельскохозяйственную выставку. Там в лагере, взяв в качестве помощника запуганного еврейского мальчика, практически спас жизнь будущему поэту Михаилу Таничу. А вот поэт Сергей Михалков ничего не смог сделать, чтобы облегчить лагерную участь Ротова, не помог даже Лебедев-Кумач, но своего дядю Степу милиционера он доверяет иллюстратору после освобождения. И даже добавляет строчку про сапоги 45 размера. Именно такой размер обуви носил народный артист СССР Алексей Баталов.
Карикатура Константина Ротова от 1940 года, за которую его посадили: мы видим лошадь с мешком на голове. От головы до хвоста растянулась очередь из воробьев. У хвоста лошади надпись: «Закрыто на обед». Ротова также обвинили в работе на германскую разведку и буржуазные органы печати в годы Гражданской войны. Обвинения строились на показаниях художника Михаила Храпковского, под пытками оговорившего друга.
В 1969 году Сергей Михалков сразу признается, что третья часть написана им по заказу. По заказу детей. Про… детей! Малышей всего Союза интересовало, а есть ли у Степана Степанова семья. Что скажу ему в ответ, тяжело ответить «нет». Дядя Степа Ювеналия Дмитриевича Коровина (1914-1991) таков, что и ему тяжело ответить «нет».
Это не старомодный с папкой наперевес великан на заснеженных столичных улицах. Это летний, солнечный, белозубый богатырь спортивного вида с щекастым малышом на плечах.
В начале 1960-х гг., когда большинство придерживалось «сурового стиля» в живописи, Коровин развивает искусство светоносной литографии. Ещё во время учебы в Московском Институте изобразительных искусств в Москве (ныне — Московский академический художественный институт им. В.И. Сурикова), образованном на базе нескольких факультетов ВХУТЕМАСа-Вхутеина, его учителями были всё тот же Владимир Андреевич Фаворский, Павел Яковлевич Павлинов – мастер ксилографии, книжный иллюстратор, график, и, конечно, Константин Николаевич Истомин. Прямые линии, незаконченность рисунка, акварельные пятна, характерные для Ювеналия Дмитриевича имеют чёткие осознанные координаты на странице книги.
В Великую Отечественную послужил талантом и отточил его в 7-ой армии на Карельском фронте. Чертёжником. В 1959 году его серия эстампов о советском цирке завоевала международную награду в Лейпциге. А советский цирк получил шикарный подарок от заслуженного и узнаваемого мастера эстампов. Фронтовик Коровин был против преследования художников во время скандальной выставки в Манеже. После посещения Хрущева Ювеналия Дмитриевича сняли с поста председателя бюро графической секции Московского союза художников.
Ювеналий Дмитриевич автор не только образа Степана Степанова как богатыря-отца, но и четвертого Дяди Стёпы – ветерана. На обложке издания 1985 года наш старинный друг в лыжной шапке мчит на коньках, но при этом на 12 странице в профиль, весь обсыпанный детишками с деревянными автоматами, сидит вылитый, только уставший Сергей Михалков в кепке и синих штанах. Мир, населенный акварельными машинами в идеальной пустой Москве, с крохотными грудничками на руках у крохотной мамы в большом пространстве осеннего парка. В котором неугомонный дед с михалковскими усами становится добродушным дедушкой.
Нельзя не упомянуть об образе Дяди Степы созданным художником, который продолжает традицию русской изобразительной школы, через своего учителя Бориса Александровича Дехтярёва (1908-1993) – дядя Степа Германа Алексеевича Мазурина. Именно иллюстрации к михалковской книге Мазурин сделал еще на третьем курсе МГАХИ имени В. И. Сурикова. Преподаватели показали рисунки Сергею Михалкову, и уже через несколько месяцев в издательстве «Детская литература» вышла книга с его иллюстрациями.
С 1955 года Герман Алексеевич не оставлял работы с издательством. За свою жизнь он воплотил в изображение три сотни книг. Часто в жизнеописаниях художников двадцатого века мы видим их связь через столичные школы. Герман Мазурин поступил в пензенскую художественную школу скопировав портрет Сталина из календаря, потому, что в доме было много книг, но зачастую без картинок. И маленький Герман рисовал на листках и вклеивал их в книги. Поступив в 1947 году далее в художественное училище в Пензе он соприкасается с репинской веткой древа русской изобразительной школы - тогда в училище преподавал Иван Силович Горюшкин-Сорокопудров, ученик Ивана Репина. Далее на графическом факультете Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, куда Мазурин поступает в 1952 году, через своего профессора Бориса Александровича Бехтерёва, прививается ещё раз к Репину, поскольку Бехтерёв учился у Дмитрия Кардовского. Сам Борис Александрович долгие годы был главным художником издательства «Детская литература».
«Книжка с картинкой формируют ребёнка, через книгу малыш познаёт мир, читать он ещё не умеет, и именно картинка даёт ему представление об окружающем. Поэтому, чем лучше нарисован рисунок, чем реалистичнее и точнее он, тем яснее дети будут воспринимать действительность.» - так профессор и руководитель мастерской «Искусство книги» МГАХИ им. Сурикова Герман Алексеевич Мазурин говорит о своей метацели. Милиционер Степан Степанов выглядит так, как должен выглядеть советский человек мужского пола, который вызывает доверие и одновременно носит форму и погоны. Плащ героя, который выглядит, как обычный человек, если бы не рост. Окружающие предметы и обстановка предельно ясны даже современному малышу.
Герман Алексеевич автор многих диафильмов. Так что у нескольких поколений советских людей его неповторимый стиль запечатлен буквально на подкорке. Нет ничего более прекрасного, чем служить пропаганде чистого образа для детей.
«И однажды, с чемоданом
Сквозь рентген пройдя сперва,
Сел турист Степан Степанов
В самолет Париж — Москва.
У окошка в кресло сел.
Пристегнулся. Завтрак съел.
Только взялся за газету —
Что такое? Прилетел!
— Как леталось, дядя Степа?
— Как здоровье?
— Как Европа? —
А Степанов всем в ответ:
— Лучше дома — места нет!»
Сергей Михалков
Дядя Стёпа – ветеран
1981
Мария Мальцева-Самойлович.
Ленинский план
В 1918 году Владимир Ленин решил, что пропаганда не должна ограничиваться только речами или печатной продукцией. Сами города и их облики должны образовывать «нового советского человека» и доносить ему правильность выбранного пути.
Действительно, уже тогда существовала концепция «нового общества» и «нового человека». Этот человек должен был разделять все принципы большевистской идеологии. Анатолий Луначарский говорил: «человек должен мыслить как МЫ, стать живым, полезным соответствующим органом, частью этого МЫ».
План монументальной пропаганды должен был стать одним из инструментов агитации и коммунистической идеологии. По сути это была программа развития монументального искусства ближайших лет.
Происхождение идеи
Тот же Луначарский вспоминал, что идея пришла к Ленину из утопического сочинения итальянского философа XV-XVI веков Томазо Кампанеллы «Город Солнца». Владимиру Ильичу особенно нравилась идея украшения города различными фресками, функция которых — просвещать молодежь, воспитывать в них гражданское чувство и учить истории.
Луначарский рассказывал, что Ленин рассуждал таким образом: «В разных видных местах, на подходящих стенах или на каких-нибудь специальных сооружениях для этого можно было бы разбросать краткие, но выразительные надписи, содержащие наиболее длительные, коренные принципы и лозунги марксизма…Еще важнее надписей я считаю памятники: бюсты или целые фигуры, может быть, барельефы, группы…Особенное внимание надо обратить и на открытие таких памятников…Пусть каждое такое открытие будет актом пропаганды и маленьким праздником». Единственное, от реализации идеи фресок сразу же пришлось отказаться: климат не оставит им шансов на долгое существование.
Принятие декрета
11 апреля 1918 года Луначарский внес ленинские идеи в свой доклад на заседании ВЦИК. Уже на следующий день Ленин, Луначарский и Сталин подписали декрет Совета Народных Комиссаров «О памятниках Республики». Вот какие задачи ставились в нем:
1.Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера.
2.Особой комиссии из народных комиссаров по просвещению и имуществ Республики и заведующего Отделом изобразительных искусств при Комиссариате просвещения поручается, по соглашению с художественной коллегией Москвы и Петрограда, определить, какие памятники подлежат снятию.
3.Той же комиссии поручается мобилизовать художественные силы и организовать широкий конкурс по выработке проектов памятников, долженствующих ознаменовать великие дни Российской социалистической революции.
4.Совет Народных Комиссаров выражает желание, чтобы в день 1 мая были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и поставлены первые модели новых памятников на суд масс.
5.Той же комиссии поручается спешно подготовить декорирование города в день 1 мая и замену надписей, эмблем, названий улиц, гербов и т.п. новыми, отражающими идеи и чувства революционной трудовой России.
6.Областные и губернские Совдепы приступают к этому же делу не иначе, как по соглашению с вышеуказанной комиссией.
7.По мере внесения смет и выяснения их практической надобности ассигновываются необходимые суммы.
Как видно из 4-го пункта срок был выбран достаточно опрометчиво: 1-е мая. То есть план необходимо было реализовать меньше, чем за 3 недели. Настолько срочной задача казалась большевикам и настолько неприятны им были памятники времен царской власти. Хотя кажется, что истинной причиной спешки было стремление доказать всем, что приход советской власти — это навсегда и пути назад нет и не будет.
Реализовать план к 1 мая 1918 года не удалось. Причин было несколько:
— не было четкого плана реализации декрета в установленные сроки;
— не было понимания о том, как всё это будет финансироваться;
— банально очень сжатые сроки на выполнение работ.
В дальнейшем исполнение декрета также будет затягиваться, но об этом расскажем чуть позже. Возвращаясь к первоначальному плану, стоит отметить, что кое-что все-таки получилось: подготовка к новому празднику- Дню Интернационала. Оформлением праздника на Красной Площади занимались художники-авангардисты во главе с Александром Весниным. Башни Кремля покрыли красными полотнами, сделали временную трибуну, а памятники имперских лет закрыли чехлами и декорациями, на которых написали коммунистические лозунги, надписи и эмблемы советской власти.
Разрушение дореволюционных памятников
Как я уже сказал выше, большевики стремились побыстрее избавиться от всех символов царской эпохи. Но на самом деле этот процесс начался не в апреле 1918 года, а больше, чем за год до издания декрета «О памятниках республики».
Сразу после Февральской революции в Киеве сбросили с пьедестала памятник Петру Столыпину. Революционеры устроили над памятником «народный суд», то есть буквально разыграли целое представление, где были разные стороны: обвинения и защиты памятника. Но поодаль уже виднелась огромная виселица, изготовленная заранее, так что итог этого суда всем был известен. Злая ирония этого еще и в том, что одна из надписей на памятнике Столыпину гласила «Вам нужны великие потрясения — нам нужна великая Россия».
Да, до 1-го мая 1918 года реализовать планы из декрета не удалось, зато в этот день прошел субботник. Он включил в себя, например, уничтожение памятного креста на месте убийства великого князя Сергея Александровича, пятого сына Александра Второго. На мероприятии лично присутствовал Владимир Ленин. Памятник же самому Александру Великому начали демонтировать в том же мае 1918 года. Начали со сброса фигуры императора, но дальше всё было не так просто. Дело в том, что памятник представлял собой достаточно масштабное архитектурное произведение в русском стиле.
Окончательно уничтожить памятник удалось только в 1928 году. Таким образом, он просуществовал ровно 30 лет — открыли его на склоне Боровицкого холма в 1898 году.
Первоначально на месте императорского мемориала собирались открыть памятник Льву Толстому. Так об этом вспоминал управляющий делами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич:
— Где отлучали Толстого от церкви? – спросил он [Ленин] меня.
— В Успенском соборе…
— Вот и хорошо, самое подходящее время его [памятник] убрать, а здесь поставить хорошую статую Льва Толстого, обращенную к Успенскому собору. Это будет как раз кстати.
Летом 1918 года разобрали памятник Александру Третьему у Храма Христа Спасителя. Процесс был долгим и показывался на фото и видео по всей стране. Монумент специально уничтожали по частям.
Кроме того, тем же летом снесли памятник герою русско-турецкой войны генералу Скобелеву на Тверской площади. Говорили, что идея принадлежала рабочим завода без какой-либо инициативы со стороны властей.
Кому ставить новые памятники
Конечно, здесь тоже нужен был план. Предстояло определить список людей, которые заслуживали того, чтобы быть увековеченными.
17 июля 1918 года было выпущено «Постановление о постановке в Москве памятников великим людям». А к 30 июля Наркомпрос уже представил список на рассмотрение правительства.
В этот список вошли люди, которым решено было поставить монументы в Москве и других городах РСФСР. Это были не только основоположники марксизма, но и другие зарубежные революционеры и общественные деятели. Причем не обязательно современные: отсчет взяли вообще со времен древнеримской эпохи: Спартак, Тиберий Гракх, Брут, Бебель, Лассаль. Не обошли стороной и французских революционеров, в список попали: Марат, Дантон, Робеспьер. Туда же философы-утописты: Фурье, Сен-Симон и Оуэн.
Большинство этих имен не было известно широкой советской публике — они не были никак связаны с Россией. Для обычного народа это были просто красивые экзотические имена, которые впоследствии станут символом эпохи.
Если говорить о наших соотечественниках, то решено было установить памятники Разину, декабристам, Герцену, террористам-цареубийцам, а также Бакунину, Лаврову и Плеханову.
Однако был и список с представителями культуры: великими писателями, поэтами и учеными. В него попало уже больше знакомых народу имен: Толстой, Достоевский, Лермонтов, Радищев, Пушкин, Гоголь, Белинский, Тютчев, Ломоносов и так далее. Всего фамилий было 69.
Финальный списки опубликовали в «Известиях ВЦИК» в августе 1918 года. Таким образом, хаотичные действия 1917-1918 годов сменялись четким планом. Ленинский план монументальной пропаганды приобретал всё больше очертаний. Даже несмотря на то, что в этот раз никакими временными рамками он ограничен не был. Это понятно — по задумке всё это должно было существовать и развиваться бесконечно. Если не может закончиться государство, то и пропаганда тоже не может.
Строительство новых памятников
Интересно, что первым делом решили поставить бюст Радищеву. Есть информация, что вообще-то изначально планировалось сначала установить монументы Марксу и Энгельсу, что было бы логично. Но всё тот же Луначарский в сентябре 1918 года произнес следующие слова: «Радищев принадлежит нам. Прочь от него руки, правые с.-р. и меньшевики! Это был революционер во весь рост, не знавший компромиссов с крепостниками и тиранами. И ему первый дар русской революции». Однако простоял Радищев в Петрограде недолго: уже 19 января 1919 года гипсовый бюст сдуло сильным ветром, и он разбился.
Такого же Радищева поставили в октябре 1918 года на Триумфальной площади в Москве. Он не повторил печальную судьбу петербургского близнеца и простоял почти 20 лет. Затем наступило время реконструкции площади, бюст разобрали и отправили в Музей Революции СССР.
Затем в Петрограде были спешно возведены памятники Лассалю, Добролюбову, Марксу, Чернышевскому и Гейне. Все — за осень. В Москве, в Александровском саду также очень быстро переделали Романовский обелиск. С него сбили имена царей династии Романовых и заменили их именами марксистов, утопистов и теоретиков народничества.
В 1918-1919 годах также соорудили: обелиск Первой Советской Конституции, памятники Достоевскому, Лермонтову, Грибоедову, эсеру И. Каляеву, Робеспьеру, Дантону, Марату, Герцену и Огарёву перед зданием университета, мемориальную доску на Красной площади и многое другое. Некоторые из монументов не претендовали на высокую художественную ценность. Чего уж там, часть из них получались довольно нелепыми.
Однако это не помешало им навсегда войти в историю советской пропаганды и стать частью молодого советского искусства. К тому же, со временем навык советских скульпторов совершенствовался, хотя бы в силу того, что заказов было очень много. Имена Веры Мухиной, Сергея Коненкова, Карла Зале и многих других впоследствии стали известны всем как имена великих скульпторов своего времени.
Если возвращаться к заметным примерам монументальной пропаганды, то здесь выделяться будет мемориальная доска С. Коненкова на Спасской башне Кремля. До постройки Мавзолея в 1924 году это был центр всей композиции Красной Площади наряду с огромной статуей Рабочего.
Мемориальная доска представляла собой цементный рельеф, изображающий аллегорическую крылатую фигуру Славы с пальмовой ветвью в руке. В ее ногах были вишнёво-красные знамена, на которых читались слова: «Павшим в борьбе за мир и братство народов». Поговаривают, что на открытии доски у Коненкова состоялся следующий диалог с пожилой женщиной, которая пришла на Красную Площадь и долго допытывалась:
— А какой святой икону ставят?
— Революции
— Такой святой я не знаю
— Ну что ж, запомни.
Ленину доска не очень нравилась: она и правда напоминала икону. Тем не менее, на Спасской башне она продержалась до 1948 года. Сейчас на нее можно посмотреть в фонде Музея истории современной России.
Сколько всего монументов возвели по ленинскому плану монументальной пропаганды? Посчитать невозможно. Во-первых, говорят, что вся советская культура так или иначе содержала черты именно этого плана вплоть до распада СССР. Во-вторых, большая часть монументов была сделана из непрочных материалов и просто не могла прожить долгое время.
Богдан Хабриев.
Действительно, уже тогда существовала концепция «нового общества» и «нового человека». Этот человек должен был разделять все принципы большевистской идеологии. Анатолий Луначарский говорил: «человек должен мыслить как МЫ, стать живым, полезным соответствующим органом, частью этого МЫ».
План монументальной пропаганды должен был стать одним из инструментов агитации и коммунистической идеологии. По сути это была программа развития монументального искусства ближайших лет.
Происхождение идеи
Тот же Луначарский вспоминал, что идея пришла к Ленину из утопического сочинения итальянского философа XV-XVI веков Томазо Кампанеллы «Город Солнца». Владимиру Ильичу особенно нравилась идея украшения города различными фресками, функция которых — просвещать молодежь, воспитывать в них гражданское чувство и учить истории.
Луначарский рассказывал, что Ленин рассуждал таким образом: «В разных видных местах, на подходящих стенах или на каких-нибудь специальных сооружениях для этого можно было бы разбросать краткие, но выразительные надписи, содержащие наиболее длительные, коренные принципы и лозунги марксизма…Еще важнее надписей я считаю памятники: бюсты или целые фигуры, может быть, барельефы, группы…Особенное внимание надо обратить и на открытие таких памятников…Пусть каждое такое открытие будет актом пропаганды и маленьким праздником». Единственное, от реализации идеи фресок сразу же пришлось отказаться: климат не оставит им шансов на долгое существование.
Принятие декрета
11 апреля 1918 года Луначарский внес ленинские идеи в свой доклад на заседании ВЦИК. Уже на следующий день Ленин, Луначарский и Сталин подписали декрет Совета Народных Комиссаров «О памятниках Республики». Вот какие задачи ставились в нем:
1.Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера.
2.Особой комиссии из народных комиссаров по просвещению и имуществ Республики и заведующего Отделом изобразительных искусств при Комиссариате просвещения поручается, по соглашению с художественной коллегией Москвы и Петрограда, определить, какие памятники подлежат снятию.
3.Той же комиссии поручается мобилизовать художественные силы и организовать широкий конкурс по выработке проектов памятников, долженствующих ознаменовать великие дни Российской социалистической революции.
4.Совет Народных Комиссаров выражает желание, чтобы в день 1 мая были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и поставлены первые модели новых памятников на суд масс.
5.Той же комиссии поручается спешно подготовить декорирование города в день 1 мая и замену надписей, эмблем, названий улиц, гербов и т.п. новыми, отражающими идеи и чувства революционной трудовой России.
6.Областные и губернские Совдепы приступают к этому же делу не иначе, как по соглашению с вышеуказанной комиссией.
7.По мере внесения смет и выяснения их практической надобности ассигновываются необходимые суммы.
Как видно из 4-го пункта срок был выбран достаточно опрометчиво: 1-е мая. То есть план необходимо было реализовать меньше, чем за 3 недели. Настолько срочной задача казалась большевикам и настолько неприятны им были памятники времен царской власти. Хотя кажется, что истинной причиной спешки было стремление доказать всем, что приход советской власти — это навсегда и пути назад нет и не будет.
Реализовать план к 1 мая 1918 года не удалось. Причин было несколько:
— не было четкого плана реализации декрета в установленные сроки;
— не было понимания о том, как всё это будет финансироваться;
— банально очень сжатые сроки на выполнение работ.
В дальнейшем исполнение декрета также будет затягиваться, но об этом расскажем чуть позже. Возвращаясь к первоначальному плану, стоит отметить, что кое-что все-таки получилось: подготовка к новому празднику- Дню Интернационала. Оформлением праздника на Красной Площади занимались художники-авангардисты во главе с Александром Весниным. Башни Кремля покрыли красными полотнами, сделали временную трибуну, а памятники имперских лет закрыли чехлами и декорациями, на которых написали коммунистические лозунги, надписи и эмблемы советской власти.
Разрушение дореволюционных памятников
Как я уже сказал выше, большевики стремились побыстрее избавиться от всех символов царской эпохи. Но на самом деле этот процесс начался не в апреле 1918 года, а больше, чем за год до издания декрета «О памятниках республики».
Сразу после Февральской революции в Киеве сбросили с пьедестала памятник Петру Столыпину. Революционеры устроили над памятником «народный суд», то есть буквально разыграли целое представление, где были разные стороны: обвинения и защиты памятника. Но поодаль уже виднелась огромная виселица, изготовленная заранее, так что итог этого суда всем был известен. Злая ирония этого еще и в том, что одна из надписей на памятнике Столыпину гласила «Вам нужны великие потрясения — нам нужна великая Россия».
Да, до 1-го мая 1918 года реализовать планы из декрета не удалось, зато в этот день прошел субботник. Он включил в себя, например, уничтожение памятного креста на месте убийства великого князя Сергея Александровича, пятого сына Александра Второго. На мероприятии лично присутствовал Владимир Ленин. Памятник же самому Александру Великому начали демонтировать в том же мае 1918 года. Начали со сброса фигуры императора, но дальше всё было не так просто. Дело в том, что памятник представлял собой достаточно масштабное архитектурное произведение в русском стиле.
Окончательно уничтожить памятник удалось только в 1928 году. Таким образом, он просуществовал ровно 30 лет — открыли его на склоне Боровицкого холма в 1898 году.
Первоначально на месте императорского мемориала собирались открыть памятник Льву Толстому. Так об этом вспоминал управляющий делами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич:
— Где отлучали Толстого от церкви? – спросил он [Ленин] меня.
— В Успенском соборе…
— Вот и хорошо, самое подходящее время его [памятник] убрать, а здесь поставить хорошую статую Льва Толстого, обращенную к Успенскому собору. Это будет как раз кстати.
Летом 1918 года разобрали памятник Александру Третьему у Храма Христа Спасителя. Процесс был долгим и показывался на фото и видео по всей стране. Монумент специально уничтожали по частям.
Кроме того, тем же летом снесли памятник герою русско-турецкой войны генералу Скобелеву на Тверской площади. Говорили, что идея принадлежала рабочим завода без какой-либо инициативы со стороны властей.
Кому ставить новые памятники
Конечно, здесь тоже нужен был план. Предстояло определить список людей, которые заслуживали того, чтобы быть увековеченными.
17 июля 1918 года было выпущено «Постановление о постановке в Москве памятников великим людям». А к 30 июля Наркомпрос уже представил список на рассмотрение правительства.
В этот список вошли люди, которым решено было поставить монументы в Москве и других городах РСФСР. Это были не только основоположники марксизма, но и другие зарубежные революционеры и общественные деятели. Причем не обязательно современные: отсчет взяли вообще со времен древнеримской эпохи: Спартак, Тиберий Гракх, Брут, Бебель, Лассаль. Не обошли стороной и французских революционеров, в список попали: Марат, Дантон, Робеспьер. Туда же философы-утописты: Фурье, Сен-Симон и Оуэн.
Большинство этих имен не было известно широкой советской публике — они не были никак связаны с Россией. Для обычного народа это были просто красивые экзотические имена, которые впоследствии станут символом эпохи.
Если говорить о наших соотечественниках, то решено было установить памятники Разину, декабристам, Герцену, террористам-цареубийцам, а также Бакунину, Лаврову и Плеханову.
Однако был и список с представителями культуры: великими писателями, поэтами и учеными. В него попало уже больше знакомых народу имен: Толстой, Достоевский, Лермонтов, Радищев, Пушкин, Гоголь, Белинский, Тютчев, Ломоносов и так далее. Всего фамилий было 69.
Финальный списки опубликовали в «Известиях ВЦИК» в августе 1918 года. Таким образом, хаотичные действия 1917-1918 годов сменялись четким планом. Ленинский план монументальной пропаганды приобретал всё больше очертаний. Даже несмотря на то, что в этот раз никакими временными рамками он ограничен не был. Это понятно — по задумке всё это должно было существовать и развиваться бесконечно. Если не может закончиться государство, то и пропаганда тоже не может.
Строительство новых памятников
Интересно, что первым делом решили поставить бюст Радищеву. Есть информация, что вообще-то изначально планировалось сначала установить монументы Марксу и Энгельсу, что было бы логично. Но всё тот же Луначарский в сентябре 1918 года произнес следующие слова: «Радищев принадлежит нам. Прочь от него руки, правые с.-р. и меньшевики! Это был революционер во весь рост, не знавший компромиссов с крепостниками и тиранами. И ему первый дар русской революции». Однако простоял Радищев в Петрограде недолго: уже 19 января 1919 года гипсовый бюст сдуло сильным ветром, и он разбился.
Такого же Радищева поставили в октябре 1918 года на Триумфальной площади в Москве. Он не повторил печальную судьбу петербургского близнеца и простоял почти 20 лет. Затем наступило время реконструкции площади, бюст разобрали и отправили в Музей Революции СССР.
Затем в Петрограде были спешно возведены памятники Лассалю, Добролюбову, Марксу, Чернышевскому и Гейне. Все — за осень. В Москве, в Александровском саду также очень быстро переделали Романовский обелиск. С него сбили имена царей династии Романовых и заменили их именами марксистов, утопистов и теоретиков народничества.
В 1918-1919 годах также соорудили: обелиск Первой Советской Конституции, памятники Достоевскому, Лермонтову, Грибоедову, эсеру И. Каляеву, Робеспьеру, Дантону, Марату, Герцену и Огарёву перед зданием университета, мемориальную доску на Красной площади и многое другое. Некоторые из монументов не претендовали на высокую художественную ценность. Чего уж там, часть из них получались довольно нелепыми.
Однако это не помешало им навсегда войти в историю советской пропаганды и стать частью молодого советского искусства. К тому же, со временем навык советских скульпторов совершенствовался, хотя бы в силу того, что заказов было очень много. Имена Веры Мухиной, Сергея Коненкова, Карла Зале и многих других впоследствии стали известны всем как имена великих скульпторов своего времени.
Если возвращаться к заметным примерам монументальной пропаганды, то здесь выделяться будет мемориальная доска С. Коненкова на Спасской башне Кремля. До постройки Мавзолея в 1924 году это был центр всей композиции Красной Площади наряду с огромной статуей Рабочего.
Мемориальная доска представляла собой цементный рельеф, изображающий аллегорическую крылатую фигуру Славы с пальмовой ветвью в руке. В ее ногах были вишнёво-красные знамена, на которых читались слова: «Павшим в борьбе за мир и братство народов». Поговаривают, что на открытии доски у Коненкова состоялся следующий диалог с пожилой женщиной, которая пришла на Красную Площадь и долго допытывалась:
— А какой святой икону ставят?
— Революции
— Такой святой я не знаю
— Ну что ж, запомни.
Ленину доска не очень нравилась: она и правда напоминала икону. Тем не менее, на Спасской башне она продержалась до 1948 года. Сейчас на нее можно посмотреть в фонде Музея истории современной России.
Сколько всего монументов возвели по ленинскому плану монументальной пропаганды? Посчитать невозможно. Во-первых, говорят, что вся советская культура так или иначе содержала черты именно этого плана вплоть до распада СССР. Во-вторых, большая часть монументов была сделана из непрочных материалов и просто не могла прожить долгое время.
Богдан Хабриев.
От «Искры» до Победы!
«Искру» немцы называли со свойственной им (Гитлеру) тягой к помпезности «Zweite Ladoga-Schlacht» (Вторая битва у Ладожского озера). Судьба, как и всегда, не лишена иронии — битвы у Ладожского озера тевтонам никогда не задавались, как-то сразу исторически не задались.
В ноябре-декабре 1942-го Ленинград напряжением всех сил готовился к рывку, к прорыву блокады. Ленинградский фронт под командованием Леонида Говорова был измотан постоянным отражением попыток немцев сжать кольцо ещё сильнее, а ведь ставилась задача наступать — идти навстречу Волховскому фронту Кирилла Мерецкова. Внутри кольца старались учесть все возможные варианты развития событий, учились форсировать по льду Неву — да, да — буквально отрабатывали варианты штурмовых действий, ежедневно, при более, чем скромном довольствии, а уж если по-честному — впроголодь. Экономили, накапливали боеприпасы, изучали позиции противника пытаясь найти хоть какое-то слабое место, точку входа. Но... Штурмовать пришлось в лоб. За полтора года фашисты врылись в землю по самые уши и выковыривать их оттуда предстояло тяжким ратным трудом. И всё же предчувствие перемен висело в воздухе, им жили, им дышали. Верили — устояли до дня сегодняшнего, устоим и дальше. Только бы ещё немного потерпеть, только бы ещё «день да ночь продержаться». Приходили хорошие вести со Сталинградского фронта — там сами немцы попали в кольцо и по всему было видно, что им крышка. А раз так!
Ленинград жил верой в Победу.
Из дня сегодняшнего, тот прорыв, тот беспримерный (уж простите, лучше слова не подобрать, да и не надо) подвиг января 43-го, кажется античным мифом, древним сказанием о битве титанов с гигантским змеем, удушающим Град Петров...
Как они смогли? Как вытянули на себе тяжкий воз войны? Все те, кто шёл в атаку не думая о себе — думая о будущем...
Художники Ленинграда о планах прорыва блокады догадывались — многие возвращались из командировок, побывав в частях Ленинградского фронта, прибывали в город из партизанских отрядов. Успели повоевать, успели и собрать зарисовки, сделать «слепок с истории», что разворачивалась прямо перед их глазами.
В конце декабря вернулся из расположения 80-ой Ленинградской стрелковой дивизии Иван Астапов, и сразу на Герцена 38 — пора было браться за работу, пора было создавать агитацию предвещающую Победу.
Чуть больше чем через две недели после прорыва блокады, 5-го февраля 1943-го, начала действовать построенная под огнём врага Дорога Победы — временная железнодорожная линия Поляны-Шлиссельбург протяжённостью в 33 километра — она будет снабжать Ленинград до 10-го марта 1944-го и фактически спасёт город от голодной смерти, заменив тонкую нитку Дороги Жизни проложенной по льду Ладоги.
Ленинград оживал. По Дороге Победы ходил даже пассажирский поезд. Да, это было смертельно опасно, местами позиции немцев располагались всего в 4-5-ти километрах от насыпи, но это было возможно — всё невозможное ленинградцы пережили в самую страшную зиму блокады.
В ознаменование первой Победы Ленинграда, в рекордно короткий срок — всего за один месяц — ко Дню Красной Армии, ленинградские художники Владимир Серов (тот самый, автор плаката «Били, бьём и будем бить!»), Иосиф Серебряный и Анатолий Казанцев пишут монументальное полотно «Прорыв блокады» — запечатлённый исторический момент, когда в 9 часов 30 минут 18-го января 1943-го, в районе рабочих посёлков №1 и №5, у южного побережья Ладожского озера, встретились бойцы первого отдельного стрелкового батальона 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта и первого стрелкового батальона 1240-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта.
Такие подробности важны.
На них держится наша память.
В мае 1943-го, в доме Союза художников на Герцена 38, будет открыта Весенняя выставка ленинградских художников и там полотно «Прорыв блокады» (в настоящее время хранится в Русском музее Санкт-Петербурга) займёт заслуженное главное место — как символ воплощённой веры и стойкости всех ленинградцев и всех тех, кто принимал участие в операции «Искра».
С конца января 1943-го боевые листки «Боевого карандаша» уже не ограничивались событиями на Ленинградском фронте и во всё ещё блокированном Ленинграде — крупнейшим победам Красной Армии посвящались специальные выпуски: «Два хребта» (1943), «Весенние работы Красной Армии (1943), «Мой костёр» (1944) — Николая Муратова, «Молниеносная война. Затяжная (1943), «Весна в Крыму» (1944) — Ивана Астапова, «Прут» (1944): «Вступив на берег Румынии, фон-Манштейн сказал в унынии: «Что будет дальше, я не знаю... Пока — бегу к Дунаю!» — Астапова и Курдова, «Встреча предка с потомком» (1943), «Виды на Крым»: «Гитлер повсюду хвастливо кричал: «Крым будет нашей колонией вскоре!..» Сбросив немецких захватчиков в море, «Накося-выкуси!» — Крым отвечал» — Владимира Гальбы.
Вспомним и других художников.
О всех в одном тексте не расскажешь, но хотя бы о некоторых.
Плечом к плечу, в одном боевом строю «карандашистов» стоял и работал Юрий Петров — с июля 1941-го, с начала возрождения «Боевого карандаша», принимал он самое живое участие в создании первых его листков. Чаще прочего работал с Астаповым, Курдовым и Муратовым. Воевавший добровольцем в Испании, Петров хорошо знал цену фашистской идеологии «нового миропорядка». До Победы он не доживёт — погибнет на Ленинградском фронте в 1944-ом. Мы помним его блестящие боевые листки: «Защищай свой город, свой дом» (1941), «Мы им напомним» (1941), «Песня о нашем штыке» (1941), «Рассказ об участии десантов парашютистов – диверсантов» (1941), «Три креста» (1941), «Трое отважных» (1941), «Краснознаменный Балтийский флот наносит врагу удар за ударом» (1942), «Ненавистный Гитлеровский «новый порядок» — тюрьма народов» (1942–43), «Балтийцы на дозоре» (1943).
Иван Харкевич — выдающийся художник-график, книжный иллюстратор и плакатист. До войны он работал в детских журналах «Чиж» и «Костёр», где печатали свои произведения Корней Чуковский, Михаил Зощенко, Леонид Пантелеев, иллюстрировал книги издательств «Детгиз» и «Детская литература», к примеру, знаменитый роман Вениамина Каверина «Два капитана». Ещё в 1939-ом участвовал он в создании первых плакатов «Боевого карандаша». Работал в соавторстве с Курдовым и Шабановым (Боевой листок №5 «Стахановец – в бою хасановец!», 1940).
Дальше жизнь распорядилась по своему и как всегда неожиданно. Начало войны Иван Харкевич застал в Риге, на военных сборах, он был на них направлен весной 1941-го. Вечером 22-го июня получил направление в действующую армию на должность фронтового художника — прибыв на фронт иллюстрировал газеты, рисовал листовки и антифашистские карикатуры. Что интересно — газета, в которой работал Харкевич, называлась «Друг солдата» и выходила на немецком языке. Она призывала немцев одуматься, сдаться в плен и выйти из кровопролитной войны развязанной Гитлером. Свежеотпечатанные газетные листы сбрасывали с самолётов на вражеские позиции, прямо на головы «читателей». Бывало, что и сдавались немцы после такого.
Слово иногда заменяет оружие.
Жаль, не всегда.
В январские дни 1944-го, чуть более года спустя после «Искры», грянул «Январский гром» — началось мощное наступление Красной Армии и 27-го января Ленинград был полностью освобождён от блокады. Город ликовал. Над городом распустились цветы победного салюта, первого ленинградского салюта за время войны. Всеобщее счастье, невероятный душевный подъём, свет посреди ночи, заливавший площади и улицы ещё недавно обстреливаемые врагом, освобождённая от маскировки фигура «Медного всадника» — будто сам Пётр пришёл поглядеть на невиданное, восклицая «Виват воинству русскому!» — наступало время нового этапа в жизни героического Ленинграда — его восстановление.
В парки и скверы возвращались скульптуры, окна освобождали от мешков с песком, открывались музеи, театры, на улицах появились афиши со всенародно любимыми артистами.
«Боевой карандаш» торжествовал вместе со всеми, вспоминая ушедших и не доживших до дня снятия блокады, чествуя выживших и победивших смерть. Многим запомнился в те радостные дни плакат художника «карандашиста» Владимира Гальбы и поэта-сатирика Бориса Тимофеева «Повреждение по всей линии...» — правильный, праздничный плакат!
«Гитлер говорит: «Алло! Дайте Красное село!..»
«Занято русскими», — слышит в ответ.
«Соединения вашего нет...»
Ужасом охваченный, крикнул: «Дайте Гатчину!..»
«Занято русскими!..», — слышит в ответ.
«Соединения вашего нет...»
Рявкнул хриплым голосом: «Дайте срочно Волосово!.. Дайте Чудово и Мгу!.. Ждать я больше не могу!..»
«Всё занято русскими!..», — слышит в ответ.
«Соединений ваших там нет...»
Появились серии боевых листков с призывом как можно скорее восстановить урон нанесённый фашистами городу. Особенно удачен был до слёз пронзительный плакат Иосифа Серебряного «А ну-ка, взяли!..» — хрупкая девушка в стоптанных кирзовых сапогах, поднимающая тяжёлые носилки с кирпичом. Многоточие в названии не было случайным, все понимали — мужчины на фронте и тыл остаётся на хрупких плечах женщин... Копии плаката, огромные, в размер фасадов домов, были размещены на всех центральных улицах Ленинграда. Город оживал вопреки всему, город ждал окончательной Победы над врагом!
Военная деятельность «Боевого карандаша» завершилась в первой половине 1945-го — казалось, нет больше надобности в яростной пропаганде — наступил мир, и теперь — уже навсегда!
Эх, если бы так...
103 нумерованных листа, ряд ненумерованных плакатов, десятки почтовых открыток общим тиражом около двух миллионов экземпляров — вот что такое «Боевой карандаш» Ленинграда.
Ефим Ефимовский писал про те дни: «В 1945-ом году коллектив художников и поэтов «Боевого карандаша» отпраздновал Победу и на целых 11 лет ушел от работы. Полагали, что в мирное время сатира не так уж и востребована. И только в 1956–ом году, в разгар холодной войны, по настоянию Хрущёва, состоялось третье, последнее рождение «Боевого карандаша». Его руководителем и председателем художественного совета с 1956-го по 1982-ой год был Иван Степанович Астапов».
Именно благодаря Астапову, в пятидесятые и был отточен до совершенства тот уровень сатиры, что несмотря на все грозные указания читался в утверждённых цензурой боевых (хоть и в мирное время) листках «Боевого карандаша». Астапову удалось на такую высоту поднять престиж коллектива, что в последующие годы художники и поэты объединения были известны в Ленинграде и его окрестностях ничуть не меньше, чем артисты театра и кино, а из магазинов и с книжных прилавков сборники с репродукциями «Боевого карандаша» исчезали мгновенно.
Наступали времена глобального противостояния двух систем, двух непримиримых миров, двух философий — взаимоисключающих друг друга. Сатира снова оказывалась на острие атаки, но это совсем другой разговор. И мы его, безусловно, продолжим.
Сергей Цветаев
В ноябре-декабре 1942-го Ленинград напряжением всех сил готовился к рывку, к прорыву блокады. Ленинградский фронт под командованием Леонида Говорова был измотан постоянным отражением попыток немцев сжать кольцо ещё сильнее, а ведь ставилась задача наступать — идти навстречу Волховскому фронту Кирилла Мерецкова. Внутри кольца старались учесть все возможные варианты развития событий, учились форсировать по льду Неву — да, да — буквально отрабатывали варианты штурмовых действий, ежедневно, при более, чем скромном довольствии, а уж если по-честному — впроголодь. Экономили, накапливали боеприпасы, изучали позиции противника пытаясь найти хоть какое-то слабое место, точку входа. Но... Штурмовать пришлось в лоб. За полтора года фашисты врылись в землю по самые уши и выковыривать их оттуда предстояло тяжким ратным трудом. И всё же предчувствие перемен висело в воздухе, им жили, им дышали. Верили — устояли до дня сегодняшнего, устоим и дальше. Только бы ещё немного потерпеть, только бы ещё «день да ночь продержаться». Приходили хорошие вести со Сталинградского фронта — там сами немцы попали в кольцо и по всему было видно, что им крышка. А раз так!
Ленинград жил верой в Победу.
Из дня сегодняшнего, тот прорыв, тот беспримерный (уж простите, лучше слова не подобрать, да и не надо) подвиг января 43-го, кажется античным мифом, древним сказанием о битве титанов с гигантским змеем, удушающим Град Петров...
Как они смогли? Как вытянули на себе тяжкий воз войны? Все те, кто шёл в атаку не думая о себе — думая о будущем...
Художники Ленинграда о планах прорыва блокады догадывались — многие возвращались из командировок, побывав в частях Ленинградского фронта, прибывали в город из партизанских отрядов. Успели повоевать, успели и собрать зарисовки, сделать «слепок с истории», что разворачивалась прямо перед их глазами.
В конце декабря вернулся из расположения 80-ой Ленинградской стрелковой дивизии Иван Астапов, и сразу на Герцена 38 — пора было браться за работу, пора было создавать агитацию предвещающую Победу.
Чуть больше чем через две недели после прорыва блокады, 5-го февраля 1943-го, начала действовать построенная под огнём врага Дорога Победы — временная железнодорожная линия Поляны-Шлиссельбург протяжённостью в 33 километра — она будет снабжать Ленинград до 10-го марта 1944-го и фактически спасёт город от голодной смерти, заменив тонкую нитку Дороги Жизни проложенной по льду Ладоги.
Ленинград оживал. По Дороге Победы ходил даже пассажирский поезд. Да, это было смертельно опасно, местами позиции немцев располагались всего в 4-5-ти километрах от насыпи, но это было возможно — всё невозможное ленинградцы пережили в самую страшную зиму блокады.
В ознаменование первой Победы Ленинграда, в рекордно короткий срок — всего за один месяц — ко Дню Красной Армии, ленинградские художники Владимир Серов (тот самый, автор плаката «Били, бьём и будем бить!»), Иосиф Серебряный и Анатолий Казанцев пишут монументальное полотно «Прорыв блокады» — запечатлённый исторический момент, когда в 9 часов 30 минут 18-го января 1943-го, в районе рабочих посёлков №1 и №5, у южного побережья Ладожского озера, встретились бойцы первого отдельного стрелкового батальона 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта и первого стрелкового батальона 1240-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта.
Такие подробности важны.
На них держится наша память.
В мае 1943-го, в доме Союза художников на Герцена 38, будет открыта Весенняя выставка ленинградских художников и там полотно «Прорыв блокады» (в настоящее время хранится в Русском музее Санкт-Петербурга) займёт заслуженное главное место — как символ воплощённой веры и стойкости всех ленинградцев и всех тех, кто принимал участие в операции «Искра».
С конца января 1943-го боевые листки «Боевого карандаша» уже не ограничивались событиями на Ленинградском фронте и во всё ещё блокированном Ленинграде — крупнейшим победам Красной Армии посвящались специальные выпуски: «Два хребта» (1943), «Весенние работы Красной Армии (1943), «Мой костёр» (1944) — Николая Муратова, «Молниеносная война. Затяжная (1943), «Весна в Крыму» (1944) — Ивана Астапова, «Прут» (1944): «Вступив на берег Румынии, фон-Манштейн сказал в унынии: «Что будет дальше, я не знаю... Пока — бегу к Дунаю!» — Астапова и Курдова, «Встреча предка с потомком» (1943), «Виды на Крым»: «Гитлер повсюду хвастливо кричал: «Крым будет нашей колонией вскоре!..» Сбросив немецких захватчиков в море, «Накося-выкуси!» — Крым отвечал» — Владимира Гальбы.
Вспомним и других художников.
О всех в одном тексте не расскажешь, но хотя бы о некоторых.
Плечом к плечу, в одном боевом строю «карандашистов» стоял и работал Юрий Петров — с июля 1941-го, с начала возрождения «Боевого карандаша», принимал он самое живое участие в создании первых его листков. Чаще прочего работал с Астаповым, Курдовым и Муратовым. Воевавший добровольцем в Испании, Петров хорошо знал цену фашистской идеологии «нового миропорядка». До Победы он не доживёт — погибнет на Ленинградском фронте в 1944-ом. Мы помним его блестящие боевые листки: «Защищай свой город, свой дом» (1941), «Мы им напомним» (1941), «Песня о нашем штыке» (1941), «Рассказ об участии десантов парашютистов – диверсантов» (1941), «Три креста» (1941), «Трое отважных» (1941), «Краснознаменный Балтийский флот наносит врагу удар за ударом» (1942), «Ненавистный Гитлеровский «новый порядок» — тюрьма народов» (1942–43), «Балтийцы на дозоре» (1943).
Иван Харкевич — выдающийся художник-график, книжный иллюстратор и плакатист. До войны он работал в детских журналах «Чиж» и «Костёр», где печатали свои произведения Корней Чуковский, Михаил Зощенко, Леонид Пантелеев, иллюстрировал книги издательств «Детгиз» и «Детская литература», к примеру, знаменитый роман Вениамина Каверина «Два капитана». Ещё в 1939-ом участвовал он в создании первых плакатов «Боевого карандаша». Работал в соавторстве с Курдовым и Шабановым (Боевой листок №5 «Стахановец – в бою хасановец!», 1940).
Дальше жизнь распорядилась по своему и как всегда неожиданно. Начало войны Иван Харкевич застал в Риге, на военных сборах, он был на них направлен весной 1941-го. Вечером 22-го июня получил направление в действующую армию на должность фронтового художника — прибыв на фронт иллюстрировал газеты, рисовал листовки и антифашистские карикатуры. Что интересно — газета, в которой работал Харкевич, называлась «Друг солдата» и выходила на немецком языке. Она призывала немцев одуматься, сдаться в плен и выйти из кровопролитной войны развязанной Гитлером. Свежеотпечатанные газетные листы сбрасывали с самолётов на вражеские позиции, прямо на головы «читателей». Бывало, что и сдавались немцы после такого.
Слово иногда заменяет оружие.
Жаль, не всегда.
В январские дни 1944-го, чуть более года спустя после «Искры», грянул «Январский гром» — началось мощное наступление Красной Армии и 27-го января Ленинград был полностью освобождён от блокады. Город ликовал. Над городом распустились цветы победного салюта, первого ленинградского салюта за время войны. Всеобщее счастье, невероятный душевный подъём, свет посреди ночи, заливавший площади и улицы ещё недавно обстреливаемые врагом, освобождённая от маскировки фигура «Медного всадника» — будто сам Пётр пришёл поглядеть на невиданное, восклицая «Виват воинству русскому!» — наступало время нового этапа в жизни героического Ленинграда — его восстановление.
В парки и скверы возвращались скульптуры, окна освобождали от мешков с песком, открывались музеи, театры, на улицах появились афиши со всенародно любимыми артистами.
«Боевой карандаш» торжествовал вместе со всеми, вспоминая ушедших и не доживших до дня снятия блокады, чествуя выживших и победивших смерть. Многим запомнился в те радостные дни плакат художника «карандашиста» Владимира Гальбы и поэта-сатирика Бориса Тимофеева «Повреждение по всей линии...» — правильный, праздничный плакат!
«Гитлер говорит: «Алло! Дайте Красное село!..»
«Занято русскими», — слышит в ответ.
«Соединения вашего нет...»
Ужасом охваченный, крикнул: «Дайте Гатчину!..»
«Занято русскими!..», — слышит в ответ.
«Соединения вашего нет...»
Рявкнул хриплым голосом: «Дайте срочно Волосово!.. Дайте Чудово и Мгу!.. Ждать я больше не могу!..»
«Всё занято русскими!..», — слышит в ответ.
«Соединений ваших там нет...»
Появились серии боевых листков с призывом как можно скорее восстановить урон нанесённый фашистами городу. Особенно удачен был до слёз пронзительный плакат Иосифа Серебряного «А ну-ка, взяли!..» — хрупкая девушка в стоптанных кирзовых сапогах, поднимающая тяжёлые носилки с кирпичом. Многоточие в названии не было случайным, все понимали — мужчины на фронте и тыл остаётся на хрупких плечах женщин... Копии плаката, огромные, в размер фасадов домов, были размещены на всех центральных улицах Ленинграда. Город оживал вопреки всему, город ждал окончательной Победы над врагом!
Военная деятельность «Боевого карандаша» завершилась в первой половине 1945-го — казалось, нет больше надобности в яростной пропаганде — наступил мир, и теперь — уже навсегда!
Эх, если бы так...
103 нумерованных листа, ряд ненумерованных плакатов, десятки почтовых открыток общим тиражом около двух миллионов экземпляров — вот что такое «Боевой карандаш» Ленинграда.
Ефим Ефимовский писал про те дни: «В 1945-ом году коллектив художников и поэтов «Боевого карандаша» отпраздновал Победу и на целых 11 лет ушел от работы. Полагали, что в мирное время сатира не так уж и востребована. И только в 1956–ом году, в разгар холодной войны, по настоянию Хрущёва, состоялось третье, последнее рождение «Боевого карандаша». Его руководителем и председателем художественного совета с 1956-го по 1982-ой год был Иван Степанович Астапов».
Именно благодаря Астапову, в пятидесятые и был отточен до совершенства тот уровень сатиры, что несмотря на все грозные указания читался в утверждённых цензурой боевых (хоть и в мирное время) листках «Боевого карандаша». Астапову удалось на такую высоту поднять престиж коллектива, что в последующие годы художники и поэты объединения были известны в Ленинграде и его окрестностях ничуть не меньше, чем артисты театра и кино, а из магазинов и с книжных прилавков сборники с репродукциями «Боевого карандаша» исчезали мгновенно.
Наступали времена глобального противостояния двух систем, двух непримиримых миров, двух философий — взаимоисключающих друг друга. Сатира снова оказывалась на острие атаки, но это совсем другой разговор. И мы его, безусловно, продолжим.
Сергей Цветаев
Боевой карандаш
В историографии Ленинграда есть страница по-настоящему примечательная, страница, связанная с советской пропагандой — героической, народной, не по указке, не по разнарядке громившей врага. Скажете, такое невозможно — и ошибётесь. Наш первый рассказ о — блокадных годах, о том времени, когда не разнарядками — силой духа держался и стоял крепче металла и камня город Ленина, город Октябрьской Революции.
Мы мало знаем, а пора бы знать — второе рождение ленинградский «Боевой карандаш» пережил 22-го июня 1941-го. Впрочем, обо всём по порядку.
Основан «Боевой карандаш» был в советско-финскую войну, в суровую зиму 1939-го. Приближался Новый Год, ленинградцы, да и вся страна готовили бойцам на фронт подарки. Школьники писали письма, вышивали кисеты, рисовали поздравительные открытки. Женщины вязали варежки, тёплые носки. А что было делать художникам? И вот Владимир Гальба, Теодор Певзнер, Валентин Курдов, Иосиф Ец, Николай Муратов, Владимир Тамби, Иван Шабанов, Орест Верейский и Борис Семёнов решили поддержать наших бойцов сатирическим плакатом «Новогодняя ёлка у белофинского волка». Сказано — сделано. Творческий коллектив собрался в Союзе художников, на Герцена 38 и каждый внёс свою лепту в этот первый выпуск «Боевого карандаша». Кто ёлку рисовал, кто «игрушки», кто подписи придумывал — получилось лихо, задиристо и зло — как и надо было. Сделали эмблему — палитра, винтовка, вместо штыка к винтовке прикручен остро отточенный карандаш. В тишине прозвучало: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо...»
Утром следующего дня в экспериментальной литографской мастерской Союза художников (пригодилась — оборудовали в 1933-ем, но практически не пользовались) отпечатали первый тираж — двести экземпляров. Каждый из них раскрашивали вручную. Такая пропаганда — рукотворная, всамделишная. Двух одинаковых плакатов не было, да и быть не могло.
Уже неделю спустя пришли вести с фронта — боевой листок «Боевого карандаша» красноармейцам очень даже понравился. Его вешали в штабах и землянках, крепили на борта грузовиков, украшали еловыми ветками, лентами — дело сладилось и пошло в народ.
Воодушевлённые «карандашисты» быстро вошли во вкус. Третий выпуск назывался «Цирк мадам Лиги наций» и была там такая сатирическая какофония, что по воспоминаниям у «западных коллег» скулы как от яблока зелёного сводило. И хорошо, на то и целились. Работали не покладая рук и остро отточенных карандашей и кто ж тогда знал что десять боевых листков выпущенных до весны 1940-го (после окончания войны с финнами «Боевой карандаш» закрыли — как оказалось, совсем ненадолго) станут скромной прелюдией, маленьким прологом к событиям страшным и героическим, к испытаниям, каких не видело человечество...
22-го июня, в первый же день Великой Отечественной, вернулся в строй и «Боевой карандаш». Всё там же, на Герцена 38. Ещё не было холодов и не было голода, ещё была вера в войну «малой кровью на территории врага»... Сегодня, перед входом помнящим и войну и блокаду висит мраморная доска с именами погибших художников — 150 с лихом человек...
26-го июня 1941-го на улицах Ленинграда появился плакат Владимира Серова (один из величайших классиков соцреализма, ученик Исаака Бродского) «Били, бьём и будем бить!» — Александр Невский сокрушающий мечом тевтона с крестом на плаще — красноармеец штыком закалывающий гитлеровца со свастикой на рукаве. После такого сидеть сложа руки было просто невозможно и 28-го июня 1941-го появляется листок №1 «Фашизм — враг человечества! Смерть фашизму!» (Гальба, Ец, Курдов, Муратов, Петров) — пронзаемая красным красноармейцем гидра с языком-свастикой в центре и четыре пророческих клейма по углам — «Фашизм — это уничтожение культуры. Фашизм — это голод. Фашизм — это тюрьма. Фашизм — это война». Тогда мало кто понимал, что всё, сказанное языком плаката, окажется страшной правдой... Первоначально выпустили три тысячи экземпляров, но они разлетелись в один день, допечатали до пятнадцати тысяч, разошлись и они.
Вновь воссозданный «Боевой карандаш» буквально вскипал благородной яростью всё новых и новых боевых листков. Ленинградцы видели их на улицах города, листки были небольшие и потому устанавливались щиты на которых помещалось их по несколько за раз — щиты ставили рядом с большими агит-панно — наверно, самыми известными были такие панно у стен Казанского собора. Но, это в городе, а на фронте?
В отличии от огромных «Окон ТАСС», небольшие листки «Боевого карандаша» с лёгкостью помещались в блиндажах, теплушках и бомбоубежищах — они и были рассчитаны на то, чтобы их рассматривали подолгу, с близкого расстояния, и не только рассматривали, но и читали. Такая особенность была в тяжёлом военном быту очень кстати, кроме того, листки сохраняли на память — свернул, а он размером с треугольник солдатский.
Ещё важно — огромное значение придавалось тексту. «Боевой карандаш» представлял собой великое содружество художников, писателей и поэтов. Подписи к плакатам военной поры сочиняли Виссарион Саянов (это его «Клятву наркому» положил на музыку в 1941-ом Дмитрий Шостакович), никогда не унывающий Борис Тимофеев, Сергей Спасский (в блокаду работал помимо прочего на радио, служил в народном ополчении), Николай Тихонов (воевал в советско-финскую, автор поэмы «Киров с нами» — «В железных ночах Ленинграда»). И все они не единожды говорили, что иногда легче поэму написать, чем меткое четверостишие к плакату.
А как всё это было?
Как работали?
В блокадном кольце?
Только что упомянутый прекраснейший человек и замечательный художник Борис Тимофеев — один из самых деятельных организаторов «Боевого карандаша». Читаем о нём в мемуарах блокадника, актёра Ленинградского театра музыкальной комедии Анатолия Королькевича: «Громадный кабинет бывшего дворца какого-то бывшего великого князя, а ныне секретаря Куйбышевского райкома партии Николая Васильевича Лизунова. Николай Яковлевич Янет читает пьесу. Ему аккомпанируют свист и разрывы снарядов. Напряжённые лица слушателей, освещённые лучами коптилки, как бы перекликаются с нарисованными на стенах панно в стиле мастеров эпохи Возрождения. Все сидят в шубах, в валенках и только писатель-сатирик Борис Тимофеев лежит на диване, — он болен острой дистрофией. Лицо перевязано бинтом, его мучают фурункулы, и всё же, превозмогая боль, он безудержно острит…»
Ленинградский союз художников в то время возглавляет Владимир Серов (с 1941-го по 1948-ой) — автор плаката «Били, бьём и будем бить!» Ему приходиться буквально разрываться, организовывая и «художественно-маскировочные мероприятия» в Ленинграде и пригородах — на военных объектах, аэродромах, музеях, памятниках архитектуры, и выход боевых листков и плакатов, и эвакуацию семей художников, и снабжение всей творческой братии хотя бы самым необходимым для бесперебойной работы.
На его глазах в первую страшную зиму один за другим уходят товарищи, но братство художников не сдаётся, люди совершают немыслимое, невозможное. Каждый день выходит на улицу чуть живой Вячеслав Пакулин, один из талантливейших пейзажистов того времени. Закутанный в старые шубы и платки, он бродит по городу волоча за собой на санках подрамники, рисует Ленинград — опустевший и непреклонный. Рисует, казалось бы, вопреки здравому смыслу, упорно повторяя, что: «Такого Ленинграда больше мы не увидим никогда. Надо оставить для истории...»
Ярослав Николаев (будет возглавлять Ленинградский союз художников с 1948-го по 1951-ый), предельно истощённый и больной, продолжает ежедневно работать над серией автолитографий «Ленинград в дни блокады». Первые листы серии — «Везут в стационар», «За водой», «В очаге поражения» — они навылет, выбивают дыхание из груди...
Сможем ли мы хоть когда-нибудь понять — что пережили те, кого мы знаем лишь по названию созданных ими плакатов и картин?..
На Герцена 38 всё заставлено наспех сколоченными, не пойми из чего сделанными и откуда взявшимися кроватями, окна забиты или заклеены — маскировка, повсюду дымят коптилки, пыхают скороспелым жаром «буржуйки» — но разве таким манером протопишь дореволюционную каменную махину? Руки и краски отогревают дыханием. Скудость в еде, во всём. На столах — раскрашенные тарелки с «явствами» — для укрепления духа. Мизерный хлебный паёк подкладывают на эти бутафорские тарелки и « пир горой» идёт нескончаемо, а война и блокада забирают свою долю...
Но! Каждое утро, вопреки смерти и бомбёжкам, вопреки всем мыслимым и немыслимым лишениям, появляются на улицах Ленинграда пахнущие свежей краской листки «Боевого карандаша». Острые — фрицу долой голову с плеч! Работают все вместе, не разделяя на «твоё-моё». Идеи рождаются тут же, их выхватывают из воздуха, горячо обсуждают, критикуют и хвалят, бросаются немедленно воплощать тонкими, на просвет, руками и такая в тех идеях сила, что стоит город — и не может его взять враг. Не может и не возьмёт, сколько бы не пытался. Все, точно один — слились и не разорвать. И мёртвые поддерживают живых, потому как плакат на этой войне — дело коллективное.
Вот Иван Астапов идёт по коридору — будущий председатель худсовета «Боевого карандаша» (с 1956-го по 1982-ой). Ему 37, но выглядит он старше — первая блокадная зима даёт себя знать. На Герцена 38 его давно не видели, ему рады, улыбаются, обнимают, жмут руки — с марта по декабрь 1942-го был он командирован на Волховский фронт, в 80-ю Ленинградскую стрелковую дивизию. Успел сделать более 200-от натурных зарисовок, материала хватит надолго.
Друзья-художники угощают кипятком, смеются, вспоминая «астаповский продпаёк». А дело было так: Астапов в блокаду жил на Галерной 42. Семью ещё осенью отправил в эвакуацию. В конце декабря стало ему совсем худо — «доходил» — месяц «питался» рыбным клеем, впрочем, и у других было не лучше. В январе 1942-го, чуть живой, получил письмо от жены. Среди прочего (не самого весёлого) его безмерно удивили два странных слова не относящихся ни к чему: «посмотри на шкафу», и Иван посмотрел. Древний, дубовый и неподъёмный, ещё от деда жены доставшийся в наследство шкаф наверху имел (как выяснилось) потайное углубление, и там до войны запасливая няня детей, Фёкла Лаврентьевна (за жизнь повидавшая всякого), предусмотрительно хранила неприкосновенный запас — десять кило кускового сахара, мешочек гречки, мешочек риса, кукурузные хлопья и соль. Астапов был спасён — и не только он! Иван «поставил на довольствие» друзей-художников. Всякий раз собираясь на Герцена 38, он брал с собой спичечный коробок с колотым сахаром — настоящее сокровище по тем временам!
Работал Астапов в основном с Валентином Курдовым. Им на пару и принадлежит треть всех выпущенных листков «Боевого карандаша» за время Великой Отечественной Войны, да ещё десяток номеров, исполненных каждым из них лично или в содружестве с другими «карандашистами» — творческое объединение двух художников оказалось исключительно плодотворным.
В 1942-ом «Боевой карандаш» временно прекратил свою деятельность. Некоторых членов творческого объединения откомандировали на Ленинградский фронт. Они оформляли стенгазеты и «Боевые листки» не только в частях регулярной армии, но и в партизанских отрядах.
18-го января 1943-го в ходе успешной наступательной операции «Искра», блокада Ленинграда была прорвана и «Боевой карандаш» с новой силой вступил в бой — теперь уже — до самой Победы.
Об этом наш следующий рассказ.
Сергей Цветаев.
Мы мало знаем, а пора бы знать — второе рождение ленинградский «Боевой карандаш» пережил 22-го июня 1941-го. Впрочем, обо всём по порядку.
Основан «Боевой карандаш» был в советско-финскую войну, в суровую зиму 1939-го. Приближался Новый Год, ленинградцы, да и вся страна готовили бойцам на фронт подарки. Школьники писали письма, вышивали кисеты, рисовали поздравительные открытки. Женщины вязали варежки, тёплые носки. А что было делать художникам? И вот Владимир Гальба, Теодор Певзнер, Валентин Курдов, Иосиф Ец, Николай Муратов, Владимир Тамби, Иван Шабанов, Орест Верейский и Борис Семёнов решили поддержать наших бойцов сатирическим плакатом «Новогодняя ёлка у белофинского волка». Сказано — сделано. Творческий коллектив собрался в Союзе художников, на Герцена 38 и каждый внёс свою лепту в этот первый выпуск «Боевого карандаша». Кто ёлку рисовал, кто «игрушки», кто подписи придумывал — получилось лихо, задиристо и зло — как и надо было. Сделали эмблему — палитра, винтовка, вместо штыка к винтовке прикручен остро отточенный карандаш. В тишине прозвучало: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо...»
Утром следующего дня в экспериментальной литографской мастерской Союза художников (пригодилась — оборудовали в 1933-ем, но практически не пользовались) отпечатали первый тираж — двести экземпляров. Каждый из них раскрашивали вручную. Такая пропаганда — рукотворная, всамделишная. Двух одинаковых плакатов не было, да и быть не могло.
Уже неделю спустя пришли вести с фронта — боевой листок «Боевого карандаша» красноармейцам очень даже понравился. Его вешали в штабах и землянках, крепили на борта грузовиков, украшали еловыми ветками, лентами — дело сладилось и пошло в народ.
Воодушевлённые «карандашисты» быстро вошли во вкус. Третий выпуск назывался «Цирк мадам Лиги наций» и была там такая сатирическая какофония, что по воспоминаниям у «западных коллег» скулы как от яблока зелёного сводило. И хорошо, на то и целились. Работали не покладая рук и остро отточенных карандашей и кто ж тогда знал что десять боевых листков выпущенных до весны 1940-го (после окончания войны с финнами «Боевой карандаш» закрыли — как оказалось, совсем ненадолго) станут скромной прелюдией, маленьким прологом к событиям страшным и героическим, к испытаниям, каких не видело человечество...
22-го июня, в первый же день Великой Отечественной, вернулся в строй и «Боевой карандаш». Всё там же, на Герцена 38. Ещё не было холодов и не было голода, ещё была вера в войну «малой кровью на территории врага»... Сегодня, перед входом помнящим и войну и блокаду висит мраморная доска с именами погибших художников — 150 с лихом человек...
26-го июня 1941-го на улицах Ленинграда появился плакат Владимира Серова (один из величайших классиков соцреализма, ученик Исаака Бродского) «Били, бьём и будем бить!» — Александр Невский сокрушающий мечом тевтона с крестом на плаще — красноармеец штыком закалывающий гитлеровца со свастикой на рукаве. После такого сидеть сложа руки было просто невозможно и 28-го июня 1941-го появляется листок №1 «Фашизм — враг человечества! Смерть фашизму!» (Гальба, Ец, Курдов, Муратов, Петров) — пронзаемая красным красноармейцем гидра с языком-свастикой в центре и четыре пророческих клейма по углам — «Фашизм — это уничтожение культуры. Фашизм — это голод. Фашизм — это тюрьма. Фашизм — это война». Тогда мало кто понимал, что всё, сказанное языком плаката, окажется страшной правдой... Первоначально выпустили три тысячи экземпляров, но они разлетелись в один день, допечатали до пятнадцати тысяч, разошлись и они.
Вновь воссозданный «Боевой карандаш» буквально вскипал благородной яростью всё новых и новых боевых листков. Ленинградцы видели их на улицах города, листки были небольшие и потому устанавливались щиты на которых помещалось их по несколько за раз — щиты ставили рядом с большими агит-панно — наверно, самыми известными были такие панно у стен Казанского собора. Но, это в городе, а на фронте?
В отличии от огромных «Окон ТАСС», небольшие листки «Боевого карандаша» с лёгкостью помещались в блиндажах, теплушках и бомбоубежищах — они и были рассчитаны на то, чтобы их рассматривали подолгу, с близкого расстояния, и не только рассматривали, но и читали. Такая особенность была в тяжёлом военном быту очень кстати, кроме того, листки сохраняли на память — свернул, а он размером с треугольник солдатский.
Ещё важно — огромное значение придавалось тексту. «Боевой карандаш» представлял собой великое содружество художников, писателей и поэтов. Подписи к плакатам военной поры сочиняли Виссарион Саянов (это его «Клятву наркому» положил на музыку в 1941-ом Дмитрий Шостакович), никогда не унывающий Борис Тимофеев, Сергей Спасский (в блокаду работал помимо прочего на радио, служил в народном ополчении), Николай Тихонов (воевал в советско-финскую, автор поэмы «Киров с нами» — «В железных ночах Ленинграда»). И все они не единожды говорили, что иногда легче поэму написать, чем меткое четверостишие к плакату.
А как всё это было?
Как работали?
В блокадном кольце?
Только что упомянутый прекраснейший человек и замечательный художник Борис Тимофеев — один из самых деятельных организаторов «Боевого карандаша». Читаем о нём в мемуарах блокадника, актёра Ленинградского театра музыкальной комедии Анатолия Королькевича: «Громадный кабинет бывшего дворца какого-то бывшего великого князя, а ныне секретаря Куйбышевского райкома партии Николая Васильевича Лизунова. Николай Яковлевич Янет читает пьесу. Ему аккомпанируют свист и разрывы снарядов. Напряжённые лица слушателей, освещённые лучами коптилки, как бы перекликаются с нарисованными на стенах панно в стиле мастеров эпохи Возрождения. Все сидят в шубах, в валенках и только писатель-сатирик Борис Тимофеев лежит на диване, — он болен острой дистрофией. Лицо перевязано бинтом, его мучают фурункулы, и всё же, превозмогая боль, он безудержно острит…»
Ленинградский союз художников в то время возглавляет Владимир Серов (с 1941-го по 1948-ой) — автор плаката «Били, бьём и будем бить!» Ему приходиться буквально разрываться, организовывая и «художественно-маскировочные мероприятия» в Ленинграде и пригородах — на военных объектах, аэродромах, музеях, памятниках архитектуры, и выход боевых листков и плакатов, и эвакуацию семей художников, и снабжение всей творческой братии хотя бы самым необходимым для бесперебойной работы.
На его глазах в первую страшную зиму один за другим уходят товарищи, но братство художников не сдаётся, люди совершают немыслимое, невозможное. Каждый день выходит на улицу чуть живой Вячеслав Пакулин, один из талантливейших пейзажистов того времени. Закутанный в старые шубы и платки, он бродит по городу волоча за собой на санках подрамники, рисует Ленинград — опустевший и непреклонный. Рисует, казалось бы, вопреки здравому смыслу, упорно повторяя, что: «Такого Ленинграда больше мы не увидим никогда. Надо оставить для истории...»
Ярослав Николаев (будет возглавлять Ленинградский союз художников с 1948-го по 1951-ый), предельно истощённый и больной, продолжает ежедневно работать над серией автолитографий «Ленинград в дни блокады». Первые листы серии — «Везут в стационар», «За водой», «В очаге поражения» — они навылет, выбивают дыхание из груди...
Сможем ли мы хоть когда-нибудь понять — что пережили те, кого мы знаем лишь по названию созданных ими плакатов и картин?..
На Герцена 38 всё заставлено наспех сколоченными, не пойми из чего сделанными и откуда взявшимися кроватями, окна забиты или заклеены — маскировка, повсюду дымят коптилки, пыхают скороспелым жаром «буржуйки» — но разве таким манером протопишь дореволюционную каменную махину? Руки и краски отогревают дыханием. Скудость в еде, во всём. На столах — раскрашенные тарелки с «явствами» — для укрепления духа. Мизерный хлебный паёк подкладывают на эти бутафорские тарелки и « пир горой» идёт нескончаемо, а война и блокада забирают свою долю...
Но! Каждое утро, вопреки смерти и бомбёжкам, вопреки всем мыслимым и немыслимым лишениям, появляются на улицах Ленинграда пахнущие свежей краской листки «Боевого карандаша». Острые — фрицу долой голову с плеч! Работают все вместе, не разделяя на «твоё-моё». Идеи рождаются тут же, их выхватывают из воздуха, горячо обсуждают, критикуют и хвалят, бросаются немедленно воплощать тонкими, на просвет, руками и такая в тех идеях сила, что стоит город — и не может его взять враг. Не может и не возьмёт, сколько бы не пытался. Все, точно один — слились и не разорвать. И мёртвые поддерживают живых, потому как плакат на этой войне — дело коллективное.
Вот Иван Астапов идёт по коридору — будущий председатель худсовета «Боевого карандаша» (с 1956-го по 1982-ой). Ему 37, но выглядит он старше — первая блокадная зима даёт себя знать. На Герцена 38 его давно не видели, ему рады, улыбаются, обнимают, жмут руки — с марта по декабрь 1942-го был он командирован на Волховский фронт, в 80-ю Ленинградскую стрелковую дивизию. Успел сделать более 200-от натурных зарисовок, материала хватит надолго.
Друзья-художники угощают кипятком, смеются, вспоминая «астаповский продпаёк». А дело было так: Астапов в блокаду жил на Галерной 42. Семью ещё осенью отправил в эвакуацию. В конце декабря стало ему совсем худо — «доходил» — месяц «питался» рыбным клеем, впрочем, и у других было не лучше. В январе 1942-го, чуть живой, получил письмо от жены. Среди прочего (не самого весёлого) его безмерно удивили два странных слова не относящихся ни к чему: «посмотри на шкафу», и Иван посмотрел. Древний, дубовый и неподъёмный, ещё от деда жены доставшийся в наследство шкаф наверху имел (как выяснилось) потайное углубление, и там до войны запасливая няня детей, Фёкла Лаврентьевна (за жизнь повидавшая всякого), предусмотрительно хранила неприкосновенный запас — десять кило кускового сахара, мешочек гречки, мешочек риса, кукурузные хлопья и соль. Астапов был спасён — и не только он! Иван «поставил на довольствие» друзей-художников. Всякий раз собираясь на Герцена 38, он брал с собой спичечный коробок с колотым сахаром — настоящее сокровище по тем временам!
Работал Астапов в основном с Валентином Курдовым. Им на пару и принадлежит треть всех выпущенных листков «Боевого карандаша» за время Великой Отечественной Войны, да ещё десяток номеров, исполненных каждым из них лично или в содружестве с другими «карандашистами» — творческое объединение двух художников оказалось исключительно плодотворным.
В 1942-ом «Боевой карандаш» временно прекратил свою деятельность. Некоторых членов творческого объединения откомандировали на Ленинградский фронт. Они оформляли стенгазеты и «Боевые листки» не только в частях регулярной армии, но и в партизанских отрядах.
18-го января 1943-го в ходе успешной наступательной операции «Искра», блокада Ленинграда была прорвана и «Боевой карандаш» с новой силой вступил в бой — теперь уже — до самой Победы.
Об этом наш следующий рассказ.
Сергей Цветаев.
Кавалерист слова
В знаменитой антологии Ежова и Шамурина 1925 года Демьяну Бедному отдано больше страниц, чем любому другому поэту, включая Блока, Есенина и Ахматову. Таков был его авторитет в то время. Демьян Бедный был помещён в раздел «Пролетарские поэты», хотя из самой подборки видно, что сельские или казачьи мотивы ему ближе, чем заводские реалии.
И в самом деле, к рабочему классу он имел не больше отношения, чем «пролетарский поэт» Маяковский. Но Маяковский был дворянином, а Ефим Придворов, как звали поэта на самом деле, родился в крестьянском сословии, хотя ни отец, ни мать сельским хозяйством не занимались. Семья была неблагополучной: отец - неудачник, а мать и вовсе, по признанию самого поэта, «б****». Обоих родителей объединяло увлечение алкоголем.
А тем не менее, мальчик не пропал в жизни. Сначала - военно-фельдшерская школа в Киеве, потом - Санкт-Петербургский университет. Помогла протекция великого князя Константина Романова, он же поэт К.Р.; есть разные версии, почему рослый красивый парубок так глянулся члену императорской семьи, но не будем касаться слухов - даже тех, которые сам Демьян Бедный не без удовольствия распространял.
Первые опубликованные стихи 16-летнего автора уже демонстрировали его склонность к пропагандистской работе:
Звучи, моя лира, я песню слагаю
Апостолу мира, царю Николаю.
На учёбу в университет он также прибыл без всякого желания бунтовать против власти, но имперская столица в эпоху первой русской революции мало располагала к лояльности. Заразился революционной бациллой и Ефим. Стихи тоже стали другими, в них зазвучала характерная для тогдашней интеллигенции народная боль.
Демьян Бедный - не модернистский поэт. С поэтами Серебряного века он всего лишь делит эпоху на правах соседа. Образцами для юного Ефима Придворова были крестьянские поэты Алексей Кольцов и Иван Никитин, автор «Конька-горбунка» Пётр Ершов, Семён Надсон. Сюда же следует добавить и Тараса Шевченко, хоть тот и писал по-украински; вообще в Демьяне Бедном, выросшем в полуукраинской среде, было много от типичного малоросса.
С символистами Блоком и Белым он бы сошёлся разве что в любви к Некрасову.
Однако даже с современными ему певцами деревни он ходил разными путями. Сергей Есенин, оказавшись в Петербурге, пошёл знакомиться с Мережковским и Гиппиус, Николай Клюев бывал у Блока. А Ефим Придворов отправился за признанием не в башню Иванова, а в журнал «Русское богатство».
Этот журнал, в то время руководимый Н.К. Михайловским, был народническим, а значит, антимарксистским. Печатал он, по отзыву Осипа Мандельштама, «тарабарскую поэзию» с гражданскими мотивами. Студенту Придворову это подходило идеально. В самом деле, куда ещё можно было понести такие стихи?
Бывает час: тоска щемящая
Сжимает сердце... Мозг - в жару.
Скорбит душа... Рука дрожащая
Невольно тянется к перу...
В редакции шефство над молодым поэтом взял потрёпанный жизнью народоволец Пётр Якубович (Мельшин). С ним и его женой Ефим подружился, бывал у них дома в Удельной. Но «Русское богатство» печатало его мало, ждать публикации приходилось долго, поэтому Придворов искал выходы на другие издания. Решающим в его судьбе стало знакомство с Владимиром Бонч-Бруевичем, составителем популярного в то время сборника «Избранные произведения русских поэтов». Это было, после отхода от монархизма, второе идейное ренегатство поэта, поскольку Бонч-Бруевич был большевиком. И в 1911 году нашлось издание, которое стало печатать Придворова охотнее, чем «Русское богатство». Это была газета русских социал-демократов «Звезда».
И с этого момента Придворов расстаётся с дряблой интеллигентщиной и становится, по его собственным словам, «присяжным фельетонистом большевистской прессы». Это не было трудно для него. В отличие от Маяковского, он на горло своей песне не наступал. У Маяковского было самосознание лирика, он всегда держал в голове любовную тему. Даже после двухлетней каторги «Окон РОСТА» и успеха «Прозаседавшихся» и других сатирических стихов для «Известий» Лиля Брик, хоть и буквально шантажом, всё-таки выдавила из него «Про это» - отчаянную поэму о любви и смерти, почти не содержащую никаких пропагандистских ноток.
А молодому Придворову ещё Якубович-Мельшин объяснил, что рождён он не для лирики, а для гражданского пафоса. Поэт рано женился, но стихов жене не посвящал. В 1939 году женился вторично, но ничего вроде пастернаковского «Второго рождения» мы у него не найдём. Сам он в тридцатые годы упоминал о какой-то тайной тетради лирики, но перед войной эта тетрадь была уничтожена. В результате никакой отдельной темы «Демьян Бедный – пропагандист» мы рассмотреть не можем; вся его жизнь в литературе - это и есть пропаганда.
Газета «Звезда» была непосредственной предшественницей «Правды», а с момента, когда появилась «Правда» (1912 год), стихи поэта, который отныне навсегда становится Демьяном Бедным, публикуются почти в каждом её номере. В том же году он вступает в партию большевиков. Тогда же он осваивает басенный жанр, и его первая книжка, выпущенная в 1913 году, так и называлась – «Басни».
Тогдашнему литературному положению Демьяна было трудно позавидовать. В то время как «бражники и блудницы» из поэтической богемы тусовались в «Бродячей собаке», а футуристы гастролировали по стране, он трудился в газете, которую то конфисковывали, то штрафовали, то закрывали, вынуждая выходить под другими названиями, а перед Первой мировой войной и вовсе запретили. Впрочем, во время войны хитрый мужик Демьян, не бросая сочинение агиток, сделал некоторую карьеру, став заведующим Рабочим отделом Центрального военно-промышленного комитета (в этом отделе составляли списки квалифицированных рабочих для освобождения от призыва - самое правильное место для ярого пораженца).
С победой большевиков настала горячая пора в его творчестве, ведь гонимая «Правда» вдруг стала главной официозной газетой, а в Петрограде появилась ещё и «Красная газета», в работу которой поэт тут же включился. Пока Маяковский ещё только искал подходы к новой власти, Демьян уже вовсю бомбардировал страну своими агитками. Важным человеком стал Демьян. Вместе с советским правительством в марте 1918 года он переезжает в Москву и получает квартиру в Кремле. Кремль тогда не был похож на диснейленд, из развлечений только казни (на расстреле Фанни Каплан Демьян присутствовал) и стрельба по воронам (любимое занятие латышских стрелков). Об этих воронах поэт написал, может быть, лучшее своё стихотворение.
При свете трепетном луны
Средь спящей смутным сном столицы,
Суровой важности полны,
Стоят кремлевские бойницы, —
Стоят, раздумье затая
О прошлом — страшном и великом.
Густые стаи воронья
Тревожат ночь зловещим криком.
Всю ночь горланит до утра
Их черный стан, объятый страхом:
«Кра-кра! Кра-кра! Кра-кра! Кра-кра! —
Пошло все прахом, прахом, прахом!»
О, воплощенье мертвых душ
Былых владык, в Кремле царивших,
Душ, из боярских мертвых туш
В объятья к черту воспаривших!
Кричи, лихое воронье,
Яви отцовскую кручину:
Оплачь детей твоих житье
И их бесславную кончину!
Кричи, лихое воронье,
Оплачь наследие твое
С его жестоким крахом! Крахом!
Оплачь минувшие года:
Им не вернуться никогда.
Пошло все прахом, прахом, прахом!
Но статус поэтического голоса партии не позволял засиживаться в столице. Советская республика оказалась в кольце фронтов, и Демьян Бедный в августе 1918 года едет на фронт, под Казань. А на фронт - это значит к Троцкому. Он получает отдельное купе в бронепоезде Троцкого. Выступает с Троцким на митингах. По заданиям Троцкого пишет стихи для листовок. Листовки разбрасывают с аэропланов (однажды Демьян лично это делал), они даже служат пропуском для белых, желающих сдаться. Появляется в его стихах и сам Лев Давидович.
Товарищи. Вчера.
Вас Троцкий чаровал бодрящими словами.
Наш красный вождь прощался с вами
На ваше мощное ответное «УРА».
Через два десятилетия поэт совсем иначе отзовётся об этом человеке.
Иуды Троцкого бородка
Обмокла бешеной слюной.
Гад этот мерзостный — находка
Фашистам, бредящим войной.
Впрочем, ничего личного. Демьян мог льстить, угождать отдельным «красным вождям», но предан был только партии большевиков. Партия сказала - и вождь превращается в иуду.
Прежде чем говорить о стилистике демьяновых агиток, стоит понять, в чём разница между Демьяном Бедным и Владимиром Маяковским как поэтами-пропагандистами в период Гражданской войны.
Маяковский работал в тылу. Для него центром приложения сил были «Окна РОСТА». Демьян Бедный часто ездил на фронт; со временем ему выделили личный вагон («Разжигатель неуемный, я кочую по фронтам, мой вагон, дырявый, темный, нынче здесь, а завтра там»); иногда он приглашал в свой вагон беспризорников, путешествовавших зайцем, кормил их, поил чаем и сдавал в детские колонии.
«Окон РОСТА» Демьян тоже не миновал и даже несколько преувеличивал свою роль в этом проекте: «Мы с Маяковским так работали, что временами казалось — нас только двое». Однако важнейшими заказчиками плакатов, выходивших с текстами Демьяна, были такие организации как Литературно-издательский отдел Главного политического управления Красной Армии (ГлавПУР) и Агитационно-просветительский отдел Всероссийского бюро военных комиссаров.
Маяковский сам придумывал темы плакатов, сам рисовал и сам писал стихотворные тексты. Демьян занимался только текстами. Ему часто приходилось оперативно писать стихи к уже готовым плакатам. Хотя и сами художники с удовольствием иллюстрировали его хлёсткие тексты.
Наконец, различалась и целевая аудитория. Маяковский работал главным образом для городского читателя, а агитки Демьяна Бедного были нацелены на крестьянскую массу, тем более что и Красная Армия в основном состояла из неё же.
Отсюда и стилистические особенности демьяновских агиток. Он берёт за образец народный стих, близкий ему с детства: раёшники и побывальщины, сказы и песни, частушки и былины.
И это работало. Вероятно, Демьян Бедный был самым эффективным поэтом-пропагандистом всех времён и народов. Можно не верить большевистским оценкам, но вот мнение врага, монархиста Пуришкевича: «Среди вас, большевиков, для нас, монархистов, опасных людей только двое. Это — Ленин, который сумел так быстро организовать и заострить, хотя не с того конца, такую цепкую власть, и Демьян Бедный, который сумел своими агитками пролезть под каждую солдатскую шкуру глубже, чем все наши декреты и прокламации».
Обращаясь к крестьянам, поэт не мог не касаться тем дезертирства и мобилизации. Им были посвящены, например, поэма «Митька-бегунец:, на основе которой сделал плакат неизвестный художник, и стихотворение «Кулацкий плач», которое напечатано на плакате К. Спасского «Запись в Красную Армию». Сюда же относится и стихотворение «Проводы» («Как родная меня мать провожала…»), которое не раз появлялось на плакатах даже после окончания Гражданской (к примеру, на плакате А. Куликова 1928 года). Оно стало народной песней, и, видимо, именно её имел в виду Сергей Есенин, когда не без зависти писал о сельских комсомольцах, которые «поют агитки Бедного Демьяна». Кто говорит, что Демьян - так себе поэт, тот пусть попробует придумать народную песню.
Надо сказать, что народная поэтика Демьяна Бедного, соединяющая консервативную форму и революционное содержание, диктовала стилистику и художникам, которые с ним работали. Они, как правило, выбирали стилистику дореволюционного лубка, более понятную людям, едва освоившим грамотность. Таковы плакаты Александра Апсита «Обманутым братьям (в белогвардейские окопы)», Виктора Дени «Капитал» и «Деникинская банда». Чуть динамичнее построен плакат Дени «На могиле контрреволюции» (1920), подводящий итог противостоянию красных и белых.
Сошлись у дорогой могилы.
Пролить слезу буржуй и поп,-
Все их надежды, все их силы
Ушли, уходят в «братский» гроб.
Где генералы, адмиралы,
Почет и пьяное житье?
Пропала сила, все пропало,
И жутко кличет воронье.
Два друга вспоминают с болью
Разгром последнего царька:
«Ах! Слишком быстро тешет колья
Красноармейская рука!»
Рыдает поп, буржуй рыдает
И под могильный нудный вой
Тихонько слезы утирает
Архангел их городовой.
Гражданская война сделала Демьяна Бедного самым популярным поэтом России, принесла ему - в годы разрухи - миллионные тиражи, а в 1923 году вышел приказ Л.Д. Троцкого, в котором говорилось: «Демьян Бедный — меткий стрелок по врагам трудящихся, доблестный кавалерист слова, награжден ВЦИК — по представлению РВСР — орденом Красного Знамени». Вот таким языком писались тогда приказы высших лиц государства.
Но и после наступления мира Демьян Бедный не собирался складывать своё плакатно-поэтическое оружие - и персонального вагона не отдал.
Игорь Караулов
И в самом деле, к рабочему классу он имел не больше отношения, чем «пролетарский поэт» Маяковский. Но Маяковский был дворянином, а Ефим Придворов, как звали поэта на самом деле, родился в крестьянском сословии, хотя ни отец, ни мать сельским хозяйством не занимались. Семья была неблагополучной: отец - неудачник, а мать и вовсе, по признанию самого поэта, «б****». Обоих родителей объединяло увлечение алкоголем.
А тем не менее, мальчик не пропал в жизни. Сначала - военно-фельдшерская школа в Киеве, потом - Санкт-Петербургский университет. Помогла протекция великого князя Константина Романова, он же поэт К.Р.; есть разные версии, почему рослый красивый парубок так глянулся члену императорской семьи, но не будем касаться слухов - даже тех, которые сам Демьян Бедный не без удовольствия распространял.
Первые опубликованные стихи 16-летнего автора уже демонстрировали его склонность к пропагандистской работе:
Звучи, моя лира, я песню слагаю
Апостолу мира, царю Николаю.
На учёбу в университет он также прибыл без всякого желания бунтовать против власти, но имперская столица в эпоху первой русской революции мало располагала к лояльности. Заразился революционной бациллой и Ефим. Стихи тоже стали другими, в них зазвучала характерная для тогдашней интеллигенции народная боль.
Демьян Бедный - не модернистский поэт. С поэтами Серебряного века он всего лишь делит эпоху на правах соседа. Образцами для юного Ефима Придворова были крестьянские поэты Алексей Кольцов и Иван Никитин, автор «Конька-горбунка» Пётр Ершов, Семён Надсон. Сюда же следует добавить и Тараса Шевченко, хоть тот и писал по-украински; вообще в Демьяне Бедном, выросшем в полуукраинской среде, было много от типичного малоросса.
С символистами Блоком и Белым он бы сошёлся разве что в любви к Некрасову.
Однако даже с современными ему певцами деревни он ходил разными путями. Сергей Есенин, оказавшись в Петербурге, пошёл знакомиться с Мережковским и Гиппиус, Николай Клюев бывал у Блока. А Ефим Придворов отправился за признанием не в башню Иванова, а в журнал «Русское богатство».
Этот журнал, в то время руководимый Н.К. Михайловским, был народническим, а значит, антимарксистским. Печатал он, по отзыву Осипа Мандельштама, «тарабарскую поэзию» с гражданскими мотивами. Студенту Придворову это подходило идеально. В самом деле, куда ещё можно было понести такие стихи?
Бывает час: тоска щемящая
Сжимает сердце... Мозг - в жару.
Скорбит душа... Рука дрожащая
Невольно тянется к перу...
В редакции шефство над молодым поэтом взял потрёпанный жизнью народоволец Пётр Якубович (Мельшин). С ним и его женой Ефим подружился, бывал у них дома в Удельной. Но «Русское богатство» печатало его мало, ждать публикации приходилось долго, поэтому Придворов искал выходы на другие издания. Решающим в его судьбе стало знакомство с Владимиром Бонч-Бруевичем, составителем популярного в то время сборника «Избранные произведения русских поэтов». Это было, после отхода от монархизма, второе идейное ренегатство поэта, поскольку Бонч-Бруевич был большевиком. И в 1911 году нашлось издание, которое стало печатать Придворова охотнее, чем «Русское богатство». Это была газета русских социал-демократов «Звезда».
И с этого момента Придворов расстаётся с дряблой интеллигентщиной и становится, по его собственным словам, «присяжным фельетонистом большевистской прессы». Это не было трудно для него. В отличие от Маяковского, он на горло своей песне не наступал. У Маяковского было самосознание лирика, он всегда держал в голове любовную тему. Даже после двухлетней каторги «Окон РОСТА» и успеха «Прозаседавшихся» и других сатирических стихов для «Известий» Лиля Брик, хоть и буквально шантажом, всё-таки выдавила из него «Про это» - отчаянную поэму о любви и смерти, почти не содержащую никаких пропагандистских ноток.
А молодому Придворову ещё Якубович-Мельшин объяснил, что рождён он не для лирики, а для гражданского пафоса. Поэт рано женился, но стихов жене не посвящал. В 1939 году женился вторично, но ничего вроде пастернаковского «Второго рождения» мы у него не найдём. Сам он в тридцатые годы упоминал о какой-то тайной тетради лирики, но перед войной эта тетрадь была уничтожена. В результате никакой отдельной темы «Демьян Бедный – пропагандист» мы рассмотреть не можем; вся его жизнь в литературе - это и есть пропаганда.
Газета «Звезда» была непосредственной предшественницей «Правды», а с момента, когда появилась «Правда» (1912 год), стихи поэта, который отныне навсегда становится Демьяном Бедным, публикуются почти в каждом её номере. В том же году он вступает в партию большевиков. Тогда же он осваивает басенный жанр, и его первая книжка, выпущенная в 1913 году, так и называлась – «Басни».
Тогдашнему литературному положению Демьяна было трудно позавидовать. В то время как «бражники и блудницы» из поэтической богемы тусовались в «Бродячей собаке», а футуристы гастролировали по стране, он трудился в газете, которую то конфисковывали, то штрафовали, то закрывали, вынуждая выходить под другими названиями, а перед Первой мировой войной и вовсе запретили. Впрочем, во время войны хитрый мужик Демьян, не бросая сочинение агиток, сделал некоторую карьеру, став заведующим Рабочим отделом Центрального военно-промышленного комитета (в этом отделе составляли списки квалифицированных рабочих для освобождения от призыва - самое правильное место для ярого пораженца).
С победой большевиков настала горячая пора в его творчестве, ведь гонимая «Правда» вдруг стала главной официозной газетой, а в Петрограде появилась ещё и «Красная газета», в работу которой поэт тут же включился. Пока Маяковский ещё только искал подходы к новой власти, Демьян уже вовсю бомбардировал страну своими агитками. Важным человеком стал Демьян. Вместе с советским правительством в марте 1918 года он переезжает в Москву и получает квартиру в Кремле. Кремль тогда не был похож на диснейленд, из развлечений только казни (на расстреле Фанни Каплан Демьян присутствовал) и стрельба по воронам (любимое занятие латышских стрелков). Об этих воронах поэт написал, может быть, лучшее своё стихотворение.
При свете трепетном луны
Средь спящей смутным сном столицы,
Суровой важности полны,
Стоят кремлевские бойницы, —
Стоят, раздумье затая
О прошлом — страшном и великом.
Густые стаи воронья
Тревожат ночь зловещим криком.
Всю ночь горланит до утра
Их черный стан, объятый страхом:
«Кра-кра! Кра-кра! Кра-кра! Кра-кра! —
Пошло все прахом, прахом, прахом!»
О, воплощенье мертвых душ
Былых владык, в Кремле царивших,
Душ, из боярских мертвых туш
В объятья к черту воспаривших!
Кричи, лихое воронье,
Яви отцовскую кручину:
Оплачь детей твоих житье
И их бесславную кончину!
Кричи, лихое воронье,
Оплачь наследие твое
С его жестоким крахом! Крахом!
Оплачь минувшие года:
Им не вернуться никогда.
Пошло все прахом, прахом, прахом!
Но статус поэтического голоса партии не позволял засиживаться в столице. Советская республика оказалась в кольце фронтов, и Демьян Бедный в августе 1918 года едет на фронт, под Казань. А на фронт - это значит к Троцкому. Он получает отдельное купе в бронепоезде Троцкого. Выступает с Троцким на митингах. По заданиям Троцкого пишет стихи для листовок. Листовки разбрасывают с аэропланов (однажды Демьян лично это делал), они даже служат пропуском для белых, желающих сдаться. Появляется в его стихах и сам Лев Давидович.
Товарищи. Вчера.
Вас Троцкий чаровал бодрящими словами.
Наш красный вождь прощался с вами
На ваше мощное ответное «УРА».
Через два десятилетия поэт совсем иначе отзовётся об этом человеке.
Иуды Троцкого бородка
Обмокла бешеной слюной.
Гад этот мерзостный — находка
Фашистам, бредящим войной.
Впрочем, ничего личного. Демьян мог льстить, угождать отдельным «красным вождям», но предан был только партии большевиков. Партия сказала - и вождь превращается в иуду.
Прежде чем говорить о стилистике демьяновых агиток, стоит понять, в чём разница между Демьяном Бедным и Владимиром Маяковским как поэтами-пропагандистами в период Гражданской войны.
Маяковский работал в тылу. Для него центром приложения сил были «Окна РОСТА». Демьян Бедный часто ездил на фронт; со временем ему выделили личный вагон («Разжигатель неуемный, я кочую по фронтам, мой вагон, дырявый, темный, нынче здесь, а завтра там»); иногда он приглашал в свой вагон беспризорников, путешествовавших зайцем, кормил их, поил чаем и сдавал в детские колонии.
«Окон РОСТА» Демьян тоже не миновал и даже несколько преувеличивал свою роль в этом проекте: «Мы с Маяковским так работали, что временами казалось — нас только двое». Однако важнейшими заказчиками плакатов, выходивших с текстами Демьяна, были такие организации как Литературно-издательский отдел Главного политического управления Красной Армии (ГлавПУР) и Агитационно-просветительский отдел Всероссийского бюро военных комиссаров.
Маяковский сам придумывал темы плакатов, сам рисовал и сам писал стихотворные тексты. Демьян занимался только текстами. Ему часто приходилось оперативно писать стихи к уже готовым плакатам. Хотя и сами художники с удовольствием иллюстрировали его хлёсткие тексты.
Наконец, различалась и целевая аудитория. Маяковский работал главным образом для городского читателя, а агитки Демьяна Бедного были нацелены на крестьянскую массу, тем более что и Красная Армия в основном состояла из неё же.
Отсюда и стилистические особенности демьяновских агиток. Он берёт за образец народный стих, близкий ему с детства: раёшники и побывальщины, сказы и песни, частушки и былины.
И это работало. Вероятно, Демьян Бедный был самым эффективным поэтом-пропагандистом всех времён и народов. Можно не верить большевистским оценкам, но вот мнение врага, монархиста Пуришкевича: «Среди вас, большевиков, для нас, монархистов, опасных людей только двое. Это — Ленин, который сумел так быстро организовать и заострить, хотя не с того конца, такую цепкую власть, и Демьян Бедный, который сумел своими агитками пролезть под каждую солдатскую шкуру глубже, чем все наши декреты и прокламации».
Обращаясь к крестьянам, поэт не мог не касаться тем дезертирства и мобилизации. Им были посвящены, например, поэма «Митька-бегунец:, на основе которой сделал плакат неизвестный художник, и стихотворение «Кулацкий плач», которое напечатано на плакате К. Спасского «Запись в Красную Армию». Сюда же относится и стихотворение «Проводы» («Как родная меня мать провожала…»), которое не раз появлялось на плакатах даже после окончания Гражданской (к примеру, на плакате А. Куликова 1928 года). Оно стало народной песней, и, видимо, именно её имел в виду Сергей Есенин, когда не без зависти писал о сельских комсомольцах, которые «поют агитки Бедного Демьяна». Кто говорит, что Демьян - так себе поэт, тот пусть попробует придумать народную песню.
Надо сказать, что народная поэтика Демьяна Бедного, соединяющая консервативную форму и революционное содержание, диктовала стилистику и художникам, которые с ним работали. Они, как правило, выбирали стилистику дореволюционного лубка, более понятную людям, едва освоившим грамотность. Таковы плакаты Александра Апсита «Обманутым братьям (в белогвардейские окопы)», Виктора Дени «Капитал» и «Деникинская банда». Чуть динамичнее построен плакат Дени «На могиле контрреволюции» (1920), подводящий итог противостоянию красных и белых.
Сошлись у дорогой могилы.
Пролить слезу буржуй и поп,-
Все их надежды, все их силы
Ушли, уходят в «братский» гроб.
Где генералы, адмиралы,
Почет и пьяное житье?
Пропала сила, все пропало,
И жутко кличет воронье.
Два друга вспоминают с болью
Разгром последнего царька:
«Ах! Слишком быстро тешет колья
Красноармейская рука!»
Рыдает поп, буржуй рыдает
И под могильный нудный вой
Тихонько слезы утирает
Архангел их городовой.
Гражданская война сделала Демьяна Бедного самым популярным поэтом России, принесла ему - в годы разрухи - миллионные тиражи, а в 1923 году вышел приказ Л.Д. Троцкого, в котором говорилось: «Демьян Бедный — меткий стрелок по врагам трудящихся, доблестный кавалерист слова, награжден ВЦИК — по представлению РВСР — орденом Красного Знамени». Вот таким языком писались тогда приказы высших лиц государства.
Но и после наступления мира Демьян Бедный не собирался складывать своё плакатно-поэтическое оружие - и персонального вагона не отдал.
Игорь Караулов
Многогранный Билибин
Октябрь 1922 года. На улице Антикхании в самом центре Александрии, в прекрасной мастерской, русский художник профессор Иван Билибин держит в руках письмо. Пишет бывшая ученица Шурочка, оставшаяся в Петрограде. Вдова, семилетний сын и невыносимые условия существования, голод, антисанитария – письмо грустное, даже отчаянное. А вокруг цветут финики, благоухают розы, взятое напрокат пианино еще помнит вчерашний вечер в кругу русских эмигрантов. Иван Яковлевич откладывает письмо и пишет ответ: «Будьте моей женой».
В отличие от подавляющего большинства тех, кто прибыл 13 марта 1920 года из Новороссийска на корабле «Саратов» в Александрию и оказался в карантинном лагере для русских беженцев, Билибин смог вырваться из нищеты лагерной жизни, и через связи с бывшими российскими дипломатами в Каире получил заказ от греческих магнатов, владевших в Египте сахарными плантациями, которого хватило и на съем мастерской с комнатами и садом и на помощь семье своего старого друга Леонида Чиркова. Первая жена англичанка осталась еще в той жизни, когда Билибин учился в мастерской у Ильи Репина, потом работал театральным художником, там, в Российской империи, родились его дети. Но алкоголь и богемная жизнь часто не совпадают с планами жен, и потому, англичанка сменилась на вторую жену - юную ирландку, которая, так же не выдержав конкуренции с выпивкой, растворилась на рубеже времен.
В 1905 году антимонархист Билибин поддержал революцию и занялся карикатурами для сатирических изданий – «Жупел» и «Адская почта». Самой провокационной стала карикатура «Осёл», в котором собственно осёл изображался с царскими регалиями, а в обрамлении были использованы фигуры грифонов, символ правящего дома Романовых. Билибина даже арестовали, «Жупел» закрыли, но крылатые твари не оставили мастера. В 1917 году к власти приходит Временное правительство и Иван Яковлевич рисует эмблему Российской республики. За основу он берет двуглавого орла времен Ивана III, и тут же эмблема входит в историю, как «ощипанная курица», поскольку на рисунке отсутствовали атрибуты царской власти. Социалистической революции Билибин не поддержал и уехал в Крым, где до 1918 года пребывал в пузыре искусства, морских пейзажей, покоя и вина. Дачный кооператив Батилиман – недалеко от Севастополя и Балаклавы был оазисом мира. В то время как неподалеку пьяные матросы в диком количестве и под всеми веществами, которые только можно было найти в порту, показывали на что способен русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Пузырь лопнул, и в 1918 году Иван Яковлевич направляется обратно в Петроград. Дороги перекрыты, Билибин оказывается в Ростове.
Информационное агентство ОСВАГ - Осведомительное Агентство Добровольческой армии и Вооружённых сил Юга России – было создано в 1918 году генералом Деникиным с целью информирования населения о Белом движении, для распространения информации о преступлениях большевиков, увековечивания памяти о героях Белого движения, предоставления сведений о текущем положении дел и как конкурент пропаганде большевиков. В центральном аппарате на Садовой улице в Ростове работало больше 250 человек, среди них оказался и Иван Билибин. Агентство издавало несколько газет: «Жизнь», «Народная жизнь», «Великая Россия», литературно-художественный журнал «Орфей» под руководством поэта-символиста Сергея Соколова. Для освещения новостей в тылу и на фронте велась фото- и киносъемка. Для агитаторов и пропагандистов каждый день выпускались «географические карты страны, на которых цветом отмечались все важные события, имевшие отношение к политической и экономической ситуации (транспорт, крестьянские бунты, антиправительственная или антисемитская агитация и т. д.), что позволяло быстро ориентироваться на местности и, главное, показывало явную взаимосвязь между отдельными политическими, экономическими и социальными факторами».
«С высоты прошедших лет, читая воспоминания участников Гражданской войны с «красной» и «белой» сторон, начинаешь понимать, что оба «агитпропа» — в Москве и в Ростове-на-Дону — были зеркальным отражением друг друга, только с обратными знаками. В Москве висели «Окна РОСТА» со стихами Маяковского и Демьяна Бедного, в Ростове — «Окна ОСВАГа» с виршами Наживина или «белого Демьяна» рифмоплёта А. Гридина. Там красноармеец протыкает штыком буржуя и белого генерала, здесь ражий доброволец — «жида» Троцкого», напишет историк Владлен Сироткин в книге «Зарубежные клондайки России».
В 1920 году Врангель разогнал агентство, которое под конец ругали и белые и красные, и левые и правые, антисемиты и евреи. Но отдел листовок и плакатов, в котором работали Илья Эренбург и Самуил Маршак, Евгений Лансере и Иван Билибин, оставил свой след в истории. В том числе интересующий нас плакат «Как немцы большевика на Россию выпускали». Рисунок Билибина датирован 1917 годом, по непонятной причине в печать был отдан в 1919 году, мягко говоря с опозданием, поскольку в общественном сознании к этому времени немцы воспринимались скорее как возможное спасение от большевиков и прочего бандитизма.
На святую нашу Русь
Прилетел заморский гусь:
Полу-змей, полу-ворона,
А на маковке корона.
Что за чудище сидит,
Воет, свищет и шипит?
И, тараща свои бельма,
"Я - орел, - кричит, - Вильгельма!
"Всех хочу я покорить,
Всех согнуть и раздавить!
Пусть немецкий мой солдат
Головой и крепковат,
Но зато как тараканы,
Лезут немцы во все страны.
С голодухи подвывают,
Пиво голое лакают.
Эх, скорей бы нам победа!
Стосковались без обеда!
Будет русский подавать,
Наши ноги целовать!
Там у русского народа,
Говорят, теперь свобода.
Ну так выкинем мы штуку:
Забирем в свои их руки!
Вылезай-ка, большевик!
Поднимай в России крик!
Не вели войскам сражаться,
Зови с немцами брататься!
Бородой своей тряси,
Околесицу неси.
Пусть бранятся, всех ругают,
Все хватают, все ломают,
Пусть все в клочья раздерут!
Мы же будем тут как тут!
Русских голыми руками
Заберем мы с потрохами!
Так валяй же, большевик!
Подымай погромче крик!
И проклятый большевик
Свое дело сделал вмиг:
Поклонился черной птице,
Смуту сеял, фронт открыл,
Всей России яму рыл...
Но напрасны все потуги,
Ошибутся немцев слуги.
Вдруг прозрела наша Русь,
Кличет войску: "Стой, не трусь!
Нет, германскому народу
Не продаст мужик свободу,
Не отдаст своей земли.
Стой, солдат! Врага вали!
Обретешь ты мир и славу,
Коль спасешь свою Державу!"
Еще до закрытия ОСВАГ, Иван Яковлевич Билибин покидает Советскую Россию на пароходе «Саратов», единственном пароходе, который был организован англичанами для вывоза мирного населения из Новороссийска. Его ждет Александрия, Каир, но сначала долгие месяцы в лагере среди больных тифом людей.
Тем временем в Петрограде, пытаясь избежать закрытия, бывший Императорский фарфоровый завод принимает в свои ряды талантливых художников, которые в попытке подстроиться под трудное время военного коммунизма, ищут новые формы для творчества, неизбежно связанные с агитацией и пропагандой рождающегося строя. Ранний советский фарфор обязан своим обликом художникам, имевшими за плечами обучение в сильных творческих русских школах, и будто соединившими девятнадцатый и двадцатый век. Александра Васильевна Щекотихина-Потоцкая, ученица Николая Рериха, Яна Ционглинского, архитектора Владимира Щуко и Ивана Билибина, окончила школу Общества поощрения художеств, принимала участие в выставках «Мира искусств», также влекомая новой областью творческого познания в 1918 году приходит в мастерские фарфорового завода, который определит всю её судьбу.
Агитационный фарфор – не только следствие потребности молодой страны в средствах пропаганды, но еще и удивительный дорогой товар на зарубежных ярмарках, который достаточно быстро стал узнаваем и занял свою нишу в среде коллекционеров. Стилистику оформления первого агитационного фарфора придумал глава Художественного отдела завода С. В. Чехонин – контраст агитирующего текста красного или черного цвета с белоснежной поверхностью предметов. Среди революционных символов на тарелках, вождей в пшеничных стогах, серпов и молотов, совершенно иными и фантастическими казались образы, которые несла миру на хрупких фарфоровых стенках Щекатихина-Потоцкая. Сказочная Снегурочка, Конек-Горбунок, русские узоры, музыканты, девица-плясунья, деревенские сцены, уводящие нас в древние времена, театрально-лубочные персонажи, и тут же «Страдание России» - блюдо 1921 года, отражающее боль художника о происходящем в стране. Александра Васильевна как и её учителя часто бывала в экспедициях по городам русского севера, напитывалась мотивами и образами, проникала в суть национальной художественной формы и теперь пыталась соединить казалось бы потерянный мир с революционной реальностью. Но контраст между новым и старым огромен, спустя пять лет работы на заводе, Шурочка пишет письмо своему бывшему педагогу в Египет…
В 1923 году Александра Васильевна едет из Петрограда в командировку в Берлин для ознакомления с местной фарфоровой мануфактурой. Но вместо этого попадает в Египет, где выходит замуж за Ивана Яковлевича Билибина. Спустя некоторое время восточный период для обоих заканчивается, в 1925 году семья переезжает в Париж. Удивительно, но Щекатихина-Потоцкая продолжала поддерживать отношения с ЛФЗ. Её фарфор можно было увидеть в Советском отделе Международной выставки декоративно-художественных искусств в Париже в 1925 году, в составе коллекции завода – на Международной выставке художественной промышленности и декоративных искусств в Милане, на выставках в Москве и Ленинграде. «Ваши учителя – Рерих и Билибин – уже познакомили Вас тогда с легендами и сакральным искусством Вашей Родины, Вы же придали живость и свежесть благородным формулам и писали иконы с натуры» - писал художник-символист Морис Дени в каталоге первой персональной выставки Александры в 1926 году в Париже. Иван Яковлевич держится сказочно-иллюстративной темы и работает над оформлением театральных постановок. Благодаря знакомству с советским дипломатом во Франции Владимиром Потемкиным, в 1934 году Билибин берется за проект для советского посольства. Для парадной лестницы в особняке Hotel d'Estrees, построенном в XVIII веке, художник выбирает символический сюжет - «Микула Селянинович». В 1918 году К. С. Петров-Водкин обращается к этому сюжету для оформления Театральной площади к первой годовщине Октября в Петрограде. На нем изображается богатырь-пахарь Микула и князь Вольга, которые по легенде, объединившись, защищают народ от грабежа и воровства. В 1918 году было много таких сюжетов – панно С.В.Герасимова на левом крыле бывшей Городской Думы, например - «Крестьянин даст рабочему хлеб - рабочий даст крестьянину мир». В 1934 году этот союз народа и власти в древнерусских символах на стене особняка советского посольства во Франции означал несколько другое – СССР готов вести диалог с внешним миром. СССР готов работать с бывшим сотрудником белогвардейской пропаганды, СССР готов простить. В 1935 году СССР выдает советский паспорт художнику Ивану Яковлевичу Билибину. В 1936 году семья возвращается в Ленинград.
Оба продолжают работу – Александра попадает обратно на ЛФЗ в момент поиска художественного решения для товаров массового потребления. Благодаря художникам старой школы, мирискусникам, в соединении практичности и изобразительного искусства была сохранена виртуозная техника письма и графическое мастерство. Иван Яковлевич, несмотря на профессорскую работу, иллюстрации, театр, с головой уходит в оформление книги «Слово о стольном Киеве и русских богатырях» – сборнике русских былин, составленных этнографом Николаем Водовозовым. Не оставляет своих богатырей Билибин и в блокадном Ленинграде. Пишет и после того, как в их с Шурой дом попадает авиабомба, в холодном общежитии. Образ древнего русского воина с ним до последней минуты. «Из осажденной крепости не бегут – её защищают!» - так ответил русский человек Иван Билибин на предложение эвакуироваться из неживого почти города.
Билибин умер от истощения 7 февраля 1942 года. Похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище.
Во время войны Шурочка создает две монументальные работы – вазы «Дмитрий Донской» и «Александр Невский». Увековечив на хрупком материале двух русских, не советских, воинов, двух русских князей, двух православных святых.
Из последнего письма И.Я.Билибина в дирекцию Всероссийской Академии художеств: «Работа продолжается... Книга должна выйти, когда наступит победоносный мир. Книга о нашем эпическом и героическом прошлом...»
В 1977 году в залах ленинградской организации Союза художников РСФСР прошла выставка, посвященная наследию И.Я.Билибина и А.В.Щекотихиной-Потоцкой.
В отличие от подавляющего большинства тех, кто прибыл 13 марта 1920 года из Новороссийска на корабле «Саратов» в Александрию и оказался в карантинном лагере для русских беженцев, Билибин смог вырваться из нищеты лагерной жизни, и через связи с бывшими российскими дипломатами в Каире получил заказ от греческих магнатов, владевших в Египте сахарными плантациями, которого хватило и на съем мастерской с комнатами и садом и на помощь семье своего старого друга Леонида Чиркова. Первая жена англичанка осталась еще в той жизни, когда Билибин учился в мастерской у Ильи Репина, потом работал театральным художником, там, в Российской империи, родились его дети. Но алкоголь и богемная жизнь часто не совпадают с планами жен, и потому, англичанка сменилась на вторую жену - юную ирландку, которая, так же не выдержав конкуренции с выпивкой, растворилась на рубеже времен.
В 1905 году антимонархист Билибин поддержал революцию и занялся карикатурами для сатирических изданий – «Жупел» и «Адская почта». Самой провокационной стала карикатура «Осёл», в котором собственно осёл изображался с царскими регалиями, а в обрамлении были использованы фигуры грифонов, символ правящего дома Романовых. Билибина даже арестовали, «Жупел» закрыли, но крылатые твари не оставили мастера. В 1917 году к власти приходит Временное правительство и Иван Яковлевич рисует эмблему Российской республики. За основу он берет двуглавого орла времен Ивана III, и тут же эмблема входит в историю, как «ощипанная курица», поскольку на рисунке отсутствовали атрибуты царской власти. Социалистической революции Билибин не поддержал и уехал в Крым, где до 1918 года пребывал в пузыре искусства, морских пейзажей, покоя и вина. Дачный кооператив Батилиман – недалеко от Севастополя и Балаклавы был оазисом мира. В то время как неподалеку пьяные матросы в диком количестве и под всеми веществами, которые только можно было найти в порту, показывали на что способен русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Пузырь лопнул, и в 1918 году Иван Яковлевич направляется обратно в Петроград. Дороги перекрыты, Билибин оказывается в Ростове.
Информационное агентство ОСВАГ - Осведомительное Агентство Добровольческой армии и Вооружённых сил Юга России – было создано в 1918 году генералом Деникиным с целью информирования населения о Белом движении, для распространения информации о преступлениях большевиков, увековечивания памяти о героях Белого движения, предоставления сведений о текущем положении дел и как конкурент пропаганде большевиков. В центральном аппарате на Садовой улице в Ростове работало больше 250 человек, среди них оказался и Иван Билибин. Агентство издавало несколько газет: «Жизнь», «Народная жизнь», «Великая Россия», литературно-художественный журнал «Орфей» под руководством поэта-символиста Сергея Соколова. Для освещения новостей в тылу и на фронте велась фото- и киносъемка. Для агитаторов и пропагандистов каждый день выпускались «географические карты страны, на которых цветом отмечались все важные события, имевшие отношение к политической и экономической ситуации (транспорт, крестьянские бунты, антиправительственная или антисемитская агитация и т. д.), что позволяло быстро ориентироваться на местности и, главное, показывало явную взаимосвязь между отдельными политическими, экономическими и социальными факторами».
«С высоты прошедших лет, читая воспоминания участников Гражданской войны с «красной» и «белой» сторон, начинаешь понимать, что оба «агитпропа» — в Москве и в Ростове-на-Дону — были зеркальным отражением друг друга, только с обратными знаками. В Москве висели «Окна РОСТА» со стихами Маяковского и Демьяна Бедного, в Ростове — «Окна ОСВАГа» с виршами Наживина или «белого Демьяна» рифмоплёта А. Гридина. Там красноармеец протыкает штыком буржуя и белого генерала, здесь ражий доброволец — «жида» Троцкого», напишет историк Владлен Сироткин в книге «Зарубежные клондайки России».
В 1920 году Врангель разогнал агентство, которое под конец ругали и белые и красные, и левые и правые, антисемиты и евреи. Но отдел листовок и плакатов, в котором работали Илья Эренбург и Самуил Маршак, Евгений Лансере и Иван Билибин, оставил свой след в истории. В том числе интересующий нас плакат «Как немцы большевика на Россию выпускали». Рисунок Билибина датирован 1917 годом, по непонятной причине в печать был отдан в 1919 году, мягко говоря с опозданием, поскольку в общественном сознании к этому времени немцы воспринимались скорее как возможное спасение от большевиков и прочего бандитизма.
На святую нашу Русь
Прилетел заморский гусь:
Полу-змей, полу-ворона,
А на маковке корона.
Что за чудище сидит,
Воет, свищет и шипит?
И, тараща свои бельма,
"Я - орел, - кричит, - Вильгельма!
"Всех хочу я покорить,
Всех согнуть и раздавить!
Пусть немецкий мой солдат
Головой и крепковат,
Но зато как тараканы,
Лезут немцы во все страны.
С голодухи подвывают,
Пиво голое лакают.
Эх, скорей бы нам победа!
Стосковались без обеда!
Будет русский подавать,
Наши ноги целовать!
Там у русского народа,
Говорят, теперь свобода.
Ну так выкинем мы штуку:
Забирем в свои их руки!
Вылезай-ка, большевик!
Поднимай в России крик!
Не вели войскам сражаться,
Зови с немцами брататься!
Бородой своей тряси,
Околесицу неси.
Пусть бранятся, всех ругают,
Все хватают, все ломают,
Пусть все в клочья раздерут!
Мы же будем тут как тут!
Русских голыми руками
Заберем мы с потрохами!
Так валяй же, большевик!
Подымай погромче крик!
И проклятый большевик
Свое дело сделал вмиг:
Поклонился черной птице,
Смуту сеял, фронт открыл,
Всей России яму рыл...
Но напрасны все потуги,
Ошибутся немцев слуги.
Вдруг прозрела наша Русь,
Кличет войску: "Стой, не трусь!
Нет, германскому народу
Не продаст мужик свободу,
Не отдаст своей земли.
Стой, солдат! Врага вали!
Обретешь ты мир и славу,
Коль спасешь свою Державу!"
Еще до закрытия ОСВАГ, Иван Яковлевич Билибин покидает Советскую Россию на пароходе «Саратов», единственном пароходе, который был организован англичанами для вывоза мирного населения из Новороссийска. Его ждет Александрия, Каир, но сначала долгие месяцы в лагере среди больных тифом людей.
Тем временем в Петрограде, пытаясь избежать закрытия, бывший Императорский фарфоровый завод принимает в свои ряды талантливых художников, которые в попытке подстроиться под трудное время военного коммунизма, ищут новые формы для творчества, неизбежно связанные с агитацией и пропагандой рождающегося строя. Ранний советский фарфор обязан своим обликом художникам, имевшими за плечами обучение в сильных творческих русских школах, и будто соединившими девятнадцатый и двадцатый век. Александра Васильевна Щекотихина-Потоцкая, ученица Николая Рериха, Яна Ционглинского, архитектора Владимира Щуко и Ивана Билибина, окончила школу Общества поощрения художеств, принимала участие в выставках «Мира искусств», также влекомая новой областью творческого познания в 1918 году приходит в мастерские фарфорового завода, который определит всю её судьбу.
Агитационный фарфор – не только следствие потребности молодой страны в средствах пропаганды, но еще и удивительный дорогой товар на зарубежных ярмарках, который достаточно быстро стал узнаваем и занял свою нишу в среде коллекционеров. Стилистику оформления первого агитационного фарфора придумал глава Художественного отдела завода С. В. Чехонин – контраст агитирующего текста красного или черного цвета с белоснежной поверхностью предметов. Среди революционных символов на тарелках, вождей в пшеничных стогах, серпов и молотов, совершенно иными и фантастическими казались образы, которые несла миру на хрупких фарфоровых стенках Щекатихина-Потоцкая. Сказочная Снегурочка, Конек-Горбунок, русские узоры, музыканты, девица-плясунья, деревенские сцены, уводящие нас в древние времена, театрально-лубочные персонажи, и тут же «Страдание России» - блюдо 1921 года, отражающее боль художника о происходящем в стране. Александра Васильевна как и её учителя часто бывала в экспедициях по городам русского севера, напитывалась мотивами и образами, проникала в суть национальной художественной формы и теперь пыталась соединить казалось бы потерянный мир с революционной реальностью. Но контраст между новым и старым огромен, спустя пять лет работы на заводе, Шурочка пишет письмо своему бывшему педагогу в Египет…
В 1923 году Александра Васильевна едет из Петрограда в командировку в Берлин для ознакомления с местной фарфоровой мануфактурой. Но вместо этого попадает в Египет, где выходит замуж за Ивана Яковлевича Билибина. Спустя некоторое время восточный период для обоих заканчивается, в 1925 году семья переезжает в Париж. Удивительно, но Щекатихина-Потоцкая продолжала поддерживать отношения с ЛФЗ. Её фарфор можно было увидеть в Советском отделе Международной выставки декоративно-художественных искусств в Париже в 1925 году, в составе коллекции завода – на Международной выставке художественной промышленности и декоративных искусств в Милане, на выставках в Москве и Ленинграде. «Ваши учителя – Рерих и Билибин – уже познакомили Вас тогда с легендами и сакральным искусством Вашей Родины, Вы же придали живость и свежесть благородным формулам и писали иконы с натуры» - писал художник-символист Морис Дени в каталоге первой персональной выставки Александры в 1926 году в Париже. Иван Яковлевич держится сказочно-иллюстративной темы и работает над оформлением театральных постановок. Благодаря знакомству с советским дипломатом во Франции Владимиром Потемкиным, в 1934 году Билибин берется за проект для советского посольства. Для парадной лестницы в особняке Hotel d'Estrees, построенном в XVIII веке, художник выбирает символический сюжет - «Микула Селянинович». В 1918 году К. С. Петров-Водкин обращается к этому сюжету для оформления Театральной площади к первой годовщине Октября в Петрограде. На нем изображается богатырь-пахарь Микула и князь Вольга, которые по легенде, объединившись, защищают народ от грабежа и воровства. В 1918 году было много таких сюжетов – панно С.В.Герасимова на левом крыле бывшей Городской Думы, например - «Крестьянин даст рабочему хлеб - рабочий даст крестьянину мир». В 1934 году этот союз народа и власти в древнерусских символах на стене особняка советского посольства во Франции означал несколько другое – СССР готов вести диалог с внешним миром. СССР готов работать с бывшим сотрудником белогвардейской пропаганды, СССР готов простить. В 1935 году СССР выдает советский паспорт художнику Ивану Яковлевичу Билибину. В 1936 году семья возвращается в Ленинград.
Оба продолжают работу – Александра попадает обратно на ЛФЗ в момент поиска художественного решения для товаров массового потребления. Благодаря художникам старой школы, мирискусникам, в соединении практичности и изобразительного искусства была сохранена виртуозная техника письма и графическое мастерство. Иван Яковлевич, несмотря на профессорскую работу, иллюстрации, театр, с головой уходит в оформление книги «Слово о стольном Киеве и русских богатырях» – сборнике русских былин, составленных этнографом Николаем Водовозовым. Не оставляет своих богатырей Билибин и в блокадном Ленинграде. Пишет и после того, как в их с Шурой дом попадает авиабомба, в холодном общежитии. Образ древнего русского воина с ним до последней минуты. «Из осажденной крепости не бегут – её защищают!» - так ответил русский человек Иван Билибин на предложение эвакуироваться из неживого почти города.
Билибин умер от истощения 7 февраля 1942 года. Похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище.
Во время войны Шурочка создает две монументальные работы – вазы «Дмитрий Донской» и «Александр Невский». Увековечив на хрупком материале двух русских, не советских, воинов, двух русских князей, двух православных святых.
Из последнего письма И.Я.Билибина в дирекцию Всероссийской Академии художеств: «Работа продолжается... Книга должна выйти, когда наступит победоносный мир. Книга о нашем эпическом и героическом прошлом...»
В 1977 году в залах ленинградской организации Союза художников РСФСР прошла выставка, посвященная наследию И.Я.Билибина и А.В.Щекотихиной-Потоцкой.
Теория и практика
Сейчас вместе с волной запоздалого и несколько истерического признания заслуг женщин прошлого, все больше и больше имен женщин-художниц становится достоянием общественности. Политизированное «признание», особенно, в странах, которые считают себя вполне демократическими – это эхо векового выталкивания женщин из художественного творчества – начиная с запретов на обучение, на работу с моделями-мужчинами и тд
При этом неплохо было бы напомнить, что в царской России первые вольнослушательницы были допущены в Академию в 1890м году, а в Парижскую только спустя пять лет. Но девушек было не остановить так просто и существовали возможности обучения в частных школах. Правда, с обнаженными моделями всегда была «морально-нравственная проблема» - ну не полагалось девушкам смотреть на голые мужские тела.
И вот эта волна новых открытий принесла нам имя Хильмы аф Клинт (1862-1944), шведской авторки и художки, которой теперь приписывается создание абстрактной живописи, прежде всяких Малевичей, и Мондрианов , а главное – Кандинского, родство с которым ее творчества никто не отрицает. Но проблема в том, что живопись аф Клинт не формулировалась ей как «абстрактная».
Девушка была с большим спиритическим потенциалом, подалась в изотерику, хотя, ранее пребывала под влиянием экспрессионизма норвежца Мунка. И ее работы во многом, например, выражали идеи Елены Блаватской. И она считала свое творчество вполне эзотерическим и конкретным, и ни разу не абстрактным. Более того – она запретила показывать свои работы еще двадцать лет после своей смерти – типа никто не поймет. Но вот под влиянием своего спиритического кружка «Пять Женщин» она творила вещи, похожие на диаграммы, словно вышедшие со стендов студентов ВХУТЕМАСа.
Но нам не важно, кто и что сделал первым – в конце концов ритмические росписи в пещерах предков это тоже было достаточно абстрактно. Нам важней понять, что есть эдакого в области нефигуративного искусства, где причины и базис творчества важней, собственно, графического результата на бумаге и холсте. И наполненность формы и линии идеологией выходит на первый план.
Удивительно, что при множестве реальных проблем, с которыми встретились большевики, взявшие власть в огромной стране, этот вопрос также внимательно рассматривался. Причем, настолько внимательно, что государство образовало Институт Художественной Культуры (Инхук) – научно-исследовательскую организацию, которая одновременно являлась творческим объединением, в Москве. Эта красота была организована в марте 1920 при Отделе ИЗО Наркомпроса. Собственно, в качестве Совета Мастеров (немного пафосно звучит, не правда ли) такая институция была задумана именно В. В. Кандинским еще в 1919. Александр Родченко, его жена Варвара Степанова, конечно , тут же оказались « в деле». Они все постоянно обсуждали и спорили насчет актуального искусства, ну и, конечно, что именно из новых произведений искусства должно закупать государство. Расцвет революционного левого искусства дал всем этим людям удивительны шанс выйти в творческую элиту, распределять деньги, осуществлять влияние.
Немного приподнимает в интервью французам кулиску с этой темы сам Кандинский: «…государство покупает кое-что, также частные лица, приобретающие прежде всего наследие умерших художников. Они платят 300 000 р. Ставка определяется сообразно количеству часов, потребных на замысел вещи, эскиз, работу. Это подарок для бездарных художников. А выдающиеся унижены.
30 000 р. платится за эскиз чашки, независимо от того, кто его сделал. Многие художники зарабатывают на жизнь: плакаты (и т.д.). Более того, целое море бездарных плакатов (цена которым по 10 000 р.). Нувориши не покупают картин, они покупают чулки, безделушки.
Профсоюз объединяет всех деятелей всех видов искусства. Он решает о ценах. Выдающиеся живописцы уже не сидят в президиуме; там остаются актеры, у которых больше свободы, потому что своим искусством они занимаются вечером»
Стартовав в марте 1920, Инхук имел на борту плеяду новых художников – тут были: скульптор-импрессионист-кубист и основатель советской школы монументальной пропаганды Б.Д. Королёв, мега-радикальный конструктивист А.М. Ган, музыковед Н.Я. Брюсова, латышский стрелок А.Д. Древин, скульптор А.Т. Матвеев, художник госцирка В.Г. Бехтеев, супрематистка Л.С. Попова, Степанова, Родченко, «мирискусник» Н.В. Синезубов, Р.Р. Фальк, В.Ф. Франкетти, А.В. Шевченко и другие. В секции монументального искусства были созданы рабочие группы по живописи (во главе с Кандинским), танцу (руководитель Е.И. Боричевский) и музыке (возглавляла Брюсова).
Кстати, именно Владимир Франкетти разрабатывал теорию художественной формы и методику преподавания рисунка, разделяя общие идеи с В. А. Фаворским, П. Я. Павлиновым и П. А. Флоренским. Эта теория была реализована в учебных программах ВХУТЕМАСа.
В конце марта 1920 принимается «Программа теоретической секции института» (по проекту Кандинского), базой программы сочли анализ основных элементов отдельных искусств и искусства в целом, а также выявление закономерностей воздействия произведений искусства на человека. То есть, новые деятели искали инструменты массовой манипуляции гражданами и населением при помощи комбинаций различных элементов искусства. Кроме того, они рассуждали, что каждое из искусств стремится выявить свою сущность и затем объединиться в новое синтетическое искусство. Поэтому центром исследовательской работы стала секция монументального искусства. Теория проверялась художественной интуицией. План работ по живописи предусматривал изучение основополагающего цветового ряда (красный, синий, жёлтый) и спектральное смешение цветов (фиолетовый, оранжевый, зелёный).
Итогом деятельности Инхука стал доклад Кандинского на Первой всероссийской конференции заведующих подотделами искусств. Конференция прошла 19–25 декабря 1920
Несмотря на то, что Кандинский был формальным и неформальным лидером и серьезнейшим теоретиком живописи, многие его мысли для новых художников оказались не слишком понятными и приятными – им хотелось радикально все деконструировать. А тут приходит «Васильевич» (так они его называли) со своими умностями: «В основе взаимосвязи истории искусства и "истории культуры" (к чему относится и глава об отсутствии культуры), условно говоря, лежит триединство:
1. время побеждает искусство —
a) или время обладает большой силой и концентрированным содержанием, и искусство столь же сильно сконцентрировано и свободно идет той же дорогой, что и время, или
b) время обладает большой силой, но распадается содержательно, и искусство, лишенное силы, подвергается распаду;»
Художники, которых он собирал, которых опекал, организовывал им хлебные места, продажи, начали обвинять его в том, что его тянет в старомодное искусство и о ужас- к какому-то Юону!
Удивительно, что главу Инхука выдавили из института самые близкие люди – семейная парочка Родченко-Степанова. Именно Степанова писала: «Мы, формалисты и материалисты, решили сделать взрыв, создав особую группу объективного анализа, от которого Кандинский и Брюсова бегут, как черт от ладана.
К нам присоединяется Попова, Бубнова и Синезубов. Остались Кандинский, Брюсова и Шеншин. А в общем, Инхук сейчас доведен до семи фактических членов и трех вечно отсутствующих! Это система «семейной» работы Кандинского. Против него у меня, и, видимо, у всех нас наросло значительное отвращение к эмоциональности, «рисуночной» и цветовой форме, построению на «аллогике», которую никак не увидишь.
Он крепко проникся символизмом и каким-то вечным началом — отсюда «долой перегородки», «искусство вне времени и пространства» и прочая белиберда».
Действительно – руководитель и духовный лидер осмелился сказать, что «то, что обращено спиной к духу, ведет к погибели, в то время, как то, что рождено духом и служит ему, выводит из тупиков и приводит к свободе.» «Формалистам и материалистам» как себя называет жена Александра Родченко - Степанова разговоры про «дух» слишком неактуальны.
И тут большой теоретик и практик абстрактного искусства выступил против формалистов- конструктивистов: ««Если художник использует абстрактные средства выражения, это еще не означает, что он абстрактный художник. Это даже не означает, что он художник. Существует не меньше мертвых треугольников (будь они белыми или зелеными), чем мертвых куриц, мертвых лошадей и мертвых гитар. Стать «реалистическим академиком» можно так же легко, как «абстрактным академиком». Форма без содержания не рука, но пустая перчатка, заполненная воздухом».
Но молодые радикальные леваки его-таки съели.
27 января 1921 он и его сторонники выходят из Инхука. 4 февраля 1921 в новый президиум института во главе с Родченко вошли Степанова, А.В. Бабичев, О.М. Брик и Брюсова, тогда же был принят план деятельности и программа Рабочей группы объективного анализа. Приоритетом становится экспериментальное научное и идеологическое исследование предметов искусства в их цельности и во взаимоотношениях. Это привело к доминированию конструктивистских идей.
В марте–апреле 1921 были созданы рабочие группы: конструктивистов (Родченко, Степанова, К.К. Медунецкий, К.В. Иогансон, В.А. и Г.А. Стенберги, Ган и другие), архитекторов (Н.А. Ладовский, В.Ф. Кринский и другие), скульпторов (Королёв и другие), обжективистов (Древин, Попова, Н.А. Удальцова, А.А. Веснин и другие). Программы их, естественно, различались. Где собирались два авангардиста, там возникали три мнения.
Если конструктивисты утверждали «непреемственность художественной культуры прошлого для коммунистических форм» и предлагали снести все старое, то обжективисты (от object – вещь) провозглашали «пересоздание реального мира» через «организацию конкретных свойств элементов в новый вещественный организм». Что, впрочем, очень благотворно повлияло на создание буквально нового мира повседневных вещей для нового человека в новом мире.
Инхук был тесно связан с работой Вхутемаса, в котором преподавали А.Веснин, Попова, Родченко, Степанова и другие. Анализ «конкретных свойств элементов искусства» (пространство, объём, плоскость, цвет, фактура), который был предпринят членами Рабочей группы обжективистов, послужил базой для целого ряда дисциплин Вхутемаса. В учебную подгруппу Рабочей группы конструктивистов входили 17 студентов Вхутемаса (А.И. Ахтырко, Г.Л. Миллер, Г.Д. и О.Д. Чичаговы, В.А. Шестаков и другие).
А потом состоялась выставка победивших конструктивистов, где последний раз демонстрировались в Москве абстрактные конструкции. С абстракцией было покончено. Новые веяния требовали перевода искусства ради искусства в производственное искусство. И очень идеологически заряженное. Бывший директор и лидер отбыл в Германию. Думал, что на время. Начальником конторы стал Осип Брик, по причинам материальным – приверженец «производственного искусства» и создатель «теории социального заказа». Но масштаб личности - ни в какое сравнение с бывшим лидером Инхука великим Кандинским.
Инхук работал до 1924 года. А потом новые концепции социалистического реализма окончательно прихлопнули творческие метания авангардистов-конструктивистов.
Тем временем… в 1923м году в Ленинграде открылся свой Институт художественной культуры (Гинхук), директором которого стал сам Казимир Малевич, всемирно известный ныне как автор «Черного квадрата».
Игорь Мальцев.
При этом неплохо было бы напомнить, что в царской России первые вольнослушательницы были допущены в Академию в 1890м году, а в Парижскую только спустя пять лет. Но девушек было не остановить так просто и существовали возможности обучения в частных школах. Правда, с обнаженными моделями всегда была «морально-нравственная проблема» - ну не полагалось девушкам смотреть на голые мужские тела.
И вот эта волна новых открытий принесла нам имя Хильмы аф Клинт (1862-1944), шведской авторки и художки, которой теперь приписывается создание абстрактной живописи, прежде всяких Малевичей, и Мондрианов , а главное – Кандинского, родство с которым ее творчества никто не отрицает. Но проблема в том, что живопись аф Клинт не формулировалась ей как «абстрактная».
Девушка была с большим спиритическим потенциалом, подалась в изотерику, хотя, ранее пребывала под влиянием экспрессионизма норвежца Мунка. И ее работы во многом, например, выражали идеи Елены Блаватской. И она считала свое творчество вполне эзотерическим и конкретным, и ни разу не абстрактным. Более того – она запретила показывать свои работы еще двадцать лет после своей смерти – типа никто не поймет. Но вот под влиянием своего спиритического кружка «Пять Женщин» она творила вещи, похожие на диаграммы, словно вышедшие со стендов студентов ВХУТЕМАСа.
Но нам не важно, кто и что сделал первым – в конце концов ритмические росписи в пещерах предков это тоже было достаточно абстрактно. Нам важней понять, что есть эдакого в области нефигуративного искусства, где причины и базис творчества важней, собственно, графического результата на бумаге и холсте. И наполненность формы и линии идеологией выходит на первый план.
Удивительно, что при множестве реальных проблем, с которыми встретились большевики, взявшие власть в огромной стране, этот вопрос также внимательно рассматривался. Причем, настолько внимательно, что государство образовало Институт Художественной Культуры (Инхук) – научно-исследовательскую организацию, которая одновременно являлась творческим объединением, в Москве. Эта красота была организована в марте 1920 при Отделе ИЗО Наркомпроса. Собственно, в качестве Совета Мастеров (немного пафосно звучит, не правда ли) такая институция была задумана именно В. В. Кандинским еще в 1919. Александр Родченко, его жена Варвара Степанова, конечно , тут же оказались « в деле». Они все постоянно обсуждали и спорили насчет актуального искусства, ну и, конечно, что именно из новых произведений искусства должно закупать государство. Расцвет революционного левого искусства дал всем этим людям удивительны шанс выйти в творческую элиту, распределять деньги, осуществлять влияние.
Немного приподнимает в интервью французам кулиску с этой темы сам Кандинский: «…государство покупает кое-что, также частные лица, приобретающие прежде всего наследие умерших художников. Они платят 300 000 р. Ставка определяется сообразно количеству часов, потребных на замысел вещи, эскиз, работу. Это подарок для бездарных художников. А выдающиеся унижены.
30 000 р. платится за эскиз чашки, независимо от того, кто его сделал. Многие художники зарабатывают на жизнь: плакаты (и т.д.). Более того, целое море бездарных плакатов (цена которым по 10 000 р.). Нувориши не покупают картин, они покупают чулки, безделушки.
Профсоюз объединяет всех деятелей всех видов искусства. Он решает о ценах. Выдающиеся живописцы уже не сидят в президиуме; там остаются актеры, у которых больше свободы, потому что своим искусством они занимаются вечером»
Стартовав в марте 1920, Инхук имел на борту плеяду новых художников – тут были: скульптор-импрессионист-кубист и основатель советской школы монументальной пропаганды Б.Д. Королёв, мега-радикальный конструктивист А.М. Ган, музыковед Н.Я. Брюсова, латышский стрелок А.Д. Древин, скульптор А.Т. Матвеев, художник госцирка В.Г. Бехтеев, супрематистка Л.С. Попова, Степанова, Родченко, «мирискусник» Н.В. Синезубов, Р.Р. Фальк, В.Ф. Франкетти, А.В. Шевченко и другие. В секции монументального искусства были созданы рабочие группы по живописи (во главе с Кандинским), танцу (руководитель Е.И. Боричевский) и музыке (возглавляла Брюсова).
Кстати, именно Владимир Франкетти разрабатывал теорию художественной формы и методику преподавания рисунка, разделяя общие идеи с В. А. Фаворским, П. Я. Павлиновым и П. А. Флоренским. Эта теория была реализована в учебных программах ВХУТЕМАСа.
В конце марта 1920 принимается «Программа теоретической секции института» (по проекту Кандинского), базой программы сочли анализ основных элементов отдельных искусств и искусства в целом, а также выявление закономерностей воздействия произведений искусства на человека. То есть, новые деятели искали инструменты массовой манипуляции гражданами и населением при помощи комбинаций различных элементов искусства. Кроме того, они рассуждали, что каждое из искусств стремится выявить свою сущность и затем объединиться в новое синтетическое искусство. Поэтому центром исследовательской работы стала секция монументального искусства. Теория проверялась художественной интуицией. План работ по живописи предусматривал изучение основополагающего цветового ряда (красный, синий, жёлтый) и спектральное смешение цветов (фиолетовый, оранжевый, зелёный).
Итогом деятельности Инхука стал доклад Кандинского на Первой всероссийской конференции заведующих подотделами искусств. Конференция прошла 19–25 декабря 1920
Несмотря на то, что Кандинский был формальным и неформальным лидером и серьезнейшим теоретиком живописи, многие его мысли для новых художников оказались не слишком понятными и приятными – им хотелось радикально все деконструировать. А тут приходит «Васильевич» (так они его называли) со своими умностями: «В основе взаимосвязи истории искусства и "истории культуры" (к чему относится и глава об отсутствии культуры), условно говоря, лежит триединство:
1. время побеждает искусство —
a) или время обладает большой силой и концентрированным содержанием, и искусство столь же сильно сконцентрировано и свободно идет той же дорогой, что и время, или
b) время обладает большой силой, но распадается содержательно, и искусство, лишенное силы, подвергается распаду;»
Художники, которых он собирал, которых опекал, организовывал им хлебные места, продажи, начали обвинять его в том, что его тянет в старомодное искусство и о ужас- к какому-то Юону!
Удивительно, что главу Инхука выдавили из института самые близкие люди – семейная парочка Родченко-Степанова. Именно Степанова писала: «Мы, формалисты и материалисты, решили сделать взрыв, создав особую группу объективного анализа, от которого Кандинский и Брюсова бегут, как черт от ладана.
К нам присоединяется Попова, Бубнова и Синезубов. Остались Кандинский, Брюсова и Шеншин. А в общем, Инхук сейчас доведен до семи фактических членов и трех вечно отсутствующих! Это система «семейной» работы Кандинского. Против него у меня, и, видимо, у всех нас наросло значительное отвращение к эмоциональности, «рисуночной» и цветовой форме, построению на «аллогике», которую никак не увидишь.
Он крепко проникся символизмом и каким-то вечным началом — отсюда «долой перегородки», «искусство вне времени и пространства» и прочая белиберда».
Действительно – руководитель и духовный лидер осмелился сказать, что «то, что обращено спиной к духу, ведет к погибели, в то время, как то, что рождено духом и служит ему, выводит из тупиков и приводит к свободе.» «Формалистам и материалистам» как себя называет жена Александра Родченко - Степанова разговоры про «дух» слишком неактуальны.
И тут большой теоретик и практик абстрактного искусства выступил против формалистов- конструктивистов: ««Если художник использует абстрактные средства выражения, это еще не означает, что он абстрактный художник. Это даже не означает, что он художник. Существует не меньше мертвых треугольников (будь они белыми или зелеными), чем мертвых куриц, мертвых лошадей и мертвых гитар. Стать «реалистическим академиком» можно так же легко, как «абстрактным академиком». Форма без содержания не рука, но пустая перчатка, заполненная воздухом».
Но молодые радикальные леваки его-таки съели.
27 января 1921 он и его сторонники выходят из Инхука. 4 февраля 1921 в новый президиум института во главе с Родченко вошли Степанова, А.В. Бабичев, О.М. Брик и Брюсова, тогда же был принят план деятельности и программа Рабочей группы объективного анализа. Приоритетом становится экспериментальное научное и идеологическое исследование предметов искусства в их цельности и во взаимоотношениях. Это привело к доминированию конструктивистских идей.
В марте–апреле 1921 были созданы рабочие группы: конструктивистов (Родченко, Степанова, К.К. Медунецкий, К.В. Иогансон, В.А. и Г.А. Стенберги, Ган и другие), архитекторов (Н.А. Ладовский, В.Ф. Кринский и другие), скульпторов (Королёв и другие), обжективистов (Древин, Попова, Н.А. Удальцова, А.А. Веснин и другие). Программы их, естественно, различались. Где собирались два авангардиста, там возникали три мнения.
Если конструктивисты утверждали «непреемственность художественной культуры прошлого для коммунистических форм» и предлагали снести все старое, то обжективисты (от object – вещь) провозглашали «пересоздание реального мира» через «организацию конкретных свойств элементов в новый вещественный организм». Что, впрочем, очень благотворно повлияло на создание буквально нового мира повседневных вещей для нового человека в новом мире.
Инхук был тесно связан с работой Вхутемаса, в котором преподавали А.Веснин, Попова, Родченко, Степанова и другие. Анализ «конкретных свойств элементов искусства» (пространство, объём, плоскость, цвет, фактура), который был предпринят членами Рабочей группы обжективистов, послужил базой для целого ряда дисциплин Вхутемаса. В учебную подгруппу Рабочей группы конструктивистов входили 17 студентов Вхутемаса (А.И. Ахтырко, Г.Л. Миллер, Г.Д. и О.Д. Чичаговы, В.А. Шестаков и другие).
А потом состоялась выставка победивших конструктивистов, где последний раз демонстрировались в Москве абстрактные конструкции. С абстракцией было покончено. Новые веяния требовали перевода искусства ради искусства в производственное искусство. И очень идеологически заряженное. Бывший директор и лидер отбыл в Германию. Думал, что на время. Начальником конторы стал Осип Брик, по причинам материальным – приверженец «производственного искусства» и создатель «теории социального заказа». Но масштаб личности - ни в какое сравнение с бывшим лидером Инхука великим Кандинским.
Инхук работал до 1924 года. А потом новые концепции социалистического реализма окончательно прихлопнули творческие метания авангардистов-конструктивистов.
Тем временем… в 1923м году в Ленинграде открылся свой Институт художественной культуры (Гинхук), директором которого стал сам Казимир Малевич, всемирно известный ныне как автор «Черного квадрата».
Игорь Мальцев.
Луначарский и пустота
На первый взгляд идея написать маленькую заметку о Луначарском кажется даже банальной. Ну кто чего не знает про Луначарского? Вы нам еще про старика Крупского расскажите, пхахахах.
Однако уже второй взгляд упирается в тупик. А что мы, собственно, знаем о Луначарском? Что у нас есть?
Восемь томов собрания сочинений — но кто ж их читал?
ЖЗЛ-ка 1967 года некого Ёлкина. Кто такой? «Известен читателям по увлекательным книгам «Айсберги над нами», «Атомные уходят по тревоге», «Одна тропка из тысячи» и др.», — сообщает нам всеведущий Яндекс. «Дилетантизм и неряшливость», — припечатывает Н.А. Трифонов в «Новом мире». В топку.
ЖЗЛ-ка 2010 года Ю.Б. Борева. Открываем и не верим своим глазам: роман. «Ильич быстрым шагом подошел к Анатолию Васильевичу и, глядя с легким прищуром, сказал, немного картавя: — Проходите, батенька, только вас дожидаемся». Закрываем.
Дальше — специализированная литература. Пара десятков статей с названиями типа «Луначарский и…».
Итого, толковой книги о Луначарском в природе не существует.
Остается только миф о Луначарском, и от мифа этого несет перегаром перестроечного «Огонька». Декадентство с кровью пополам, прорвавшаяся к власти бездарь… Такой Луначарский, например, выведен в одном из романов Быкова (признан иноагентом). Что ж, был ли Луначарский талантливым драматургом? Ну, не был. Но ведь и романы самого Быкова, мягко говоря, далеко не шедевры…
Понятно, почему грантов на изучение жизни и творчества Луначарского не дают последние тридцать лет, но почему так мало было сделано в Советском Союзе — вопрос, на который нет ответа, можно только строить догадки.
Одно время у прогрессивных литературоведов было модно читать Лукача и ссылаться на него, но почему социологическая критика Луначарского — а он был видным для своего времени литературоведом, написал сотни статей — предана забвению? Правда ли, что там совершенно нечего почерпнуть современной науке о литературе? И на этот вопрос нет ответа.
Впрочем, и современной науки о литературе, кажется, нет. Была да сплыла. Пала то ли жертвой борьбы роковой, то ли жертвой ЕГЭ.
Между тем, вопросов масса. Кем был Луначарский в структуре партии большевиков? Каково его значение для строительства раннего Советского государства? Каков его вклад в разрушение старой культуры и становление новой? Полных, удовлетворительных ответов на эти вопросы до сих пор не существует, и едва ли эта небольшая заметка сможет их найти. Но может быть, можно попробовать хотя бы нащупать направления, где их можно искать.
Начать, ничего не поделаешь, придется с биографии — никакого другого достоверного знания у нас, как ни крути, нет.
Родился в 1875 году в Полтаве, внебрачный ребенок. Мать — дочь действительного статского советника Якова Павловича Ростовцева, отец — действительный статский советник Александр Иванович Антонов. Воспитывался в семье отчима, Василия Федоровича Чарнолуского, еще одного бастарда, дослужившегося, впрочем, до личного дворянства. От отчима взял отчество и, с перестановкой слогов, фамилию.
Кого именно, отца или отчима, называет «радикально настроенным чиновником» Краткая литературная энциклопедия, бог весть, но во всяком случае марксизмом будущий нарком увлекся еще подростком. В 17 лет он уже вовсю агитировал рабочих-железнодорожников.
В конце жизни, перед назначением послом в Испанию, Луначарский должен будет заполнить анкету, в которой среди прочих будет вопрос: с какого года в партии? Вопрос окажется не таким уж банальным. «Со дня основания», — напишет Луначарский, и в самом деле: с 1895-го, сообщает КЛЭ, при том, что годом основания РСДРП вообще-то считается 1898-й. Если принять дату из энциклопедии, Луначарскому было 20 лет.
С фотографии этого времени на нас смотрит симпатичный щеголеватый молодой человек: усики, галстук, пробор, пенсне. А чего бы ему не быть щеголеватым? Окончив Киевскую гимназию, он едет учиться в Цюрих, поступает на философский факультет, слушает лекции Авенариуса, знакомится с Плехановым, путешествует по Франции и Италии, учит языки. Да, языки. Луначарский свободно говорил — и выступал — на английском, французском, немецком, испанском и итальянском. Как будто бы этого мало, он бегло читал по-латыни. По-латыни, Карл! Хочется спросить нынешних любителей рассказать про «большевистского хама»: как насчет Тацита в оригинале? Автор этих строк когда-то на филфаке перевел страницу не адаптированного Тацита; так вот докладываю: по сложности это сопоставимо с нормальной такой университетской алгеброй. А тут — свободно читал...
Что дальше? Вернулся в Россию, вел пропагандистскую работу в Москве. Арестован, выслан на пять лет. Калуга, Вологда, Тотьма — все более глухие углы, дальше и дальше от Москвы. Из Тотьмы нелегально возвращается в Москву, на съезде 1902 года примыкает к большевикам и почти сразу бежит за границу.
В жизни Луначарского будет еще один арест: в феврале 1917-го, когда он вернется в Петроград, примет участие в Первом Всероссийском съезде советов и сразу будет арестован Временным правительством, два месяца проведет в «Крестах». Других остросюжетных эпизодов в биографии наркома нет.
Приходится признать, что байопик из биографии Луначарского не сделаешь. Она не тянет ни на детектив, ни на роудмуви, ни на остросюжетный триллер, ни на любовную драму — ничего авантюрного, ничего приключенческого, ничего даже романтического.
Долгие годы в эмиграции — больше пятнадцати лет — чем был занят? Работал в редакциях большевистских газет — «Вперед», «Пролетарий», потом «Правда». Писал большие теоретические работы: «Основы позитивной эстетики», «Марксизм и эстетика», «Религия и социализм». Спорил, даже ругался и в пух и прах ссорился с Лениным на почве своего богоискательства и богостроительства. Нужно бы отдельное исследование о религиозных идеях Луначарского — но такого исследования нет; придется удовольствоваться общими словами о «коллективном боге, которого учредят массы», или что-то типа того, но что конкретно имеется в виду — никто с тех пор так и не разобрался.
Итак: ссорился с Лениным, дружил с Горьким, основал группу «Вперед», вышел из РСДРП, снова вступил в РСДРП. В первый же день советской власти был назначен наркомом просвещения (для тех, кто в танке: министром образования) и оставался им десять лет, до 1929 года. В 1930-м избран академиком РАН СССР. В 1933-м назначен послом в Испанию, но по дороге к новому месту службы заболел и во Франции умер.
Негусто. Остается заключить, что биография Луначарского сама по себе не объясняет ничего.
Почему его так любил Ленин? Как получилось, что он единственный из наркомов самого первого советского правительства провел на своей должности аж десять лет? Написал без малого тысячу статей — когда, блин, успел? Дружил с Роменом Ролланом, Бертольдом Брехтом, Гербертом Уэллсом, Бернардом Шоу и еще десятками других европейских интеллектуалов первой величины — что-то же в нем было такое, чтобы они с ним дружили? Златоуст, Цицерон — один из самых звездных ораторов эпохи; но просто так тысячи людей не будут слушать, как ты часами рассуждаешь о политике… Подобного рода вопросов — миллион. Наконец, какой-нибудь осванидженный историк расскажет вам, что Сталин избавлялся от старых большевиков и поэтому назначение в Испанию было формой почетной ссылки, но полно — через три года в Испании разразится гражданская война, которая примет форму прокси-войны СССР против фашистской Германии. Испания вот-вот станет главным направлением советской внешней политики; так может быть, в назначении туда послом Луначарского был другой смысл?
Когда говорят о Луначарском как о строителе художественной и культурной жизни раннего СССР, забывают о том, что культура вообще-то была второстепенным направлением его работы, а главным было образование — то есть, тупо, школы. Десятки тысяч школ, которых в стране не было и которые стране кровь из носу нужны были как можно скорее. А для них — десятки тысяч учителей. Которых тоже не было. Которых нужно было готовить в специальных педвузах. Которых тоже не было. А преподавателей для педвузов должны были готовить в университетах. Которых было кот наплакал. А над университетами стоит Академия наук. В которой все поголовно ненавидят правительство.
Большевики, напомним, приняли власть в стране, которая на 80% была безграмотная. Через сорок лет в космос полетит Гагарин и появится фраза про то, что Советский союз выиграл космическую гонку за школьной партой. Фраза приписывается Кеннеди и является фейком, но не враньем — а как еще? И если так, то, получается, заслуга тут не чья иная как Луначарского, ибо именно он — архитектор советской системы образования.
Ну и, наконец, культура. Да, Луначарский был еще и архитектором советской культуры. Пресловутый план монументальной пропаганды, из которого советская культура выросла, подписал Ленин, но реализовывал-то его Луначарский. Луначарский, который по меркам жестокого времени был настолько либерален, что друзья-большевики ласково называли его Васильевич Блаженный.
Культура, которой 26-го октября (ну или 8 ноября, как кому больше нравится) 1917-го принял руководство 42-летний человек в пенсне, с острой бородкой и с огромной, на полголовы лысиной — это прежде всего люди, и люди эти в подавляющем большинстве новую власть ненавидели. Нужно было привлечь их на свою сторону, найти и поддержать молодых, не растерять то, что есть, и придумать формы существования для нового. Пройти, как меж Сциллой и Харибдой, между окостенелым культурным консерватизмом — дайте искусство, понятное народу! — с одной стороны, и бескомпромиссным экспериментаторством юных авангардистов — сбросим Пушкина с парохода современности! — с другой. Как ему удалось это сделать?
А ведь все, о чем мы тут, на Арт-пропе, говорим — изобразительное искусство, театр, литература и книгоиздание, агитационный плакат, агитпоезда, декоративно-прикладное искусство, массовые праздники, творческие союзы, кино — все, вообще все — это Луначарский.
Анатолий Васильевич Луначарский, про которого мы, по сути, до сих пор ничего толком не знаем. У нас нет ни одной толковой книги, которая рассказывала бы о нем, объясняла бы его феномен, рисовала бы объемный портрет этого человека. Пустота.
Вадим Левенталь.
А. В. Луначарский. «Искусство и молодежь». Молодая Гвардия, 1929 г.
Однако уже второй взгляд упирается в тупик. А что мы, собственно, знаем о Луначарском? Что у нас есть?
Восемь томов собрания сочинений — но кто ж их читал?
ЖЗЛ-ка 1967 года некого Ёлкина. Кто такой? «Известен читателям по увлекательным книгам «Айсберги над нами», «Атомные уходят по тревоге», «Одна тропка из тысячи» и др.», — сообщает нам всеведущий Яндекс. «Дилетантизм и неряшливость», — припечатывает Н.А. Трифонов в «Новом мире». В топку.
ЖЗЛ-ка 2010 года Ю.Б. Борева. Открываем и не верим своим глазам: роман. «Ильич быстрым шагом подошел к Анатолию Васильевичу и, глядя с легким прищуром, сказал, немного картавя: — Проходите, батенька, только вас дожидаемся». Закрываем.
Дальше — специализированная литература. Пара десятков статей с названиями типа «Луначарский и…».
Итого, толковой книги о Луначарском в природе не существует.
Остается только миф о Луначарском, и от мифа этого несет перегаром перестроечного «Огонька». Декадентство с кровью пополам, прорвавшаяся к власти бездарь… Такой Луначарский, например, выведен в одном из романов Быкова (признан иноагентом). Что ж, был ли Луначарский талантливым драматургом? Ну, не был. Но ведь и романы самого Быкова, мягко говоря, далеко не шедевры…
Понятно, почему грантов на изучение жизни и творчества Луначарского не дают последние тридцать лет, но почему так мало было сделано в Советском Союзе — вопрос, на который нет ответа, можно только строить догадки.
Одно время у прогрессивных литературоведов было модно читать Лукача и ссылаться на него, но почему социологическая критика Луначарского — а он был видным для своего времени литературоведом, написал сотни статей — предана забвению? Правда ли, что там совершенно нечего почерпнуть современной науке о литературе? И на этот вопрос нет ответа.
Впрочем, и современной науки о литературе, кажется, нет. Была да сплыла. Пала то ли жертвой борьбы роковой, то ли жертвой ЕГЭ.
Между тем, вопросов масса. Кем был Луначарский в структуре партии большевиков? Каково его значение для строительства раннего Советского государства? Каков его вклад в разрушение старой культуры и становление новой? Полных, удовлетворительных ответов на эти вопросы до сих пор не существует, и едва ли эта небольшая заметка сможет их найти. Но может быть, можно попробовать хотя бы нащупать направления, где их можно искать.
Начать, ничего не поделаешь, придется с биографии — никакого другого достоверного знания у нас, как ни крути, нет.
Родился в 1875 году в Полтаве, внебрачный ребенок. Мать — дочь действительного статского советника Якова Павловича Ростовцева, отец — действительный статский советник Александр Иванович Антонов. Воспитывался в семье отчима, Василия Федоровича Чарнолуского, еще одного бастарда, дослужившегося, впрочем, до личного дворянства. От отчима взял отчество и, с перестановкой слогов, фамилию.
Кого именно, отца или отчима, называет «радикально настроенным чиновником» Краткая литературная энциклопедия, бог весть, но во всяком случае марксизмом будущий нарком увлекся еще подростком. В 17 лет он уже вовсю агитировал рабочих-железнодорожников.
В конце жизни, перед назначением послом в Испанию, Луначарский должен будет заполнить анкету, в которой среди прочих будет вопрос: с какого года в партии? Вопрос окажется не таким уж банальным. «Со дня основания», — напишет Луначарский, и в самом деле: с 1895-го, сообщает КЛЭ, при том, что годом основания РСДРП вообще-то считается 1898-й. Если принять дату из энциклопедии, Луначарскому было 20 лет.
С фотографии этого времени на нас смотрит симпатичный щеголеватый молодой человек: усики, галстук, пробор, пенсне. А чего бы ему не быть щеголеватым? Окончив Киевскую гимназию, он едет учиться в Цюрих, поступает на философский факультет, слушает лекции Авенариуса, знакомится с Плехановым, путешествует по Франции и Италии, учит языки. Да, языки. Луначарский свободно говорил — и выступал — на английском, французском, немецком, испанском и итальянском. Как будто бы этого мало, он бегло читал по-латыни. По-латыни, Карл! Хочется спросить нынешних любителей рассказать про «большевистского хама»: как насчет Тацита в оригинале? Автор этих строк когда-то на филфаке перевел страницу не адаптированного Тацита; так вот докладываю: по сложности это сопоставимо с нормальной такой университетской алгеброй. А тут — свободно читал...
Что дальше? Вернулся в Россию, вел пропагандистскую работу в Москве. Арестован, выслан на пять лет. Калуга, Вологда, Тотьма — все более глухие углы, дальше и дальше от Москвы. Из Тотьмы нелегально возвращается в Москву, на съезде 1902 года примыкает к большевикам и почти сразу бежит за границу.
В жизни Луначарского будет еще один арест: в феврале 1917-го, когда он вернется в Петроград, примет участие в Первом Всероссийском съезде советов и сразу будет арестован Временным правительством, два месяца проведет в «Крестах». Других остросюжетных эпизодов в биографии наркома нет.
Приходится признать, что байопик из биографии Луначарского не сделаешь. Она не тянет ни на детектив, ни на роудмуви, ни на остросюжетный триллер, ни на любовную драму — ничего авантюрного, ничего приключенческого, ничего даже романтического.
Долгие годы в эмиграции — больше пятнадцати лет — чем был занят? Работал в редакциях большевистских газет — «Вперед», «Пролетарий», потом «Правда». Писал большие теоретические работы: «Основы позитивной эстетики», «Марксизм и эстетика», «Религия и социализм». Спорил, даже ругался и в пух и прах ссорился с Лениным на почве своего богоискательства и богостроительства. Нужно бы отдельное исследование о религиозных идеях Луначарского — но такого исследования нет; придется удовольствоваться общими словами о «коллективном боге, которого учредят массы», или что-то типа того, но что конкретно имеется в виду — никто с тех пор так и не разобрался.
Итак: ссорился с Лениным, дружил с Горьким, основал группу «Вперед», вышел из РСДРП, снова вступил в РСДРП. В первый же день советской власти был назначен наркомом просвещения (для тех, кто в танке: министром образования) и оставался им десять лет, до 1929 года. В 1930-м избран академиком РАН СССР. В 1933-м назначен послом в Испанию, но по дороге к новому месту службы заболел и во Франции умер.
Негусто. Остается заключить, что биография Луначарского сама по себе не объясняет ничего.
Почему его так любил Ленин? Как получилось, что он единственный из наркомов самого первого советского правительства провел на своей должности аж десять лет? Написал без малого тысячу статей — когда, блин, успел? Дружил с Роменом Ролланом, Бертольдом Брехтом, Гербертом Уэллсом, Бернардом Шоу и еще десятками других европейских интеллектуалов первой величины — что-то же в нем было такое, чтобы они с ним дружили? Златоуст, Цицерон — один из самых звездных ораторов эпохи; но просто так тысячи людей не будут слушать, как ты часами рассуждаешь о политике… Подобного рода вопросов — миллион. Наконец, какой-нибудь осванидженный историк расскажет вам, что Сталин избавлялся от старых большевиков и поэтому назначение в Испанию было формой почетной ссылки, но полно — через три года в Испании разразится гражданская война, которая примет форму прокси-войны СССР против фашистской Германии. Испания вот-вот станет главным направлением советской внешней политики; так может быть, в назначении туда послом Луначарского был другой смысл?
Когда говорят о Луначарском как о строителе художественной и культурной жизни раннего СССР, забывают о том, что культура вообще-то была второстепенным направлением его работы, а главным было образование — то есть, тупо, школы. Десятки тысяч школ, которых в стране не было и которые стране кровь из носу нужны были как можно скорее. А для них — десятки тысяч учителей. Которых тоже не было. Которых нужно было готовить в специальных педвузах. Которых тоже не было. А преподавателей для педвузов должны были готовить в университетах. Которых было кот наплакал. А над университетами стоит Академия наук. В которой все поголовно ненавидят правительство.
Большевики, напомним, приняли власть в стране, которая на 80% была безграмотная. Через сорок лет в космос полетит Гагарин и появится фраза про то, что Советский союз выиграл космическую гонку за школьной партой. Фраза приписывается Кеннеди и является фейком, но не враньем — а как еще? И если так, то, получается, заслуга тут не чья иная как Луначарского, ибо именно он — архитектор советской системы образования.
Ну и, наконец, культура. Да, Луначарский был еще и архитектором советской культуры. Пресловутый план монументальной пропаганды, из которого советская культура выросла, подписал Ленин, но реализовывал-то его Луначарский. Луначарский, который по меркам жестокого времени был настолько либерален, что друзья-большевики ласково называли его Васильевич Блаженный.
Культура, которой 26-го октября (ну или 8 ноября, как кому больше нравится) 1917-го принял руководство 42-летний человек в пенсне, с острой бородкой и с огромной, на полголовы лысиной — это прежде всего люди, и люди эти в подавляющем большинстве новую власть ненавидели. Нужно было привлечь их на свою сторону, найти и поддержать молодых, не растерять то, что есть, и придумать формы существования для нового. Пройти, как меж Сциллой и Харибдой, между окостенелым культурным консерватизмом — дайте искусство, понятное народу! — с одной стороны, и бескомпромиссным экспериментаторством юных авангардистов — сбросим Пушкина с парохода современности! — с другой. Как ему удалось это сделать?
А ведь все, о чем мы тут, на Арт-пропе, говорим — изобразительное искусство, театр, литература и книгоиздание, агитационный плакат, агитпоезда, декоративно-прикладное искусство, массовые праздники, творческие союзы, кино — все, вообще все — это Луначарский.
Анатолий Васильевич Луначарский, про которого мы, по сути, до сих пор ничего толком не знаем. У нас нет ни одной толковой книги, которая рассказывала бы о нем, объясняла бы его феномен, рисовала бы объемный портрет этого человека. Пустота.
Вадим Левенталь.
А. В. Луначарский. «Искусство и молодежь». Молодая Гвардия, 1929 г.
Почему Малевич?
В искусстве бывают фигуры консенсусные: вряд ли кому-то всерьез придет в голову оспаривать величие Чехова, Коровина или Шостаковича. Бывают фигуры спорные: нет-нет да слышится ворчание: проза Пастернака переоценена, стихи Белого устарели, Танеев, конечно, велик, но все-таки далеко не Прокофьев… Говорится это спокойно, споры об этом ведутся уважительно. Но бывают фигуры, несущие в себе потенциал холивара. Тот, кто уверен, что Набоков бездуховная пустышка, и тот, для кого Набоков величайший русский писатель, — скорее выбьют друг другу зубы, чем о чем-то договорятся. Довлатов — тончайший стилист или мелочный бытописатель? Такие вопросы вызывают мгновенный бугурт по обе стороны баррикад.
И к таким фигурам относится, безусловно, Малевич. Гений или шарлатан? До взрыва 3… 2… 1…
Удивительным образом, как мы постараемся показать, для разговора о влиянии Малевича на искусство раннесоветской пропаганды — ответ на этот вопрос не имеет принципиального значения.
Не принципиально, был Малевич гением или шарлатаном, хотел он того или нет, задумывал или так случайно получилось — он создал язык для раннесоветского изобразительного искусства. Сначала для него — а потом и для всего мирового искусства.
Впрочем, как не задумывал, как не хотел. Конечно, и задумывал, и хотел. Только вот что именно?
«А может, я буду патриарх какой-нибудь новой религии?» — однажды сказал совсем юный Малевич в дружеском кругу.
Как будто бы странное заявление для простого паренька из украинской глубинки без всякого образования. Ну да, формально отец из древнего польского шляхетского рода, но род успел обеднеть и опуститься: работать управляющим на сахарном производстве — такое себе для гордого потомка крылатых гусар. Нищета, с детства и до самой смерти — беспросветная, унизительная нищета — тоже, знаете ли, не способствует.
И все же: я буду патриарх новой религии — не слабо? Но это только на взгляд из нашей ироничной эпохи. Для начала двадцатого мессианство так же естественно, как тотальные хиханьки да хаханьки, котики и мемасики — для начала двадцать первого. Оно было разлито в воздухе. Маяковский хватал бога за бороду в стихах и раскатывал его отсюда до Аляски, а Рерих, тот и в самом деле основал новую религию, и это только два первых примера, которые тут же приходят на ум, в действительности примерами можно сыпать и сыпать. Коротко говоря, новую религию не основывал только ленивый, это самый популярный стартап для начала двадцатого.
Так что мессианство в юном Малевиче не удивляет. Удивляет другое — упорство, с которым он взялся за это дело и с которым положил на него всю жизнь.
Он ведь не был вундеркиндом. То есть способности, безусловно, были — рисовать начал подростком, тут же сблизился с кругом кое-каких художников, были даже какие-то выставки, но все это там, в украинской глубинке. А приехав в Москву, три раза пытался поступить в МУЖВЗ и не поступил. Не хватало техники рисунка. Не Моцарт, в общем.
И тем не менее — самообразование, упорный труд и аскеза. На фоне самой крайней нищеты. Трудно оправдать человека, который бросает жену с маленькими детьми самим искать себе пропитание, потому что такой вот я великий творец и мне надо работать над собой, а не зарабатывать какие-то там деньги, — но если Малевича тут что-то и оправдывает, то именно одновременно с этим взятая на себя аскеза. Ни развлечений, ни мелких радостей жизни, ни бытового комфорта — лишь труд, рисование с утра до вечера на голодный желудок.
Долгая практика, годы тренировок — что-то путное у Малевича выйдет только через десять лет такой жизни.
Вот первое, что нужно человеку, который решил стать пророком — полное самоотречение. Оставь дом, жену и детей (там вообще-то длинный список) — безжалостность к близким, но и к себе тоже. Дальше, понятно, труд — испепеляющий, фанатичный, не оставляющий места ничему другому.
Что еще? Ну конечно, священное писание. Ждал ли Малевич момента или вдруг в какой-то момент спохватился — никогда раньше ведь ничего не писал, кроме писем — но с середины десятых, под сорок лет, он вдруг начинает неистово сочинять, разъясняя идеи и принципы своего творчества, и написал аж пять томов.
И вот тут, может быть, ключевой вопрос: было ли ему важно, пророком какой именно новой религии стать? То есть в автобиографии он, конечно, расскажет, что супрематистом был с детства, но камон — если с детства, то зачем тогда вот это вот все? Зачем было становиться сначала реалистом, потом импрессионистом, сезаннистом, и дальше кубистом, футуристом, кубофутуристом, черта в ступе кем еще, чтобы только потом, к сорока годам придти к этому самому супрематизму обратно? Очевидное лукавство.
Больше похоже на другое. Похоже на то, что Малевич два десятка лет нащупывал, лихорадочно искал, где бы найти что-то такое совершенно новое, чтобы с потенциалом мгновенной классики, с потрясением основ, с мировым значением. И вот когда после долгих лет поисков нашел «Черный квадрат», сразу понял: оно.
Впрочем, тут же оказалось, что что-то такое одновременно нашли или почти нашли и другие художники по соседству, так что Малевичу приходится зубами вырывать свое первенство. Истерические письма организаторам выставок, мутные интриги, лихая передатировка картин, сотни страниц зубодробительных теоретических рассуждений — все идет в ход. Вырвал.
Застолбил, воткнул флажок, написал: супрематизм. Трудно отделаться от ощущения, что первое тут важнее второго, сама интенция застолбить — важнее надписи на табличке. Не было бы супрематизма — что-нибудь другое тоже сошло бы.
Что еще нужно пророку? Ну само собой — ученики. Школа, последователи. Без тридцати трех богатырей дядька Черномор на фиг никому не сдался.
И Малевич многие годы сознательно строит вокруг себя школу. В Москве, в Витебске, в Киеве, в Петрограде. Формально и не формально. Под крылом у новой власти или под ее пятой. Все это дело десятое. Важно другое — железная дисциплина, абсолютная преданность, не рассуждающее следование канону.
И вот, курочка по зернышку клюет, понемногу апостолами учениками и ученицами Малевича оказалась практически вся та молодая шпана, которая вот-вот сотрет с лица земли отжившее искусство прошлого и станет строить искусство первого в мире государства рабочих и крестьян.
Вот лишь неполный список: Александра Экстер, Ольга Розанова, Любовь Попова, Мстислав Юркевич, Эль Лисицкий, Илья Чашник, Лазарь Хидекель, Нина Коган, Лев Юдин, Эфраим Волхонский, Николай Суетин, Анна Лепорская, Константин Рождественский и все-все-все. Никто из них не стал великим живописцем, но все стали архитекторами, дизайнерами, плакатистами, графиками, иллюстраторами, художниками по фарфору, художниками по тканям и далее везде.
Есть фотография 1926 года, на ней Малевич в костюме-тройке в пол-оборота сидит за заваленным бумагами столом. Рука лежит на документах, другая на подлокотнике, массивная голова покоится на короткой шее, взгляд исподлобья, прямой пробор — канонический образ строгого, но справедливого советского начальника. Тут он — директор ГИНХУКа, недолго просуществовавшего Института живописи, наподобие Института русской литературы, например. Видно, что ему нравится быть начальником, легко представить, как он остается таким начальником до конца своих дней. Он, к слову, легко мог сказать что-нибудь на коммунистическом, «Введение в теорию прибавочного элемента в живописи» называлась одна из его работ, что бы это ни значило. На идеологию нового советского государства ему было плевать. Проблема была в том, что его собственный проект искусства не умещался на одном поле с глобальным советским проектом, как не уместился бы с любым другим — должен был остаться только один. С его точки зрения, Советская страна должна была стать супрематической, с точки зрения Страны советов, супрематизм — советским. Конец был немного предсказуем. Малевич умер от рака в нищете. А советское искусство взяло на вооружение его изобретение.
И вот мы подошли к главному. Не имеет значения, верим ли мы в то, что супрематизм — это явленная Истина, или в то, что Малевич — Остап Бендер от живописи. Создавая новую религию, ну или проворачивая аферу века, не важно — Малевич попутно, кажется, сам того не очень заметив, создал сам базовый алфавит для искусства новой эпохи. Ведь что такое черный квадрат? А заодно и черный круг, черный крест, красный круг и так далее? Это прежде всего элементарная форма, буква алфавита, из которого дальше уже можно составлять любые фразы.
Может ли алфавит нести идеологический заряд? Ну, конечно. Достаточно вспомнить, как кириллица — аз буки веди, глагол добро есть и т.д. — несла с собой идеологию христианства. Достаточно посмотреть, как нынче в небратских странах то и дело кричат о переходе на латиницу. И может, и всегда несёт.
Малевич думал, что изобретает религию, а изобрел алфавит (подобным образом Декарт изобретал оси x и y, чтобы доказать бытие божье, а попутно создал систему координат для мировой математики вообще). И этот алфавит нес собственную идеологию. Идеологию, в которой человек утверждает себя в мире, опираясь только на собственное самостояние, без поддержки бога и традиции. «Бог умер, это вы его убили!» — не зря же Малевич всю жизнь был ницшеанцем. Одним словом, идеологию авангарда. И именно поэтому он был так легко тут же подхвачен всем мировым авангардом. Раннее советское государство тут лишь частный случай авангардного проекта.
Малевич сам показал, как легко пользоваться этим алфавитом практически где угодно. Квадраты, круги, треугольники, кресты — лишь детали конструктора. Он успел и поработать на ЛФЗ над росписями, и там же — над новыми формами чашек и чайников. Расписывал агитпоезда и агитрамваи, создавал архитектоны — абстрактные идеи для конкретной архитектуры будущего, — рисовал плакаты, как минимум для собственных выставок, оформлял спектакли и так далее и тому подобное. Новый алфавит мог работать везде. Квадраты, круги, треугольники — соединяй их в любом порядке.
Советская пропаганда первая показала, как успешно работает изобретение Малевича. И для того, чтобы признать это, совершенно не обязательно верить в то, что супрематизм мистическим образом явил миру последнюю Истину. Не явил. Как говорится в старинном анекдоте, грех большой, а изобретение замечательное.
Вадим Левенталь.
И к таким фигурам относится, безусловно, Малевич. Гений или шарлатан? До взрыва 3… 2… 1…
Удивительным образом, как мы постараемся показать, для разговора о влиянии Малевича на искусство раннесоветской пропаганды — ответ на этот вопрос не имеет принципиального значения.
Не принципиально, был Малевич гением или шарлатаном, хотел он того или нет, задумывал или так случайно получилось — он создал язык для раннесоветского изобразительного искусства. Сначала для него — а потом и для всего мирового искусства.
Впрочем, как не задумывал, как не хотел. Конечно, и задумывал, и хотел. Только вот что именно?
«А может, я буду патриарх какой-нибудь новой религии?» — однажды сказал совсем юный Малевич в дружеском кругу.
Как будто бы странное заявление для простого паренька из украинской глубинки без всякого образования. Ну да, формально отец из древнего польского шляхетского рода, но род успел обеднеть и опуститься: работать управляющим на сахарном производстве — такое себе для гордого потомка крылатых гусар. Нищета, с детства и до самой смерти — беспросветная, унизительная нищета — тоже, знаете ли, не способствует.
И все же: я буду патриарх новой религии — не слабо? Но это только на взгляд из нашей ироничной эпохи. Для начала двадцатого мессианство так же естественно, как тотальные хиханьки да хаханьки, котики и мемасики — для начала двадцать первого. Оно было разлито в воздухе. Маяковский хватал бога за бороду в стихах и раскатывал его отсюда до Аляски, а Рерих, тот и в самом деле основал новую религию, и это только два первых примера, которые тут же приходят на ум, в действительности примерами можно сыпать и сыпать. Коротко говоря, новую религию не основывал только ленивый, это самый популярный стартап для начала двадцатого.
Так что мессианство в юном Малевиче не удивляет. Удивляет другое — упорство, с которым он взялся за это дело и с которым положил на него всю жизнь.
Он ведь не был вундеркиндом. То есть способности, безусловно, были — рисовать начал подростком, тут же сблизился с кругом кое-каких художников, были даже какие-то выставки, но все это там, в украинской глубинке. А приехав в Москву, три раза пытался поступить в МУЖВЗ и не поступил. Не хватало техники рисунка. Не Моцарт, в общем.
И тем не менее — самообразование, упорный труд и аскеза. На фоне самой крайней нищеты. Трудно оправдать человека, который бросает жену с маленькими детьми самим искать себе пропитание, потому что такой вот я великий творец и мне надо работать над собой, а не зарабатывать какие-то там деньги, — но если Малевича тут что-то и оправдывает, то именно одновременно с этим взятая на себя аскеза. Ни развлечений, ни мелких радостей жизни, ни бытового комфорта — лишь труд, рисование с утра до вечера на голодный желудок.
Долгая практика, годы тренировок — что-то путное у Малевича выйдет только через десять лет такой жизни.
Вот первое, что нужно человеку, который решил стать пророком — полное самоотречение. Оставь дом, жену и детей (там вообще-то длинный список) — безжалостность к близким, но и к себе тоже. Дальше, понятно, труд — испепеляющий, фанатичный, не оставляющий места ничему другому.
Что еще? Ну конечно, священное писание. Ждал ли Малевич момента или вдруг в какой-то момент спохватился — никогда раньше ведь ничего не писал, кроме писем — но с середины десятых, под сорок лет, он вдруг начинает неистово сочинять, разъясняя идеи и принципы своего творчества, и написал аж пять томов.
И вот тут, может быть, ключевой вопрос: было ли ему важно, пророком какой именно новой религии стать? То есть в автобиографии он, конечно, расскажет, что супрематистом был с детства, но камон — если с детства, то зачем тогда вот это вот все? Зачем было становиться сначала реалистом, потом импрессионистом, сезаннистом, и дальше кубистом, футуристом, кубофутуристом, черта в ступе кем еще, чтобы только потом, к сорока годам придти к этому самому супрематизму обратно? Очевидное лукавство.
Больше похоже на другое. Похоже на то, что Малевич два десятка лет нащупывал, лихорадочно искал, где бы найти что-то такое совершенно новое, чтобы с потенциалом мгновенной классики, с потрясением основ, с мировым значением. И вот когда после долгих лет поисков нашел «Черный квадрат», сразу понял: оно.
Впрочем, тут же оказалось, что что-то такое одновременно нашли или почти нашли и другие художники по соседству, так что Малевичу приходится зубами вырывать свое первенство. Истерические письма организаторам выставок, мутные интриги, лихая передатировка картин, сотни страниц зубодробительных теоретических рассуждений — все идет в ход. Вырвал.
Застолбил, воткнул флажок, написал: супрематизм. Трудно отделаться от ощущения, что первое тут важнее второго, сама интенция застолбить — важнее надписи на табличке. Не было бы супрематизма — что-нибудь другое тоже сошло бы.
Что еще нужно пророку? Ну само собой — ученики. Школа, последователи. Без тридцати трех богатырей дядька Черномор на фиг никому не сдался.
И Малевич многие годы сознательно строит вокруг себя школу. В Москве, в Витебске, в Киеве, в Петрограде. Формально и не формально. Под крылом у новой власти или под ее пятой. Все это дело десятое. Важно другое — железная дисциплина, абсолютная преданность, не рассуждающее следование канону.
И вот, курочка по зернышку клюет, понемногу апостолами учениками и ученицами Малевича оказалась практически вся та молодая шпана, которая вот-вот сотрет с лица земли отжившее искусство прошлого и станет строить искусство первого в мире государства рабочих и крестьян.
Вот лишь неполный список: Александра Экстер, Ольга Розанова, Любовь Попова, Мстислав Юркевич, Эль Лисицкий, Илья Чашник, Лазарь Хидекель, Нина Коган, Лев Юдин, Эфраим Волхонский, Николай Суетин, Анна Лепорская, Константин Рождественский и все-все-все. Никто из них не стал великим живописцем, но все стали архитекторами, дизайнерами, плакатистами, графиками, иллюстраторами, художниками по фарфору, художниками по тканям и далее везде.
Есть фотография 1926 года, на ней Малевич в костюме-тройке в пол-оборота сидит за заваленным бумагами столом. Рука лежит на документах, другая на подлокотнике, массивная голова покоится на короткой шее, взгляд исподлобья, прямой пробор — канонический образ строгого, но справедливого советского начальника. Тут он — директор ГИНХУКа, недолго просуществовавшего Института живописи, наподобие Института русской литературы, например. Видно, что ему нравится быть начальником, легко представить, как он остается таким начальником до конца своих дней. Он, к слову, легко мог сказать что-нибудь на коммунистическом, «Введение в теорию прибавочного элемента в живописи» называлась одна из его работ, что бы это ни значило. На идеологию нового советского государства ему было плевать. Проблема была в том, что его собственный проект искусства не умещался на одном поле с глобальным советским проектом, как не уместился бы с любым другим — должен был остаться только один. С его точки зрения, Советская страна должна была стать супрематической, с точки зрения Страны советов, супрематизм — советским. Конец был немного предсказуем. Малевич умер от рака в нищете. А советское искусство взяло на вооружение его изобретение.
И вот мы подошли к главному. Не имеет значения, верим ли мы в то, что супрематизм — это явленная Истина, или в то, что Малевич — Остап Бендер от живописи. Создавая новую религию, ну или проворачивая аферу века, не важно — Малевич попутно, кажется, сам того не очень заметив, создал сам базовый алфавит для искусства новой эпохи. Ведь что такое черный квадрат? А заодно и черный круг, черный крест, красный круг и так далее? Это прежде всего элементарная форма, буква алфавита, из которого дальше уже можно составлять любые фразы.
Может ли алфавит нести идеологический заряд? Ну, конечно. Достаточно вспомнить, как кириллица — аз буки веди, глагол добро есть и т.д. — несла с собой идеологию христианства. Достаточно посмотреть, как нынче в небратских странах то и дело кричат о переходе на латиницу. И может, и всегда несёт.
Малевич думал, что изобретает религию, а изобрел алфавит (подобным образом Декарт изобретал оси x и y, чтобы доказать бытие божье, а попутно создал систему координат для мировой математики вообще). И этот алфавит нес собственную идеологию. Идеологию, в которой человек утверждает себя в мире, опираясь только на собственное самостояние, без поддержки бога и традиции. «Бог умер, это вы его убили!» — не зря же Малевич всю жизнь был ницшеанцем. Одним словом, идеологию авангарда. И именно поэтому он был так легко тут же подхвачен всем мировым авангардом. Раннее советское государство тут лишь частный случай авангардного проекта.
Малевич сам показал, как легко пользоваться этим алфавитом практически где угодно. Квадраты, круги, треугольники, кресты — лишь детали конструктора. Он успел и поработать на ЛФЗ над росписями, и там же — над новыми формами чашек и чайников. Расписывал агитпоезда и агитрамваи, создавал архитектоны — абстрактные идеи для конкретной архитектуры будущего, — рисовал плакаты, как минимум для собственных выставок, оформлял спектакли и так далее и тому подобное. Новый алфавит мог работать везде. Квадраты, круги, треугольники — соединяй их в любом порядке.
Советская пропаганда первая показала, как успешно работает изобретение Малевича. И для того, чтобы признать это, совершенно не обязательно верить в то, что супрематизм мистическим образом явил миру последнюю Истину. Не явил. Как говорится в старинном анекдоте, грех большой, а изобретение замечательное.
Вадим Левенталь.
Искусство маскировки
«Охотный ряд с его неказистыми, пропахшими рыбой палатками нельзя узнать. В два ряда выстроились расписные, игрушечные домики с палисадниками и
наивными желтыми подсолнечниками. Сквер перед Большим театром каким-то волшебством превращен в сад Черномора — деревья окутаны кисеей лиловатого оттенка. Окрашенные дорожки кажутся залитыми лунным светом. По всей площади протянута в несколько рядов красная бахрома, развеваемая ветром.» - писала газета „Известия ВЦИК“ 9 ноября 1918 г. Москва, как и Петроград в первую годовщину Октября превратилась во «всенародную выставку», над экспонатами которой работали целые бригады художников, скульпторов, режиссеров массовых действий. Общая идея, разработанная секцией искусств отдела народного образования Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов о художественном оформлении города к I годовщине Октября, заключалась в демонстрация мощи пролетарской власти и мощи пролетарского духа. И центр Москвы должен был стать местом кульминационного пункта торжества. Искусство вырвалось из музеев и мастерских на улицы к народу.
Агитационное оформление Театральной площади было отдано Ивану Васильевичу Клюну, соратнику Казимира Малевича и в тот момент страстному поклоннику супрематизма (от обоих своих любовей он откажется в том же году). В. Клюном было сделано несколько проектов оформления сквера на Театральной площади, но само декорирование выполнялось целым коллективом. В том числе в работе участвовал Н.М. Кочергин, знакомый всем советским детям по книжным иллюстрациям, в первую очередь по «Коньку-горбунку». В 1918 году Кочергин поступил добровольцем в Красную армию и был направлен в высшую школу военной маскировки (ВШВМ). Во время подготовки к празднику вместе с другими живописцами из той же школы он окрашивал из пульверизатора в голубой цвет дорожки перед Большим театром и окутанные марлей деревья, внутри которых по вечерам зажигались электрические лампочки, превращавшие их в светящиеся голубые шары. Домики с палисадниками в Охотном ряду и сказочные птицы на деревьях появились благодаря брату и сестре Алексеевым. Иван Викторович Алексеев, участник объединений «Мир искусства», «Свободное творчество», в будущем сценограф, театральный художник, так же, как и его сестра Ольга Викторовна, тогда тоже проходили обучение в Высшей школе военной маскировки. С одной стороны эпические птицы и сады Черномора, а с другой военные курсы и камуфляж? Или организаторам понадобились услуги реальных профессионалов, чтобы замаскировать город, пребывающий тогда в тяжелом и нищем состоянии под сказочный светлый коммунистический рай?
По итогам Первой мировой войны стало понятно, что нашей армии необходимо усилить разработки в сфере маскировки. В 1918 году, в рамках образования курсов по усовершенствованию командного состава, была основана ВШВМ. Основная деятельность сосредоточилась на исследовании опыта Первой мировой войны в области применения маскировки и организации маскировочных работ. 26 июля 1918 года приказом московского Окружного комиссариата по военным делам были взяты на учет все подлежащие отбытию военной службы художники, которые направлялись в ВШВМ для прохождения курса образования на Поварскую улицу и в Кунцево. Ее основателями стали бывшие офицеры императорской армии, братья Николай и Алексей Сучковы, с 1914 года служившие под руководством начальника инженеров Юго-Западного фронта генерала К.И. Величко, русского и советского военного инженера. Первую подобную школу братья учредили еще в 1916 году, она успешно функционировала до конца 1917 года и стала прообразом ВШВМ. Осенью 1919 года отдававшие все свои силы на создание «могучего средства борьбы – военной маскировки» (слова самого Николая Николаевича) Сучковы были арестованы ВЧК за участие в организации Национального Центра.
Самым главным демаскирующим признаком военного объекта от окружающего фона является его цветовое отличие. В связи с массовым применением огневых средств в войнах для маскировки объектов стали применять окраску, известную нам, как «хаки» - зеленый цвет землистого оттенка. Но одного защитного цвета оказалось недостаточно, если речь идет о подвижной материальной части, проецирующейся на различный фон. Эффект неузнаваемости достигался в результате слияния с фоном некоторых пятен окраски, по своему цвету близких к преобладающей окраске фона. Впервые многоцветная окраска в виде чередующихся крупных пятен появилась во французской армии и дальше совершенствовалась, в том числе силами слушателей ВШВМ в Советском союзе.
Логично, что работами по камуфляжу танковых войск занялся в 20-ых влюбленный в футуризм художник, дизайнер и фотограф Александр Родченко. Чередующиеся пятна, наложение цвета раздельными мазками – всё это делает камуфляж видом пуантилизма. Известно, что мастера авангарда, коим безусловно являлся Родченко, любили прибегать к этому методу живописи, футуристы видели в нем один из способов передачи стремительного движения, «всемирной вибрации», рассыпающей мир на мельчайшие частицы.
Советские танки по проекту Родченко имели двухцветный камуфляж – светло-зеленые пятна по темно-зеленому фону – модели МК V, МК В и «Рено».
Однако, одним из создателей нашей маскировочной школы считается вовсе не художник, а великий представитель русской психологии, один из основателей дифференциальной психологии Борис Михайлович Теплов. Во время учебы в Психологическом институте при Московском университете Теплов воевал на фронтах Первой мировой войны, затем был призван в Красную армию, и в 1919 году поступил в ВШВМ. До 1933 года Борис Михайлович исследовал проблемы военной маскировки в разных научных учреждениях КА. В 1926 году выходит статья Теплова «Психология как основа маскировочной техники». Его поиск решений проблем в сфере маскировки с научной точки зрения привел его к исследованию экспериментальных законов ощущений и восприятия. В 1927-1928 годах Борис Михайлович публикует итоги своих исследований пространственных изменений формы и цвета объектов, в том числе статьи «Описание процесса деформации контура краской», «Из наблюдений за изменением цвета при удалении». В них Теплов выводит такие закономерности трансформации цвета на расстоянии, как неразличимость оранжевого и красного цветов, относительная устойчивость зеленого цвета, потемнение фиолетового и синего.
Кстати, дивионизм, второе название пуантилизма – как и дифференциальная (психология) – происходят от французского и английского слов, обозначающих одно и тоже – разделение. Что делает Теплова своеобразным пуантилистом от психологии. Следовательно, и обратное, делает футуристов - представителями русской школы психологии. И все эти люди занимались проблемами маскировки для советской армии. По сути - оптической иллюзией. Все жили в непрекращающихся вооруженных конфликтах с чужими и сами с собой, сожительствовали со смертью, видели смерть, знали ее, и знали, насколько важна в этом деле маскировка. Как художник авангардист Евгений Баранов-Россине, закрывшим – «скрывшим» - своими панно Знаменскую площадь в Петрограде на Первомай 1918 и он же запатентовал во Франции в 1939 году «пуантилистически-динамичный камуфляж», он же — хамелеон-метод, то есть ту самую пятнистую военную форму, которую мы все знаем.
«Красноармейцы не боятся выстрелов врага. Они наступают врассыпную, ползут по земле, перебегают и прячутся за каждый бугорок. Враг их не видит. Они в закамуфлированных халатах.
От страшных бомб, от тяжелых снарядов и разрывных пуль красноармейцев защищают зеленые ветки, раскрашенные тряпки да мочалки.» – В.А.Тамби. Маскировка.» (Текст Былиева, 1930 год.)
Владимир Александрович Тамби – художник-иллюстратор – среди множества книг, в которых он знакомил детей с технической стороной мира, в основном с разнообразными машинами, в том числе танками, подводными лодками, самолетами, в 1930 году выпустил авторскую книжку о камуфляже. Ученик известного всем советским и русским читающим детям художника Владимира Васильевича Лебедева, Тамби запечатывал цветом фон страницы и населял эту среду своими любимыми механизмами. «Производственная» книга «Камуфляж», учитывая эту технику автора, получилась камуфляжем сама по себе – начиная от обложки, заканчивая деталями. Во время войны, в блокадном Ленинграде Владимир Александрович внесет свой вклад в фонд советского антифашистского плаката. Будучи членом группы «Боевой карандаш» он станет автором: «Новогодняя ёлка у белофинского волка» (1940; с другими художники), «Как два партизанских отряда били фашистского гада», «Разгром мотомеханизированного отряда фашистов» (1941), «Не будут крылья черные над Родиной летать!» (оба –1941; с Ю. Н. Петровым), «Умей распознавать врага – храни родные берега» (1941), «Эпизоды Отечественной войны» (1941; с В. А. Кобелевым).
А тряпки да мочалки, упомянутые в детской книжке впервые были представлены колонной слушателей ВШВМ на майской демонстрации в 1925 году. По Красной площади прошли люди в маскплащах из сетки или ткани, в которые были вплетены пучки мочала, а также в летних маскхалатах с камуфлирующим рисунком и в однотонном варианте.
Символично, что драпировкой кораблей и людей занимались, по сути, те же люди, что и драпировкой красными стягами с портретами вождей зданий, улиц, площадей и городов. Для войны и для праздника. Но были и те, кто, будучи классиками уже при жизни, держались иной точки зрения и опоры при своей работе над теми первыми праздниками молодой страны, в тяжелых изматывающих условиях пытающейся сломать всё старое, или хотя бы прикрыть масштабными холстами художников великую архитектуру Петербурга.
„Я поставил себе задачу изменить исторически создавшийся облик площади. Превратить ее в место, куда революционный народ пришел праздновать свою победу. Я не стал украшать ее. Творения Растрелли и Росси не нуждались в украшениях. Красоте императорской России я хотел противопоставить новую красоту победившего народа. Не гармонии со старым я искал, а контраст ему. Свои конструкции я ставил не на зданиях, а между ними…» - это слова о своём видении концепции оформления вверенной ему Дворцовой площади Петрограда в первую годовщину Октября Натана Альтмана. Не только великого живописца, но и, как водится у авангардистов- прекрасного психолога.
Мария Мальцева.
наивными желтыми подсолнечниками. Сквер перед Большим театром каким-то волшебством превращен в сад Черномора — деревья окутаны кисеей лиловатого оттенка. Окрашенные дорожки кажутся залитыми лунным светом. По всей площади протянута в несколько рядов красная бахрома, развеваемая ветром.» - писала газета „Известия ВЦИК“ 9 ноября 1918 г. Москва, как и Петроград в первую годовщину Октября превратилась во «всенародную выставку», над экспонатами которой работали целые бригады художников, скульпторов, режиссеров массовых действий. Общая идея, разработанная секцией искусств отдела народного образования Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов о художественном оформлении города к I годовщине Октября, заключалась в демонстрация мощи пролетарской власти и мощи пролетарского духа. И центр Москвы должен был стать местом кульминационного пункта торжества. Искусство вырвалось из музеев и мастерских на улицы к народу.
Агитационное оформление Театральной площади было отдано Ивану Васильевичу Клюну, соратнику Казимира Малевича и в тот момент страстному поклоннику супрематизма (от обоих своих любовей он откажется в том же году). В. Клюном было сделано несколько проектов оформления сквера на Театральной площади, но само декорирование выполнялось целым коллективом. В том числе в работе участвовал Н.М. Кочергин, знакомый всем советским детям по книжным иллюстрациям, в первую очередь по «Коньку-горбунку». В 1918 году Кочергин поступил добровольцем в Красную армию и был направлен в высшую школу военной маскировки (ВШВМ). Во время подготовки к празднику вместе с другими живописцами из той же школы он окрашивал из пульверизатора в голубой цвет дорожки перед Большим театром и окутанные марлей деревья, внутри которых по вечерам зажигались электрические лампочки, превращавшие их в светящиеся голубые шары. Домики с палисадниками в Охотном ряду и сказочные птицы на деревьях появились благодаря брату и сестре Алексеевым. Иван Викторович Алексеев, участник объединений «Мир искусства», «Свободное творчество», в будущем сценограф, театральный художник, так же, как и его сестра Ольга Викторовна, тогда тоже проходили обучение в Высшей школе военной маскировки. С одной стороны эпические птицы и сады Черномора, а с другой военные курсы и камуфляж? Или организаторам понадобились услуги реальных профессионалов, чтобы замаскировать город, пребывающий тогда в тяжелом и нищем состоянии под сказочный светлый коммунистический рай?
По итогам Первой мировой войны стало понятно, что нашей армии необходимо усилить разработки в сфере маскировки. В 1918 году, в рамках образования курсов по усовершенствованию командного состава, была основана ВШВМ. Основная деятельность сосредоточилась на исследовании опыта Первой мировой войны в области применения маскировки и организации маскировочных работ. 26 июля 1918 года приказом московского Окружного комиссариата по военным делам были взяты на учет все подлежащие отбытию военной службы художники, которые направлялись в ВШВМ для прохождения курса образования на Поварскую улицу и в Кунцево. Ее основателями стали бывшие офицеры императорской армии, братья Николай и Алексей Сучковы, с 1914 года служившие под руководством начальника инженеров Юго-Западного фронта генерала К.И. Величко, русского и советского военного инженера. Первую подобную школу братья учредили еще в 1916 году, она успешно функционировала до конца 1917 года и стала прообразом ВШВМ. Осенью 1919 года отдававшие все свои силы на создание «могучего средства борьбы – военной маскировки» (слова самого Николая Николаевича) Сучковы были арестованы ВЧК за участие в организации Национального Центра.
Самым главным демаскирующим признаком военного объекта от окружающего фона является его цветовое отличие. В связи с массовым применением огневых средств в войнах для маскировки объектов стали применять окраску, известную нам, как «хаки» - зеленый цвет землистого оттенка. Но одного защитного цвета оказалось недостаточно, если речь идет о подвижной материальной части, проецирующейся на различный фон. Эффект неузнаваемости достигался в результате слияния с фоном некоторых пятен окраски, по своему цвету близких к преобладающей окраске фона. Впервые многоцветная окраска в виде чередующихся крупных пятен появилась во французской армии и дальше совершенствовалась, в том числе силами слушателей ВШВМ в Советском союзе.
Логично, что работами по камуфляжу танковых войск занялся в 20-ых влюбленный в футуризм художник, дизайнер и фотограф Александр Родченко. Чередующиеся пятна, наложение цвета раздельными мазками – всё это делает камуфляж видом пуантилизма. Известно, что мастера авангарда, коим безусловно являлся Родченко, любили прибегать к этому методу живописи, футуристы видели в нем один из способов передачи стремительного движения, «всемирной вибрации», рассыпающей мир на мельчайшие частицы.
Советские танки по проекту Родченко имели двухцветный камуфляж – светло-зеленые пятна по темно-зеленому фону – модели МК V, МК В и «Рено».
Однако, одним из создателей нашей маскировочной школы считается вовсе не художник, а великий представитель русской психологии, один из основателей дифференциальной психологии Борис Михайлович Теплов. Во время учебы в Психологическом институте при Московском университете Теплов воевал на фронтах Первой мировой войны, затем был призван в Красную армию, и в 1919 году поступил в ВШВМ. До 1933 года Борис Михайлович исследовал проблемы военной маскировки в разных научных учреждениях КА. В 1926 году выходит статья Теплова «Психология как основа маскировочной техники». Его поиск решений проблем в сфере маскировки с научной точки зрения привел его к исследованию экспериментальных законов ощущений и восприятия. В 1927-1928 годах Борис Михайлович публикует итоги своих исследований пространственных изменений формы и цвета объектов, в том числе статьи «Описание процесса деформации контура краской», «Из наблюдений за изменением цвета при удалении». В них Теплов выводит такие закономерности трансформации цвета на расстоянии, как неразличимость оранжевого и красного цветов, относительная устойчивость зеленого цвета, потемнение фиолетового и синего.
Кстати, дивионизм, второе название пуантилизма – как и дифференциальная (психология) – происходят от французского и английского слов, обозначающих одно и тоже – разделение. Что делает Теплова своеобразным пуантилистом от психологии. Следовательно, и обратное, делает футуристов - представителями русской школы психологии. И все эти люди занимались проблемами маскировки для советской армии. По сути - оптической иллюзией. Все жили в непрекращающихся вооруженных конфликтах с чужими и сами с собой, сожительствовали со смертью, видели смерть, знали ее, и знали, насколько важна в этом деле маскировка. Как художник авангардист Евгений Баранов-Россине, закрывшим – «скрывшим» - своими панно Знаменскую площадь в Петрограде на Первомай 1918 и он же запатентовал во Франции в 1939 году «пуантилистически-динамичный камуфляж», он же — хамелеон-метод, то есть ту самую пятнистую военную форму, которую мы все знаем.
«Красноармейцы не боятся выстрелов врага. Они наступают врассыпную, ползут по земле, перебегают и прячутся за каждый бугорок. Враг их не видит. Они в закамуфлированных халатах.
От страшных бомб, от тяжелых снарядов и разрывных пуль красноармейцев защищают зеленые ветки, раскрашенные тряпки да мочалки.» – В.А.Тамби. Маскировка.» (Текст Былиева, 1930 год.)
Владимир Александрович Тамби – художник-иллюстратор – среди множества книг, в которых он знакомил детей с технической стороной мира, в основном с разнообразными машинами, в том числе танками, подводными лодками, самолетами, в 1930 году выпустил авторскую книжку о камуфляже. Ученик известного всем советским и русским читающим детям художника Владимира Васильевича Лебедева, Тамби запечатывал цветом фон страницы и населял эту среду своими любимыми механизмами. «Производственная» книга «Камуфляж», учитывая эту технику автора, получилась камуфляжем сама по себе – начиная от обложки, заканчивая деталями. Во время войны, в блокадном Ленинграде Владимир Александрович внесет свой вклад в фонд советского антифашистского плаката. Будучи членом группы «Боевой карандаш» он станет автором: «Новогодняя ёлка у белофинского волка» (1940; с другими художники), «Как два партизанских отряда били фашистского гада», «Разгром мотомеханизированного отряда фашистов» (1941), «Не будут крылья черные над Родиной летать!» (оба –1941; с Ю. Н. Петровым), «Умей распознавать врага – храни родные берега» (1941), «Эпизоды Отечественной войны» (1941; с В. А. Кобелевым).
А тряпки да мочалки, упомянутые в детской книжке впервые были представлены колонной слушателей ВШВМ на майской демонстрации в 1925 году. По Красной площади прошли люди в маскплащах из сетки или ткани, в которые были вплетены пучки мочала, а также в летних маскхалатах с камуфлирующим рисунком и в однотонном варианте.
Символично, что драпировкой кораблей и людей занимались, по сути, те же люди, что и драпировкой красными стягами с портретами вождей зданий, улиц, площадей и городов. Для войны и для праздника. Но были и те, кто, будучи классиками уже при жизни, держались иной точки зрения и опоры при своей работе над теми первыми праздниками молодой страны, в тяжелых изматывающих условиях пытающейся сломать всё старое, или хотя бы прикрыть масштабными холстами художников великую архитектуру Петербурга.
„Я поставил себе задачу изменить исторически создавшийся облик площади. Превратить ее в место, куда революционный народ пришел праздновать свою победу. Я не стал украшать ее. Творения Растрелли и Росси не нуждались в украшениях. Красоте императорской России я хотел противопоставить новую красоту победившего народа. Не гармонии со старым я искал, а контраст ему. Свои конструкции я ставил не на зданиях, а между ними…» - это слова о своём видении концепции оформления вверенной ему Дворцовой площади Петрограда в первую годовщину Октября Натана Альтмана. Не только великого живописца, но и, как водится у авангардистов- прекрасного психолога.
Мария Мальцева.
А теперь-Лохматый!
Как при жизни признанный классиком европейского авангарда модернист стал главной фигурой советской военной пропаганды и личным врагом фюрера.
…Есть такой грустный и уже давно бородатый анекдот, про то, как недавно освободившийся старый вор заходит в дорогой ресторан и просит для начала чайку, а когда официантка спрашивает какого именно, устало машет рукой, демонстрируя немаленькую пачку денег:
- Сделай, милая, что-нибудь на свой вкус. Капусты, к счастью, полно…
Девушка в панике убегает на кухню, советуется с поваром, - клиент, сразу видно, не простой, авторитетный.
Повар выглядывает в зал.
- А, - говорит, - все понятно. Сейчас сообразим.
Вываривает крепкий чифир, торжественно наполняет им хрустальный стакан в дорогом серебряном подстаканнике, юная официантка не менее торжественно выносит стакан на подносе, сервирует на стол.
Дед пробует, изумляется.
- Да, милая, - говорит. – Не ожидал. Помотала тебя жизнь…
…Что тут можно сказать.
Нашего сегодняшнего героя жизнь помотала так, что об этом не только барышня-официантка, но и старый вор могли только мечтать. Восторженный гимназист из богатой и интеллигентной еврейской семьи (отец, инженер и купец первой гильдии, получивший ее в виде исключения, несмотря на еврейское происхождения, директор Московского Хамовнического пивоваренного завода), ставший социал-демократом под влиянием своего друга по элитной 1-й московской гимназии Николая Бухарина (исключен оттуда из 6-го класса за революционную деятельность). Революционер-ленинец из самой, что ни на есть старой большевистской гвардии с партийной кличкой Илья Лохматый, сбежавший в Париж после полугодовой отсидки в московских тюрьмах.
Во вполне себе тогда, кстати, русско-эмигрантский Париж.
Где, несмотря на близкое знакомство и чуть ли не приятельские отношения с пребывавшим в тех же местах Владимиром Лениным, внезапно «отошел от политической деятельности», перестал общаться с бесплодной эмигрантской средой, увлекся авангардным искусством и, для начала, начал писать весьма недурные стихи.
Ленин, кстати, хоть и считался человеком крайне мстительным и не прощавшим «уклонения от линии партии», отнесся к решению своего молодого соратника с полным отеческим пониманием. И, судя по сохранившимся воспоминаниям, радовался впоследствии, уже после революции, колоссальному европейскому успеху его первых романов, как ребенок («Надя, Наденька, это же наш Илья Лохматый!»).
Хотя, конечно, это было, что называется, уже немного потом.
Когда он уже считался одним из отцов-основателей европейского авангарда, тогда прочно базировавшегося в «культурной столице мира», в ставших впоследствии всемирно знаменитыми, благодаря своим тогдашним завсегдатаям, кафе «Дом» и «Ротонда» на Монмартре. Когда Илья Лохматый, в юности социал-демократ, партийный товарищ Ленина и Бухарина, уже был больше известен, как друг и соратник Гийома Аполлинера, Модильяни и Пабло Пикассо, с которым позже дружил всю оставшуюся жизнь (есть апокриф, что именно ему Пикассо посвятил свою знаменитую «голубку мира»).
Но до этого случилось возвращение в революционную Россию.
Неприятие большевистской революции, еще одни застенки, - теперь уже ВЧК, по личному распоряжению Генриха Ягоды, откуда его с трудом вызволил друг юности Николай Бухарин. Скитания по русской земле и русской же революции.
Потом опять эмиграция.
Берлин, Бельгия.
И - снова Париж.
Кстати, выражение «Увидеть Париж и умереть» придумал именно Эренбург. И его книги оформляли художники, создававшие русский авангард и советскую визуальную пропаганду – Александр Родченко , Эль Лисицкий и автор агитационного фарфора Натан Альтман, не говоря уже о других. Делали это с интересом и любовью, так как чувствовали в нем соратника по искусству.
В Москву по-настоящему (наездами бывал и раньше, в 1937, - том самом 1937, когда сгинул его старший товарищ Николай Бухарин, - даже был награжден орденом Красной Звезды за репортажи с гражданской войны в Испании, где служил военкором «Известий»), он вернется только в 1940. После падения его любимого Парижа, маститым писателем с европейским именем (его работы до сих пор изучают в Сорбонне, - либеральные критики мне не поверят, но это вполне доступная информация, - не как «советскую литературу», а как «классику европейского авангарда»), да и в советской словесности, не хухры-мухры, а вполне себе полноценным лауреатом Сталинской премии.
Но вовсе не для того, чтобы почивать на вполне заслуженных к тому времени лаврах.
А для того, чтобы, начав все едва ли не с самого начала, стать величайшим военным журналистом, классиком сталинской пропаганды, личным врагом Гитлера. И мы, в современной России, к сожалению, знаем его больше именно в этом качестве, хотя наследие бежавшего от царской охранки в Париж молодого большевика Ильи Лохматого, ставшего летом в страшном 1941 году военным корреспондентом газеты «Красная Звезда» Ильей Григорьевичем Эренбургом, разумеется, много обширней. При всем гигантском уважении к тому (в его статьи, как в приказы Сталина, даже махорку считалось кощунственным заворачивать), что, «жуя черствый хлеб военного репортера», уже не очень молодой и очень маститый литератор Илья Григорьевич Эренбург писал в страшные годы той великой войны.
Кстати, о точных пропагандистских кратких формулировках, которые вдохновили не один боевой плакат: именно он первым сформулировал лозунг «Убей немца!». Тем более, что он стал крупнейшим мастером антинацистской пропаганды еще с первых дней прихода к власти нацистов в Германии.
Да даже и его влияние на классический советский агитпроп началось, честно говоря, много раньше: еще в его первый, «революционный» и очень сложный период приезда в молодую Советскую Россию: слушали тогда приехавшего из европейской культурной метрополии молодого, но уже очень успешного по европейским меркам, представителя мирового художественного авангарда в не менее молодых революционно-художественных кругах внезапно вновь ставшей столичной Москвы, в общем-то, с некоторым придыханием. О революционной графике и экспрессионистской живописи чахоточного Амадео Модльяни, с которым они говорили о прячущейся красоте и курили гашиш, о кубизме Метценже и Макса Жакоба, которым некоторое время так увлекались его приятели Гийом Аполлинер и Пабло Пикассо, о знаменитых словах Поля Сезанна «Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса», с которым Эренбург тоже был, хоть и не особо близко, знаком, и которого парижские «кубисты» числили едва ли не своим родоначальником. О ночных спорах с, позже сдружившимся с Муссолини и «скатившимся в фашизм», футуристом Маринетти.
Ну, чтобы было совсем понятно, - это как бы в питерский рок-клуб конца 80-х или даже на Камчатку Цоя запросто заглянул на пару-тройку вечерков Роберт Смит из The Cure, покурить, выпить вина, поболтать, между делом поясняя, как на самом деле делается постпанк и как в Лондоне сейчас играют New Wave.
Масштаб немного разный, но эффект, в общем, - вполне себе даже сравним.
И мы все это можем, при соответствующем желании и хотя бы минимальной подготовке, увидеть, в том числе, и в советском революционном плакате. Влияние Эренбурга, особенно после второй, фактически, эмиграции, когда Европа стала зачитываться «Хулио Хуренито» и, особенно, «Трестом Д.Е.», было в советской художественной среде вообще настолько серьезным, что, к примеру, поэт Борис Пастернак долго сомневался, кем считать Илью Григорьевича, старшим товарищем или учителем.
И потом до смерти обижался на то, как холодно Эренбург принял его нобелевско-лауреатского «Доктора Живаго», - хотя я тут с Ильей Григорьевичем склонен, скорей, согласиться: для поэта, уровня Пастернака, - очень слабый, рыхлый и дурно выдержанный с точки зрения композиции текст.
Это если с точки зрения чисто литературы.
А с другой точки зрения Эренбург на него даже и не смотрел.
И говорил всегда то, что думал, невзирая не только на чины и звания, но и на дружеские отношения: он и Кобе, с которым они друг друга друг друга, скорее недолюбливали, хоть и были знакомы по партийной работе чуть ли не с дореволюционных времен, - Геббельс, когда писал про «ручного жида Сталина», привычно врал, - всегда говорил то, что думал. И товарищ Сталин его, кстати, за это, за эту прямоту, ни разу не репрессировал. Хотя и о крепкой многолетней, - еще с дореволюционных, опять-таки, времен! – дружбе Эренбурга с тем же «врагом народа» Бухариным был прекраснейшим образом осведомлен.
Глупо было бы.
Ну, так то, – сам товарищ Сталин.
Он кровавый тиран, он мог себе и не такое позволить.
А вот советская гуманитарная интеллигенция, в отличие от Иосифа Виссарионовича, простить Эренбургу этой его прямоты и нелицеприятной четкости в оценках, простить так и, разумеется, не смогла.
Еще бы!
Про его оценку одной нобелевской иконы гуманитарной интеллигенции мы писали выше, - и это Пастернак, который был его другом.
Представляете, пример, что он про Солженицына наговорил?!
Самое мягкое, - «небездарный, но очень сырой, рыхлый и очень неряшливый автор, который в ущерб качеству чересчур стремится к успеху», - ну как такого, да еще, понимаешь, прикрывающегося своим «мировым именем» хотя бы после, извиняемся, долгожданной смерти, не загнобить?
При жизни-то опасались.
А, вот, после смерти, - на похороны писателя в 1967 году в Москве пришло, на секундочку, около пятнадцати тысяч человек, - посчитались, разумеется. И тут Илья Григорьевич, пусть и против своей воли, снова стал настоящим новатором: если говорить о жертвах модной сейчас не только, увы, на западе «cancel culture», то первой такой жертвой в русской советской культуре стал именно Эренбург.
Это было непросто, - особенно, если учитывать европейскую славу писателя, где, в той же Франции, его имя стояло вполне себе в одном ряду с Полем Элюаром, Луи Арагоном и, даже, Роменом Ролланом (который, кроме взаимно добрых отношений с Ильей Григорьевичем, ничем художественно Эренбурга и близко не напоминал, ну да ладно), - но нет таких крепостей, которые не могут взять советские интеллигенты, если кого надо унизить и затоптать. Особенно если толпой и в ответ не дают сдачи. От взятия таких крепостей отказывались даже старые большевики. Но оплевать такую глыбу, как Эренбург, даже у советских интеллигентов что-то не очень-то получалось, и даже не столько из-за популярности его «сложных и формалистических» книг в простом советском народе, сколько из-за того уважения, которое испытывали к нему на благословенном для советских интеллигентов западе, и, особенно, в европейской и американской университетской среде, левые профессорские круги. Это примерно как Никита Хрущев, который конечно отменил название города Сталинград, но улицы и площади все в той же Франции, посвященные героям Сталинграда, так и не смог отменить.
Но ребята старались.
Потихоньку перестали печатать.
С момента его смерти в 1967 до конца советской власти вышли небольшими тиражами пара сборников статей да тоненькая книжка стихов и переводов в антологии «Библиотека поэта». Эренбурга постепенно исключили из всех «поминальников», ни о каком включении книг классика советской и европейской литературы в образовательные программы и речи, естественно, не шло. В общем, вокруг неистовой фигуры Ильи Лохматого старательно выкладывалась мягкая вата забвения, а потом и слухи разные нехорошие пошли. И про сталинизм - это про Эренбурга-то, который даже термин «оттепель» лично выдумал, написав повесть про этот период с таким названием, который потом был внаглую присвоен сценаристами одного печально известного сериала: Эренбург вообще был потрясающим мастером формулировок, даже словосочетание День Победы придумал и употребил именно он, причем сделал он это … еще в 1941 году, в разгар нашего контрнаступления под Москвой.
Ну, да ладно.
По крайней мере, советская гуманитарная интеллигенция не смогла замазать хотя бы роли военной и антифашистской публицистики Эренбурга, о нем даже преподавали в университетах в позднесоветский период, правда, исключительно по предмету «партийная журналистика и партийная литература», в остальном для советской образовательной номенклатуры Эренбург просто не существовал.
Но хоть на это советская интеллигенция не покусилась, на это покусилась уже современная постсоветская интеллигенция, - сволочь еще похуже своих предшественников – попытавшаяся замазать грязью Эренбурга в рамках замазывания грязью нашей Победы в той великой войне. К счастью, Россия изменилась еще до того, как им это удалось успеть.
А Эренбург, вполне закономерно, вновь стал востребованным: прямо ровно с того момента как мы вновь столкнулись с фашизмом, и нам снова потребовалось то, что младшие современники Ильи Григорьевича, сатирики Ильф и Петров, называли «миром больших людей и больших вещей». И что с гневом отвергалось победившим «мир больших людей» мировоззрением 90-х, помните еще знаменитую эту цитату: «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Днепропетровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь "уйди-уйди", написана песенка "Кирпичики" и построены брюки фасона "полпред". В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй» (с). Так вот, большой мир, вместе с его насущной потребностью в настоящем художественном авангарде, а не в «розовой водичке для страдающих половым бессилием», кажется, к нам возвращается.
Да, к сожалению, через войну.
Но зато вместе с ним к нам возвращаются и большие люди, в число которых, вне всякого сомнения, входит и Илья Григорьевич Эренбург. Кстати, Ильфа и Петрова я упомянул отнюдь не случайно: существует такой, весьма похожий на правду, апокриф, что когда Валентин Петрович Катаев придумывал для своего младшего брата Евгения Петрова и его друга и соавтора Ильфа фигуру Остапа Бендера он сказал очень простую вещь: нужен герой-трикстер, так возьмите «великого провокатора» Хулио Хуренито (роман Эренбурга тогда гремел не только в Европе, но и в Советской России) и адаптируйте его к нашим южнорусским местам.
Так и появился вместо «великого провокатора» «великий комбинатор», чуть посмешней, понезадачливей и попроще. Но и роль настоящего, а не местечкового трикстера, злого интеллектуала, «великого провокатора» в русской советской культуре тоже никто и ни в коем случае не отменял.
PS А «Москва слезам не верит» - это его книга 1933 года задолго до фильма Меньшова…
Дмитрий Лекух.
- Шесть повестей о легких концах. 1922. Обложка и иллюстрации худ. Эль Лисицкого
- Любовь Жанны Ней. М., «Россия», 1924.
- Любовь Жанны Ней. Худ. Н. Альтман. 1928.
…Есть такой грустный и уже давно бородатый анекдот, про то, как недавно освободившийся старый вор заходит в дорогой ресторан и просит для начала чайку, а когда официантка спрашивает какого именно, устало машет рукой, демонстрируя немаленькую пачку денег:
- Сделай, милая, что-нибудь на свой вкус. Капусты, к счастью, полно…
Девушка в панике убегает на кухню, советуется с поваром, - клиент, сразу видно, не простой, авторитетный.
Повар выглядывает в зал.
- А, - говорит, - все понятно. Сейчас сообразим.
Вываривает крепкий чифир, торжественно наполняет им хрустальный стакан в дорогом серебряном подстаканнике, юная официантка не менее торжественно выносит стакан на подносе, сервирует на стол.
Дед пробует, изумляется.
- Да, милая, - говорит. – Не ожидал. Помотала тебя жизнь…
…Что тут можно сказать.
Нашего сегодняшнего героя жизнь помотала так, что об этом не только барышня-официантка, но и старый вор могли только мечтать. Восторженный гимназист из богатой и интеллигентной еврейской семьи (отец, инженер и купец первой гильдии, получивший ее в виде исключения, несмотря на еврейское происхождения, директор Московского Хамовнического пивоваренного завода), ставший социал-демократом под влиянием своего друга по элитной 1-й московской гимназии Николая Бухарина (исключен оттуда из 6-го класса за революционную деятельность). Революционер-ленинец из самой, что ни на есть старой большевистской гвардии с партийной кличкой Илья Лохматый, сбежавший в Париж после полугодовой отсидки в московских тюрьмах.
Во вполне себе тогда, кстати, русско-эмигрантский Париж.
Где, несмотря на близкое знакомство и чуть ли не приятельские отношения с пребывавшим в тех же местах Владимиром Лениным, внезапно «отошел от политической деятельности», перестал общаться с бесплодной эмигрантской средой, увлекся авангардным искусством и, для начала, начал писать весьма недурные стихи.
Ленин, кстати, хоть и считался человеком крайне мстительным и не прощавшим «уклонения от линии партии», отнесся к решению своего молодого соратника с полным отеческим пониманием. И, судя по сохранившимся воспоминаниям, радовался впоследствии, уже после революции, колоссальному европейскому успеху его первых романов, как ребенок («Надя, Наденька, это же наш Илья Лохматый!»).
Хотя, конечно, это было, что называется, уже немного потом.
Когда он уже считался одним из отцов-основателей европейского авангарда, тогда прочно базировавшегося в «культурной столице мира», в ставших впоследствии всемирно знаменитыми, благодаря своим тогдашним завсегдатаям, кафе «Дом» и «Ротонда» на Монмартре. Когда Илья Лохматый, в юности социал-демократ, партийный товарищ Ленина и Бухарина, уже был больше известен, как друг и соратник Гийома Аполлинера, Модильяни и Пабло Пикассо, с которым позже дружил всю оставшуюся жизнь (есть апокриф, что именно ему Пикассо посвятил свою знаменитую «голубку мира»).
Но до этого случилось возвращение в революционную Россию.
Неприятие большевистской революции, еще одни застенки, - теперь уже ВЧК, по личному распоряжению Генриха Ягоды, откуда его с трудом вызволил друг юности Николай Бухарин. Скитания по русской земле и русской же революции.
Потом опять эмиграция.
Берлин, Бельгия.
И - снова Париж.
Кстати, выражение «Увидеть Париж и умереть» придумал именно Эренбург. И его книги оформляли художники, создававшие русский авангард и советскую визуальную пропаганду – Александр Родченко , Эль Лисицкий и автор агитационного фарфора Натан Альтман, не говоря уже о других. Делали это с интересом и любовью, так как чувствовали в нем соратника по искусству.
В Москву по-настоящему (наездами бывал и раньше, в 1937, - том самом 1937, когда сгинул его старший товарищ Николай Бухарин, - даже был награжден орденом Красной Звезды за репортажи с гражданской войны в Испании, где служил военкором «Известий»), он вернется только в 1940. После падения его любимого Парижа, маститым писателем с европейским именем (его работы до сих пор изучают в Сорбонне, - либеральные критики мне не поверят, но это вполне доступная информация, - не как «советскую литературу», а как «классику европейского авангарда»), да и в советской словесности, не хухры-мухры, а вполне себе полноценным лауреатом Сталинской премии.
Но вовсе не для того, чтобы почивать на вполне заслуженных к тому времени лаврах.
А для того, чтобы, начав все едва ли не с самого начала, стать величайшим военным журналистом, классиком сталинской пропаганды, личным врагом Гитлера. И мы, в современной России, к сожалению, знаем его больше именно в этом качестве, хотя наследие бежавшего от царской охранки в Париж молодого большевика Ильи Лохматого, ставшего летом в страшном 1941 году военным корреспондентом газеты «Красная Звезда» Ильей Григорьевичем Эренбургом, разумеется, много обширней. При всем гигантском уважении к тому (в его статьи, как в приказы Сталина, даже махорку считалось кощунственным заворачивать), что, «жуя черствый хлеб военного репортера», уже не очень молодой и очень маститый литератор Илья Григорьевич Эренбург писал в страшные годы той великой войны.
Кстати, о точных пропагандистских кратких формулировках, которые вдохновили не один боевой плакат: именно он первым сформулировал лозунг «Убей немца!». Тем более, что он стал крупнейшим мастером антинацистской пропаганды еще с первых дней прихода к власти нацистов в Германии.
Да даже и его влияние на классический советский агитпроп началось, честно говоря, много раньше: еще в его первый, «революционный» и очень сложный период приезда в молодую Советскую Россию: слушали тогда приехавшего из европейской культурной метрополии молодого, но уже очень успешного по европейским меркам, представителя мирового художественного авангарда в не менее молодых революционно-художественных кругах внезапно вновь ставшей столичной Москвы, в общем-то, с некоторым придыханием. О революционной графике и экспрессионистской живописи чахоточного Амадео Модльяни, с которым они говорили о прячущейся красоте и курили гашиш, о кубизме Метценже и Макса Жакоба, которым некоторое время так увлекались его приятели Гийом Аполлинер и Пабло Пикассо, о знаменитых словах Поля Сезанна «Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса», с которым Эренбург тоже был, хоть и не особо близко, знаком, и которого парижские «кубисты» числили едва ли не своим родоначальником. О ночных спорах с, позже сдружившимся с Муссолини и «скатившимся в фашизм», футуристом Маринетти.
Ну, чтобы было совсем понятно, - это как бы в питерский рок-клуб конца 80-х или даже на Камчатку Цоя запросто заглянул на пару-тройку вечерков Роберт Смит из The Cure, покурить, выпить вина, поболтать, между делом поясняя, как на самом деле делается постпанк и как в Лондоне сейчас играют New Wave.
Масштаб немного разный, но эффект, в общем, - вполне себе даже сравним.
И мы все это можем, при соответствующем желании и хотя бы минимальной подготовке, увидеть, в том числе, и в советском революционном плакате. Влияние Эренбурга, особенно после второй, фактически, эмиграции, когда Европа стала зачитываться «Хулио Хуренито» и, особенно, «Трестом Д.Е.», было в советской художественной среде вообще настолько серьезным, что, к примеру, поэт Борис Пастернак долго сомневался, кем считать Илью Григорьевича, старшим товарищем или учителем.
И потом до смерти обижался на то, как холодно Эренбург принял его нобелевско-лауреатского «Доктора Живаго», - хотя я тут с Ильей Григорьевичем склонен, скорей, согласиться: для поэта, уровня Пастернака, - очень слабый, рыхлый и дурно выдержанный с точки зрения композиции текст.
Это если с точки зрения чисто литературы.
А с другой точки зрения Эренбург на него даже и не смотрел.
И говорил всегда то, что думал, невзирая не только на чины и звания, но и на дружеские отношения: он и Кобе, с которым они друг друга друг друга, скорее недолюбливали, хоть и были знакомы по партийной работе чуть ли не с дореволюционных времен, - Геббельс, когда писал про «ручного жида Сталина», привычно врал, - всегда говорил то, что думал. И товарищ Сталин его, кстати, за это, за эту прямоту, ни разу не репрессировал. Хотя и о крепкой многолетней, - еще с дореволюционных, опять-таки, времен! – дружбе Эренбурга с тем же «врагом народа» Бухариным был прекраснейшим образом осведомлен.
Глупо было бы.
Ну, так то, – сам товарищ Сталин.
Он кровавый тиран, он мог себе и не такое позволить.
А вот советская гуманитарная интеллигенция, в отличие от Иосифа Виссарионовича, простить Эренбургу этой его прямоты и нелицеприятной четкости в оценках, простить так и, разумеется, не смогла.
Еще бы!
Про его оценку одной нобелевской иконы гуманитарной интеллигенции мы писали выше, - и это Пастернак, который был его другом.
Представляете, пример, что он про Солженицына наговорил?!
Самое мягкое, - «небездарный, но очень сырой, рыхлый и очень неряшливый автор, который в ущерб качеству чересчур стремится к успеху», - ну как такого, да еще, понимаешь, прикрывающегося своим «мировым именем» хотя бы после, извиняемся, долгожданной смерти, не загнобить?
При жизни-то опасались.
А, вот, после смерти, - на похороны писателя в 1967 году в Москве пришло, на секундочку, около пятнадцати тысяч человек, - посчитались, разумеется. И тут Илья Григорьевич, пусть и против своей воли, снова стал настоящим новатором: если говорить о жертвах модной сейчас не только, увы, на западе «cancel culture», то первой такой жертвой в русской советской культуре стал именно Эренбург.
Это было непросто, - особенно, если учитывать европейскую славу писателя, где, в той же Франции, его имя стояло вполне себе в одном ряду с Полем Элюаром, Луи Арагоном и, даже, Роменом Ролланом (который, кроме взаимно добрых отношений с Ильей Григорьевичем, ничем художественно Эренбурга и близко не напоминал, ну да ладно), - но нет таких крепостей, которые не могут взять советские интеллигенты, если кого надо унизить и затоптать. Особенно если толпой и в ответ не дают сдачи. От взятия таких крепостей отказывались даже старые большевики. Но оплевать такую глыбу, как Эренбург, даже у советских интеллигентов что-то не очень-то получалось, и даже не столько из-за популярности его «сложных и формалистических» книг в простом советском народе, сколько из-за того уважения, которое испытывали к нему на благословенном для советских интеллигентов западе, и, особенно, в европейской и американской университетской среде, левые профессорские круги. Это примерно как Никита Хрущев, который конечно отменил название города Сталинград, но улицы и площади все в той же Франции, посвященные героям Сталинграда, так и не смог отменить.
Но ребята старались.
Потихоньку перестали печатать.
С момента его смерти в 1967 до конца советской власти вышли небольшими тиражами пара сборников статей да тоненькая книжка стихов и переводов в антологии «Библиотека поэта». Эренбурга постепенно исключили из всех «поминальников», ни о каком включении книг классика советской и европейской литературы в образовательные программы и речи, естественно, не шло. В общем, вокруг неистовой фигуры Ильи Лохматого старательно выкладывалась мягкая вата забвения, а потом и слухи разные нехорошие пошли. И про сталинизм - это про Эренбурга-то, который даже термин «оттепель» лично выдумал, написав повесть про этот период с таким названием, который потом был внаглую присвоен сценаристами одного печально известного сериала: Эренбург вообще был потрясающим мастером формулировок, даже словосочетание День Победы придумал и употребил именно он, причем сделал он это … еще в 1941 году, в разгар нашего контрнаступления под Москвой.
Ну, да ладно.
По крайней мере, советская гуманитарная интеллигенция не смогла замазать хотя бы роли военной и антифашистской публицистики Эренбурга, о нем даже преподавали в университетах в позднесоветский период, правда, исключительно по предмету «партийная журналистика и партийная литература», в остальном для советской образовательной номенклатуры Эренбург просто не существовал.
Но хоть на это советская интеллигенция не покусилась, на это покусилась уже современная постсоветская интеллигенция, - сволочь еще похуже своих предшественников – попытавшаяся замазать грязью Эренбурга в рамках замазывания грязью нашей Победы в той великой войне. К счастью, Россия изменилась еще до того, как им это удалось успеть.
А Эренбург, вполне закономерно, вновь стал востребованным: прямо ровно с того момента как мы вновь столкнулись с фашизмом, и нам снова потребовалось то, что младшие современники Ильи Григорьевича, сатирики Ильф и Петров, называли «миром больших людей и больших вещей». И что с гневом отвергалось победившим «мир больших людей» мировоззрением 90-х, помните еще знаменитую эту цитату: «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Днепропетровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь "уйди-уйди", написана песенка "Кирпичики" и построены брюки фасона "полпред". В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй» (с). Так вот, большой мир, вместе с его насущной потребностью в настоящем художественном авангарде, а не в «розовой водичке для страдающих половым бессилием», кажется, к нам возвращается.
Да, к сожалению, через войну.
Но зато вместе с ним к нам возвращаются и большие люди, в число которых, вне всякого сомнения, входит и Илья Григорьевич Эренбург. Кстати, Ильфа и Петрова я упомянул отнюдь не случайно: существует такой, весьма похожий на правду, апокриф, что когда Валентин Петрович Катаев придумывал для своего младшего брата Евгения Петрова и его друга и соавтора Ильфа фигуру Остапа Бендера он сказал очень простую вещь: нужен герой-трикстер, так возьмите «великого провокатора» Хулио Хуренито (роман Эренбурга тогда гремел не только в Европе, но и в Советской России) и адаптируйте его к нашим южнорусским местам.
Так и появился вместо «великого провокатора» «великий комбинатор», чуть посмешней, понезадачливей и попроще. Но и роль настоящего, а не местечкового трикстера, злого интеллектуала, «великого провокатора» в русской советской культуре тоже никто и ни в коем случае не отменял.
PS А «Москва слезам не верит» - это его книга 1933 года задолго до фильма Меньшова…
Дмитрий Лекух.
- Шесть повестей о легких концах. 1922. Обложка и иллюстрации худ. Эль Лисицкого
- Любовь Жанны Ней. М., «Россия», 1924.
- Любовь Жанны Ней. Худ. Н. Альтман. 1928.
То, что будет
Для того, чтобы понять, из какой внутренней мощи ранних русских художников 20-го века произошел революционный прорыв агитационного искусства, просто для начала прочтите этот манифест 1913 года, который написали художники Ларионов и Зданович в журнале «Аргус». Хотя бы потом, что так уже никто не пишет, да и не сможет. Более того, современный молодой читатель, привыкший к примитивным интернет-вокабуляриям, поначалу даже не поймет, почему тут слова используются именно в таком порядке. А уж для понимания, придется все-таки прочесть не один раз. Ловите:
«Исступленному городу дуговых ламп, обрызганным телами улицам, жмущимся домам — мы принесли раскрашенное лицо: старт дан, и дорожка ждет бегунов.
Созидатели, мы пришли не разрушить строительство, но прославить и утвердить. Наша раскраска ни вздорная выдумка, ни возврат — неразрывно связана она со складом нашей жизни и нашего ремесла.
Заревая песнь о человеке, как горнист перед боем, призывает она к победам над землей, лицемерно притаившейся под колесами до часа отмщения, и спавшие орудия проснулись и плюют на врага.
Обновленная жизнь требует новой общественности и нового проповедничества. Наша раскраска — первая речь, нашедшая неведомые истины. И пожары, учиненные ею, говорят, что прислужники земли не теряют надежды спасти старые гнезда, собрали все силы на защиту ворот, столпились, зная, что с первым забитым мячом мы — победители.
Ход искусства и любовь к жизни руководили нами. Верность ремеслу поощряет нас, борющихся. Стойкость немногих дает силы, которых нельзя одолеть.»
Ух, пробирает до костей. Как хорошая поэзия. Но, чтобы не тратить место на нашем сайте, мы полностью выложили текст на паблишинговой платформе (1).
На самом деле выдающийся русский авангардист Михаил Ларионов пишет тут вроде бы про свою новую акцию – когда художники его круга раскрашивали друг другу лица – в буквальном смысле слова – словно наносили боевую раскраску как примитивные племена в джунглях далеких стран. А с другой стороны – описывает пришедший в Россию новый небывалый стиль – «футуризм». На что, собственно, указывает пассаж: «Исступленному городу дуговых ламп, обрызганным телами улицам, жмущимся домам». Это же ответ на «Обоснование и манифест футуризма», который опубликовал беглый итальянец Филиппо Томмазо Маринетти в парижской газете «Фигаро» в 1909м году. Там были такие строки: «мы будем воспевать дрожь и ночной жар арсеналов и верфей, освещённых электрическими лунами». Да – электричество тогда было невероятным прорывом в будущее, отсюда столько художественного внимания к его искусственному свету. А дальше в манифесте содержится много букв, которые могут шокировать нынешнего читателя, привыкшего метаться между обтекаемыми политкорректными формулировками в официальных источниках и хейт-спичами в социальных сетях и даже не видит в этом никакого противоречия.
«Красота может быть только в борьбе. Никакое произведение, лишённое агрессивного характера, не может быть шедевром. Поэзию надо рассматривать как яростную атаку против неведомых сил, чтобы покорить их и заставить склониться перед человеком.
Мы будем восхвалять войну — единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и презрение к женщине.
Мы разрушим музеи, библиотеки, учебные заведения всех типов, мы будем бороться против морализма, феминизма, против всякой оппортунистической или утилитарной трусости.
Группа Sex Pistols – икона панк-движения 1970х рядом – просто детский утренник в сельском клубе рядом с таким манифестом.
Казалось бы, после такой заявки футуристическое искусство должно было бы являть какой то страх и ужас и апофеоз траншейной войны в стиле Отто Дикса и всех немецких экспрессионистов сразу – чтобы захотелось пойти и смыть в душе копоть разорвавшихся снарядов. И подать сантим ветерану Первой Мировой с оторванными ногами на углу Шонхаузер Аллее. Но таки нет – футуризм оказался удивительно ярким, по настоящему красивым и динамичным искусством. Которое предрекло миллион новых решений, что придут потом с новыми, в том числе - электронными технологиями. Когда первое, что хочется спросить – как автор своими человеческими глазами так смог проанализировать движение тел механизмов и природы, не имея технологии мультикамерной съемки, быстрых компьютеров, дронов и «Луны-25»? Оказывается – может. Футуристы были одними из многих авангардных направлений, которые, несмотря на всю свою грозную риторику («война, разрушим, борьба, умереть» и тд) вдруг показали, что человек может всё. И за человеком – будущее. Именно поэтому в России футуристы почти поголовно встали на сторону революции.
И да – знаменитое «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с парохода современности» - это манифест русских футуристов. И что – кто реально попытался отменить Пушкина с Достоевским? Это точно были не мы, а наши нынешние враги.
Даже Маяковский решил, что теперь он футурист и вырядился в дурацкую желтую кофту и повесил себе на грудь натуральную морковочку. Эти странные кофты вообще были must have каждого, кто представлял себя русским футуристом. Как писала «Петроградская газета» в 1915 году: «Среди присутствовавшей на вечере «Студии Вс. Мейерхольда» публики обращали на себя внимание несколько футуристов, из которых один был, несомненно, «гвоздем» вечера. Этот господин гулял по залу в каком-то вычурном жакете и полосатых брюках. Поверх костюма футурист повесил на себя длиннейшую дамскую панцирную золотую цепочку для часов. В довершение всего в руках у этого субъекта была огромная дамская муфта «под соболь», с которой он не расставался весь вечер».
Ну, вы уже поняли, что в наше время, как бы ты не вырядился, до тебя это сделал сто двадцать лет назад какой-нибудь художник и не один. Какую бы дамскую сумку ты не перекинул через свое мужское плечо, думая, что ты - невероятно оригинальный, с этой сумочкой по Невскому уже гулял футурист в 1915 году.
Потому что футуризм, как таковой, был не просто палитрой красок и ворохом линий, это было новое мировоззрение – философия общества, нацеленного в будущее. Именно поэтому футуристические взгляды во многом совпали с идеями большевистской революции 1917 года. А в Италии – с идеями итальянского фашизма, который тогда был враждебен становлению немецкого национал-социализма. А потом эти идеи подхватили и национал -социалисты. Это весьма тонкий лед, но именно эти внутренние течения показывают, например несостоятельность риторики новых левых «снежинок, радуг и единорогов», которые на свой манер калечат историю, промывая мозги публике насчет того – кто «правый», а кто - «левый». И это – отдельный разговор. На который мы не будем звать представителей эко-террористов «Последнего поколения» и «Пятница за будущее».
Иногда и там, и там работали одни и те же авторы, либо авторы, связанные друг с другом дружбой и солидарностью поверх государственных границ – у них была своя, отдельная от лидеров идеология. Они сами себе были лидерами.
За стремление быть лидером очень сильно доставалось именно Михаилу Ларионову. И с Владимиром Татлиным он разругался примерно та той же почве. И в расколе группы «Бубновый валет» его обвиняли – дескать он хотел сам возглавить какую-нибудь яркую и громкую группу художников. У него получилось творческое объединение «Ослиный хвост». Он сам прошел очень быструю эволюцию во всех модных жанрах и в конце концов придумал «лучизм» - одну из самых ранних форм абстрактного искусства.
Абстрактная живопись вообще одно из самых сложных видов живописи, хотя бы потому что обычно публика не в состоянии отличить реально выдающееся произведение от самой банальной халтуры. Но есть один принцип – реальное абстрактное искусство никогда ничего не берет «с потолка» - а подчиняется строжайшим законам живописи, физическим законам, законам построения света и цвета, композиции и линии с пятном.
Почему «лучизм»? потому что работы Ларионова – созданы по законам отражения лучей света от физических поверхностей. То, есть строго по физике. Потому что, если кошка ударит лапой по клавишам, то авангардной музыки не получится – авангард в музыке еще более подчиняется законам, в том числе и физическим – законам формирования и прохождения звука. Так что, казалось бы, внеполитический, абстрактный лучизм Ларионова – это лаборатория новых возможностей красок, цвета, композиции – и это все было использовано потом уже и в так называемом идеологическом, агитационном, пропагандистском искусстве – в том числе и в оформлении большевистских праздников. Хотя сам Ларионов, будучи раненным офицером в Первую мировую, вместе с женой переместился в Париж, и в самой революции совсем не участвовал. Ни с какой стороны.
Но в 1907м году Ларионов с своей женой Наталией Гончаровой привлекли братьев Бурлюков – Давида и Владимира к созданию группы «Венок – Стефанос», где были также Аристарх Лентулов, Александра Экстер, Владимир Баранов-Россине. Все они – радикальное крыло, противопоставившее себя группе «Голубая Роза» с ее русско-французской тусовкой эстета Николая Рябушинского. А потом Бурлюкам и этого радикализма стало маловато. В конце концов они и стали первыми русскими футуристами, а вовсе не автор «Манифеста» Ларионов. Про Бурлюков мы расскажем отдельно.
Но нельзя пройти мимо кубофутуристов-«будетлян», которые собрались вокруг художника и музыканта Михаила Матюшина в Питере. Матюшин был не просто «музыкантом» - он, на минуточку, скрипка Придворного оркестра русского царя. А в 1908-1910 начал вместе с женой собирать у себя дома фантастических персонажей – Велемира Хлебникова, Давида Бурлюка, Василия Каменского. И словечко «будетлянин», которое придумал уникальный писатель-поэт Хлебников идеальный перевод слова «футурист» - человек обращенный в будущее -которое «будет». Вы все еще тут, а будетлянин он уже практически «там» в будущем – всеми мыслями и талантом. Ну, а телом тут, с нами за столом у Михаила Матюшина в квартире на улице Песочной. Матюшин организовал издательство и опубликовал около двадцати футуристических трудов. И он, будучи очень глубоким и образованным человеком, воспользовался новым течением для того, чтобы проработать еще глубже принципы света, цвета, формы в произведениях искусства. Более того – он развивал теорию «расширенного смотрения». Помимо духовного аспекта теория расширенного смотрения включает в себя идею объединения сумеречного (угол зрения до 180 градусов) и дневного (угол зрения около 30—60 градусов) зрения для обогащения впечатлений и знаний о натуре. Идеи "расширенного смотрения" применялись художником в его направлении, пространственный реализм, созданного в 1916 — 1926 годах. По сути – все тот же проход сквозь тернии в будущее – с новым взглядом.
В период работы Матюшина в ГИНХУКе (где он заведовал отделом органической культуры, а Татлин – другим отделом, а директором у них был Малевич) группа «Зорвед» проводила исследования в области воздействия цвета на наблюдателя. Михаилом Матюшиным и его учениками были сделаны выводы о некоторых общих закономерностях изменяемости цвета и формы:
Цвет играет формообразующую роль: теплый цвет «смягчает», округляет острую форму, холодный цвет округлую форму — заостряет.
Изменение цвета и формы в зависимости от расширения угла зрения.
Усиление цветности формы и среды при условии движения этой формы в данной среде.
Изменение цвета во времени, когда огромную роль играет дополнительный цвет, вызывающий в свою очередь второй дополнительный, третий и т. д. (дополнительным Матюшин называет цвет индукции).
Роль движения в повышении энергии цветности.
Возникновение между цветным объектом и средой, в которую он помещен, третьего цвета — сцепляющего. Он разрешает сложные пространственные соотношения цветов, уравновешивает их на живописной плоскости, дает объемную выразительность без употребления светотени, очищает цвета, создавая их свечение.»
Так же известно, что выводы из опытов фиксировались на таблицах, которые экспонировались на отчетных выставках отдела в ГИНХУКе в 1924, 1925, 1926 годах. Специально для показа за границей были выполнены планшеты. Последние таблицы-выводы были сделаны в 1930 году для выставки в Ленинградском Доме искусств. В 1932 году был издан «Справочник по цвету». Эти исследования легли в основу органического направления в русском авангарде XX века.
Вот как. А всего лишь начали с посиделок за столом у семьи Матюшина с хулиганами Бурлюками да Хлебниковым.
У нас за спиной – фантастическая история искусства. И мы ничего не забудем. Хотя бы потому, что мы живем в том будущем, о котором они мечтали.
Игорь Мальцев.
«Исступленному городу дуговых ламп, обрызганным телами улицам, жмущимся домам — мы принесли раскрашенное лицо: старт дан, и дорожка ждет бегунов.
Созидатели, мы пришли не разрушить строительство, но прославить и утвердить. Наша раскраска ни вздорная выдумка, ни возврат — неразрывно связана она со складом нашей жизни и нашего ремесла.
Заревая песнь о человеке, как горнист перед боем, призывает она к победам над землей, лицемерно притаившейся под колесами до часа отмщения, и спавшие орудия проснулись и плюют на врага.
Обновленная жизнь требует новой общественности и нового проповедничества. Наша раскраска — первая речь, нашедшая неведомые истины. И пожары, учиненные ею, говорят, что прислужники земли не теряют надежды спасти старые гнезда, собрали все силы на защиту ворот, столпились, зная, что с первым забитым мячом мы — победители.
Ход искусства и любовь к жизни руководили нами. Верность ремеслу поощряет нас, борющихся. Стойкость немногих дает силы, которых нельзя одолеть.»
Ух, пробирает до костей. Как хорошая поэзия. Но, чтобы не тратить место на нашем сайте, мы полностью выложили текст на паблишинговой платформе (1).
На самом деле выдающийся русский авангардист Михаил Ларионов пишет тут вроде бы про свою новую акцию – когда художники его круга раскрашивали друг другу лица – в буквальном смысле слова – словно наносили боевую раскраску как примитивные племена в джунглях далеких стран. А с другой стороны – описывает пришедший в Россию новый небывалый стиль – «футуризм». На что, собственно, указывает пассаж: «Исступленному городу дуговых ламп, обрызганным телами улицам, жмущимся домам». Это же ответ на «Обоснование и манифест футуризма», который опубликовал беглый итальянец Филиппо Томмазо Маринетти в парижской газете «Фигаро» в 1909м году. Там были такие строки: «мы будем воспевать дрожь и ночной жар арсеналов и верфей, освещённых электрическими лунами». Да – электричество тогда было невероятным прорывом в будущее, отсюда столько художественного внимания к его искусственному свету. А дальше в манифесте содержится много букв, которые могут шокировать нынешнего читателя, привыкшего метаться между обтекаемыми политкорректными формулировками в официальных источниках и хейт-спичами в социальных сетях и даже не видит в этом никакого противоречия.
«Красота может быть только в борьбе. Никакое произведение, лишённое агрессивного характера, не может быть шедевром. Поэзию надо рассматривать как яростную атаку против неведомых сил, чтобы покорить их и заставить склониться перед человеком.
Мы будем восхвалять войну — единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и презрение к женщине.
Мы разрушим музеи, библиотеки, учебные заведения всех типов, мы будем бороться против морализма, феминизма, против всякой оппортунистической или утилитарной трусости.
Группа Sex Pistols – икона панк-движения 1970х рядом – просто детский утренник в сельском клубе рядом с таким манифестом.
Казалось бы, после такой заявки футуристическое искусство должно было бы являть какой то страх и ужас и апофеоз траншейной войны в стиле Отто Дикса и всех немецких экспрессионистов сразу – чтобы захотелось пойти и смыть в душе копоть разорвавшихся снарядов. И подать сантим ветерану Первой Мировой с оторванными ногами на углу Шонхаузер Аллее. Но таки нет – футуризм оказался удивительно ярким, по настоящему красивым и динамичным искусством. Которое предрекло миллион новых решений, что придут потом с новыми, в том числе - электронными технологиями. Когда первое, что хочется спросить – как автор своими человеческими глазами так смог проанализировать движение тел механизмов и природы, не имея технологии мультикамерной съемки, быстрых компьютеров, дронов и «Луны-25»? Оказывается – может. Футуристы были одними из многих авангардных направлений, которые, несмотря на всю свою грозную риторику («война, разрушим, борьба, умереть» и тд) вдруг показали, что человек может всё. И за человеком – будущее. Именно поэтому в России футуристы почти поголовно встали на сторону революции.
И да – знаменитое «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с парохода современности» - это манифест русских футуристов. И что – кто реально попытался отменить Пушкина с Достоевским? Это точно были не мы, а наши нынешние враги.
Даже Маяковский решил, что теперь он футурист и вырядился в дурацкую желтую кофту и повесил себе на грудь натуральную морковочку. Эти странные кофты вообще были must have каждого, кто представлял себя русским футуристом. Как писала «Петроградская газета» в 1915 году: «Среди присутствовавшей на вечере «Студии Вс. Мейерхольда» публики обращали на себя внимание несколько футуристов, из которых один был, несомненно, «гвоздем» вечера. Этот господин гулял по залу в каком-то вычурном жакете и полосатых брюках. Поверх костюма футурист повесил на себя длиннейшую дамскую панцирную золотую цепочку для часов. В довершение всего в руках у этого субъекта была огромная дамская муфта «под соболь», с которой он не расставался весь вечер».
Ну, вы уже поняли, что в наше время, как бы ты не вырядился, до тебя это сделал сто двадцать лет назад какой-нибудь художник и не один. Какую бы дамскую сумку ты не перекинул через свое мужское плечо, думая, что ты - невероятно оригинальный, с этой сумочкой по Невскому уже гулял футурист в 1915 году.
Потому что футуризм, как таковой, был не просто палитрой красок и ворохом линий, это было новое мировоззрение – философия общества, нацеленного в будущее. Именно поэтому футуристические взгляды во многом совпали с идеями большевистской революции 1917 года. А в Италии – с идеями итальянского фашизма, который тогда был враждебен становлению немецкого национал-социализма. А потом эти идеи подхватили и национал -социалисты. Это весьма тонкий лед, но именно эти внутренние течения показывают, например несостоятельность риторики новых левых «снежинок, радуг и единорогов», которые на свой манер калечат историю, промывая мозги публике насчет того – кто «правый», а кто - «левый». И это – отдельный разговор. На который мы не будем звать представителей эко-террористов «Последнего поколения» и «Пятница за будущее».
Иногда и там, и там работали одни и те же авторы, либо авторы, связанные друг с другом дружбой и солидарностью поверх государственных границ – у них была своя, отдельная от лидеров идеология. Они сами себе были лидерами.
За стремление быть лидером очень сильно доставалось именно Михаилу Ларионову. И с Владимиром Татлиным он разругался примерно та той же почве. И в расколе группы «Бубновый валет» его обвиняли – дескать он хотел сам возглавить какую-нибудь яркую и громкую группу художников. У него получилось творческое объединение «Ослиный хвост». Он сам прошел очень быструю эволюцию во всех модных жанрах и в конце концов придумал «лучизм» - одну из самых ранних форм абстрактного искусства.
Абстрактная живопись вообще одно из самых сложных видов живописи, хотя бы потому что обычно публика не в состоянии отличить реально выдающееся произведение от самой банальной халтуры. Но есть один принцип – реальное абстрактное искусство никогда ничего не берет «с потолка» - а подчиняется строжайшим законам живописи, физическим законам, законам построения света и цвета, композиции и линии с пятном.
Почему «лучизм»? потому что работы Ларионова – созданы по законам отражения лучей света от физических поверхностей. То, есть строго по физике. Потому что, если кошка ударит лапой по клавишам, то авангардной музыки не получится – авангард в музыке еще более подчиняется законам, в том числе и физическим – законам формирования и прохождения звука. Так что, казалось бы, внеполитический, абстрактный лучизм Ларионова – это лаборатория новых возможностей красок, цвета, композиции – и это все было использовано потом уже и в так называемом идеологическом, агитационном, пропагандистском искусстве – в том числе и в оформлении большевистских праздников. Хотя сам Ларионов, будучи раненным офицером в Первую мировую, вместе с женой переместился в Париж, и в самой революции совсем не участвовал. Ни с какой стороны.
Но в 1907м году Ларионов с своей женой Наталией Гончаровой привлекли братьев Бурлюков – Давида и Владимира к созданию группы «Венок – Стефанос», где были также Аристарх Лентулов, Александра Экстер, Владимир Баранов-Россине. Все они – радикальное крыло, противопоставившее себя группе «Голубая Роза» с ее русско-французской тусовкой эстета Николая Рябушинского. А потом Бурлюкам и этого радикализма стало маловато. В конце концов они и стали первыми русскими футуристами, а вовсе не автор «Манифеста» Ларионов. Про Бурлюков мы расскажем отдельно.
Но нельзя пройти мимо кубофутуристов-«будетлян», которые собрались вокруг художника и музыканта Михаила Матюшина в Питере. Матюшин был не просто «музыкантом» - он, на минуточку, скрипка Придворного оркестра русского царя. А в 1908-1910 начал вместе с женой собирать у себя дома фантастических персонажей – Велемира Хлебникова, Давида Бурлюка, Василия Каменского. И словечко «будетлянин», которое придумал уникальный писатель-поэт Хлебников идеальный перевод слова «футурист» - человек обращенный в будущее -которое «будет». Вы все еще тут, а будетлянин он уже практически «там» в будущем – всеми мыслями и талантом. Ну, а телом тут, с нами за столом у Михаила Матюшина в квартире на улице Песочной. Матюшин организовал издательство и опубликовал около двадцати футуристических трудов. И он, будучи очень глубоким и образованным человеком, воспользовался новым течением для того, чтобы проработать еще глубже принципы света, цвета, формы в произведениях искусства. Более того – он развивал теорию «расширенного смотрения». Помимо духовного аспекта теория расширенного смотрения включает в себя идею объединения сумеречного (угол зрения до 180 градусов) и дневного (угол зрения около 30—60 градусов) зрения для обогащения впечатлений и знаний о натуре. Идеи "расширенного смотрения" применялись художником в его направлении, пространственный реализм, созданного в 1916 — 1926 годах. По сути – все тот же проход сквозь тернии в будущее – с новым взглядом.
В период работы Матюшина в ГИНХУКе (где он заведовал отделом органической культуры, а Татлин – другим отделом, а директором у них был Малевич) группа «Зорвед» проводила исследования в области воздействия цвета на наблюдателя. Михаилом Матюшиным и его учениками были сделаны выводы о некоторых общих закономерностях изменяемости цвета и формы:
Цвет играет формообразующую роль: теплый цвет «смягчает», округляет острую форму, холодный цвет округлую форму — заостряет.
Изменение цвета и формы в зависимости от расширения угла зрения.
Усиление цветности формы и среды при условии движения этой формы в данной среде.
Изменение цвета во времени, когда огромную роль играет дополнительный цвет, вызывающий в свою очередь второй дополнительный, третий и т. д. (дополнительным Матюшин называет цвет индукции).
Роль движения в повышении энергии цветности.
Возникновение между цветным объектом и средой, в которую он помещен, третьего цвета — сцепляющего. Он разрешает сложные пространственные соотношения цветов, уравновешивает их на живописной плоскости, дает объемную выразительность без употребления светотени, очищает цвета, создавая их свечение.»
Так же известно, что выводы из опытов фиксировались на таблицах, которые экспонировались на отчетных выставках отдела в ГИНХУКе в 1924, 1925, 1926 годах. Специально для показа за границей были выполнены планшеты. Последние таблицы-выводы были сделаны в 1930 году для выставки в Ленинградском Доме искусств. В 1932 году был издан «Справочник по цвету». Эти исследования легли в основу органического направления в русском авангарде XX века.
Вот как. А всего лишь начали с посиделок за столом у семьи Матюшина с хулиганами Бурлюками да Хлебниковым.
У нас за спиной – фантастическая история искусства. И мы ничего не забудем. Хотя бы потому, что мы живем в том будущем, о котором они мечтали.
Игорь Мальцев.
Гараж, приснившийся поэту
История триумфального появления “обнаженной и суровой” красоты молодого советского государства в центре Парижа началась 28 октября 1924 года. Именно в этот день председателю ЦИК М. И. Калинину (он же всесоюзный староста, он же «дедушка Калинин») от имени Совета министров Франции поступила телеграмма, которая положила начало официальному установлению дипломатических отношений между СССР и Францией.
И уже в ноябре Советскому Союзу пришло приглашение принять участие в Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств, открывающейся в Париже весной 1925 года. Так, на первой для СССР международной выставке, давшей начало течению ар-деко (от сокращения слов Arts Décoratifs в названии), возникли архитектурные объекты, явившие собой образец авангарда и конструктивизма и в полной мере выполнившие свою миссию по знакомству мирового сообщества с новым советским государством. Устроители заявляли, что выставка открыта для всех производителей, чья продукция носит художественный характер и четко демонстрирует современные тенденции. После трагедий Первой мировой войны задано четкое направление: отказ от классики, только «новое» искусство.
По сути заявка на небывалую мощность будущего проекта поступила от самих же французов - в телеграмме от 30 октября 1924 года на имя заместителя наркома иностранных дел Г.В. Чичерина от министра иностранных дел Франции Эдуара Эррио есть такие слова: «не существует народов, более предназначенных для взаимного понимания, чем французский народ, преисполненный чувства справедливости и братства, и великий русский народ, достойные качества которого я сам лично имел возможность оценить». Одним из таких национальных качеств, как мы все знаем из русских сказок и личного опыта, является способность к выполнению невыполнимых заданий в кратчайшие сроки.
Вряд ли именно это имел ввиду Эррио, говоря о наших особенностях, но перед руководством страны и исполнителями стояла тяжелая задача - первое выступление молодой страны на международной арене, тем более такое наглядное и легко сопоставимое визуально с остальными странами, надо было подготовить тщательно и срочно.18 ноября 1924 года Выставочным комитетом советского отдела был объявлен закрытый конкурс на проект павильона СССР, в котором приняли участие представители неоклассики и авангарда: архитекторы В. А. Щуко, И. А. Фомин, братья Веснины, Н. А. Ладовский, Н. В. Докучаев, В. Ф. Кринский, И. А. Голосов, М. Я. Гинзбург, К. С. Мельников и группа выпускников ВХУТЕМАСа.
Сжато от конкурсантов требовалось, чтобы павильон «был спроектирован в духе чисто современной архитектуры, а идеологически отражал идею СССР как рабоче-крестьянского трудового государства и как братского союза отдельных народностей». В итоге, уже через месяц жюри, во главе с А.В. Луначарским и при участии В.В. Маяковского признали лучшим проект Константина Степановича Мельникова, лидера авангардного направления в архитектуре. За год до этого Мельников буквально гремит своим павильоном Махорочного синдиката для Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. В строении для французской столицы он развивает начатые идеи для “Махорки”. Красоте и жизненной молодости Парижа Мельников по своим же словам решил показать красоту “суровую и обнаженную, возникшую в нашей жизни”. В идеологическом плане павильон должен был представить миру новый советский политический строй, облекшийся в архитектурную форму.
Возводить строение, о котором тут же среди архитекторов и знающей публики Парижа покатились слухи, вызвалась крупнейшая французская контора “Perret frères”, специализировавшаяся тогда на строительстве из железобетона. Один из основателей фирмы - Огюст Перре в 1931 году примет участие в конкурсе по проекту Дворца советов в СССР, а после Второй Мировой войны будет восстанавливать разрушенный исторический центр Гавра. Братья Перре предусмотрительно посчитали, что работа над советским павильоном в Париже станет для их фирмы прекрасной рекламой. Тем более, что главный архитектор выставки Бонье сразу обратил внимание на дерзкий замысел и нестандартность проекта. Работа по монтажу заняла один месяц под надзором Мельникова.
В 1925 году выставка проходила на двух сторонах Сены вокруг моста имени русского царя Александра III. Для более авангардных и радикальных павильонов было выделено место у Большого дворца. Рядом с советским расположились здания «Эспри Нуво» Ле Корбюзье, английский «Туризм» Р. Малле-Стивенса и итальянский старомодный павильон работы Бразини. Сам же Корбюзье считал, что единственным павильоном на который стоит смотреть на Парижской выставке был именно мельниковский. И явно вдохновлялся советским авангардом при строительстве своего “Эспри Нуво”.
Итак, наш павильон представлял собой лёгкую деревянную каркасную двухэтажную постройку. Наружные стены по большей части были остеклены. Прямоугольный павильон по диагонали перерезала открытая лестница, ведущая на второй этаж. Над лестницей привлекало внимание перекрытие в виде наклонных перекрещивающихся деревянных плит, по которым шли начертанные А. Родченко агитационные надписи. Справа была сооружена вышка-мачта, на вершине которой был установлен серп, молот и буквы СССР. Авторское решение по объему строения позволяло пропускать большой поток гостей и контролировать доступ в залы.
Отметим, что международный дебют архитектуры революционного авангарда создавался не только под давлением политических и общественных обстоятельств, но Мельников должен был учесть особенности участка для его строительства. Через небольшую площадку, выделенную организаторами, шли трамвайные пути, которые по закону было невозможно демонтировать. Поэтому павильон был ограничен не только горизонтально (29.5 * 11 метров), но и вертикально, а следовательно пришлось обойтись без фундамента. Оставалось строить на фундаменте идеологическом.
О своей работе автор говорил так: «Эта стеклянная коробка не есть плод абстрактной идеи. Меня вела за собой сама жизнь, я приспосабливался к обстоятельствам. Прежде всего, я исходил из расположения доставшегося мне участка - участка, окруженного деревьями: надо было, чтобы мой домина резко выделялся среди их беспорядочной массы цветом, высотой, искусным сочетанием форм. Мои средства были весьма скудны: это ограничивало выбор материалов. Я хотел, чтобы в павильоне было как можно больше воздуха и света: таково мое личное пристрастие, но, я думаю, оно отражает устремления всего нашего народа. Проходя мимо павильона, не каждый заходит вовнутрь. Но все, так или иначе, увидят, что выставлено в моем павильоне, благодаря стеклянным стенам и лестнице, раскрывающейся навстречу толпе, проходящей сквозь павильон и позволяющей к тому же обозреть весь его сверху. Что же касается возвышающихся над ней перекрестных диагональных плоскостей, так пусть они разочаровывают любителей плотно закупоренных крышек! Крыша не хуже любой другой: она сложена так, чтобы пропускать воздух и защищать от дождя, с какой бы стороны он ни хлестал. Мой павильон и не должен простоять так же долго, как Советы; достаточно того, чтобы он додержался до закрытия выставки. Короче говоря, четкостью цвета, простотой линий, обилием воздуха и света этот павильон, необычность которого может нравиться или не нравиться, схож со страной, откуда я прибыл. Но не подумайте, бога ради, что я намеренно соорудил символ».
“… никакой современный материал (строительный) не может перекричать застенчивого шепота искусства” - это тоже слова Мельникова, произнесенные подруге - поэту Татьяне Глушковой. И пока на противоположной стороне Сены расцветал французский ар-деко - камерные павильоны с уступчатым силуэтом, каннелированными пилястрами и уплощенными фантазийно-геометрическими барельефами, внимание парижан и гостей выставки было направлено на острую, динамичную объемно-пространственную композицию СССР, выделяющуюся на эклектическом фоне.
Вместе с объемными эффектами архитектором была использована красно-серо-белая цветовая гамма. Проект этого цветового решения был разработан еще одним гением - А. Родченко. Цветовая гамма конструктивизма применялась им во многих проектах - в полиграфии, в оформлении интерьеров. Но Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств в Париже стала звездным часом конструктивизма и признания Родченко на мировом уровне.
А. Блок, Р. Брокар в статье от 1925 года “Оригинальность советского павильона” отмечали: «...молодая республика, недавно признанная Францией, сумела сохранить предельную разумность на выставке, где здравый смысл подчас изменяет участникам в угоду тщеславию и самолюбию. На фоне примитивного нагромождения палаток парижской ярмарки и тяжеловесной роскоши выставочных дворцов она преподаёт урок эстетической красоты».
Новаторство в архитектуре, особенно по сравнению с европейскими эклектичными зданиями, диктовало и новый характер выставочной экспозиции. Открытая обзорность, монтаж экспонатов на панно с использованием цветовой гаммы, предложенной Родченко в соответствии с профилем секции - текстиль, полиграфия, и прочее, натурно-объемная демонстрация в открытых и застекленных витринах и на стендах.
“Обнажённая конструкция, поставленная в пространстве и обеспечивающая максимум обозрения» — писал о павильоне искусствовед В. Жорж. Илья Эренбург, чье тонкое описание мельниковского строения мы поставили в качестве заголовка, в 1926 году пишет роман “Лето 1925 года”, куда включает эпизод, свидетельствующий, что «мода на Мельникова докатилась до самых широких слоев падких на любую новинку парижан, стала приметой времени и молвой улицы: случайная прохожая называет своему спутнику самые острые на её взгляд признаки современности — футбол, джаз, павильон, выстроенный Мельниковым…». Сердца парижанок открылись навстречу новому советскому искусству, почувствовав легкость, невесомость, актуальность и революционную эстетичность.
Павильон СССР был торжественно открыт 4 июня 1925 года. В ультрасовременном здании посетители знакомились с удивительным многообразием предметов народного творчества в отделе национальностей, Госиздат и Госторг демонстрировали свои экспозиции на втором этаже. В оформлении интерьеров участвовал Александр Родченко и театральный художник Исаак Рабинович. Автор мозаики наземного вестибюля метро “Павелецкая” в дальнейшем продолжил работу с советским павильоном на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. В 1925 он отказался от привычных громоздких стеллажей для показа книг и предложил взглянуть на книжные стенды по-новому: легкие настенные витрины-стеллажи, напольные наклонные витрины и пристенные вертушки. Родченко же активно работал над “Рабочим уголком”, его авангардная классика рекламы, которую они создавали с Маяковским (оба же входили в отборочную комиссию для парижской выставки) также отправилась на экспозиции.
А ведь были еще залы в Гран Пале, раздел на эспланаде Инвалидов с избой-читальней, каталоги с обложками того же Родченко, кинопоказы Ветрова, Эйзенштейна и космос “Аэлиты”, русский театр, который вышел на уровень русской литературы и музыки для остального мира именно тогда, Надежда Ламанова - модельер, представлявший не себя лично, и это сейчас надо объяснять, а Московскую кустарно-экспортную контору, впечатавшийся в сознание европейцев яркий образ народно-прикладного творчества с палехскими шкатулками, балалайками и азербайджанскими коврами,Татлин с Башней, Малевич и не только на фарфоре, целых 26 бакинских комиссаров, спектакль “Жирофле-Жирофля”, повлиявший на Дягилева так, что он заказывает тогда же у Георгия Якулова сценографию “большевистского” балета “Стальной скок”. И саркофаг для Мавзолея Владимира Ильича Ленина.
Новому советскому государству было нечего прятать от старомодных капиталистов. Своей открытостью, прозрачностью и легкостью, за которой виднеется сила, они обращались к молодым европейцам с горячим сердцем и лабильным мышлением. Ни в коем случае, не игнорируя тех, кто пройдя Первую мировую войну, привык относится ко всему прямо. Без особых сантиментов. Для этого обращения вовне, в старый мир, новое государство выбрало авангард.
Но за этими открытыми красными и серыми советскими деревянными “Окнами” Париж увидел загадочную русскую шкатулку, открыв которую, можно было увидеть по-настоящему лесковские чудеса - от космоса до саркофага. Гараж, приснившийся поэту Константину Степановичу Мельникову.
Первопроходцу «мягкой силы» советской пропаганды.
Мария Мальцева-Самойлович
И уже в ноябре Советскому Союзу пришло приглашение принять участие в Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств, открывающейся в Париже весной 1925 года. Так, на первой для СССР международной выставке, давшей начало течению ар-деко (от сокращения слов Arts Décoratifs в названии), возникли архитектурные объекты, явившие собой образец авангарда и конструктивизма и в полной мере выполнившие свою миссию по знакомству мирового сообщества с новым советским государством. Устроители заявляли, что выставка открыта для всех производителей, чья продукция носит художественный характер и четко демонстрирует современные тенденции. После трагедий Первой мировой войны задано четкое направление: отказ от классики, только «новое» искусство.
По сути заявка на небывалую мощность будущего проекта поступила от самих же французов - в телеграмме от 30 октября 1924 года на имя заместителя наркома иностранных дел Г.В. Чичерина от министра иностранных дел Франции Эдуара Эррио есть такие слова: «не существует народов, более предназначенных для взаимного понимания, чем французский народ, преисполненный чувства справедливости и братства, и великий русский народ, достойные качества которого я сам лично имел возможность оценить». Одним из таких национальных качеств, как мы все знаем из русских сказок и личного опыта, является способность к выполнению невыполнимых заданий в кратчайшие сроки.
Вряд ли именно это имел ввиду Эррио, говоря о наших особенностях, но перед руководством страны и исполнителями стояла тяжелая задача - первое выступление молодой страны на международной арене, тем более такое наглядное и легко сопоставимое визуально с остальными странами, надо было подготовить тщательно и срочно.18 ноября 1924 года Выставочным комитетом советского отдела был объявлен закрытый конкурс на проект павильона СССР, в котором приняли участие представители неоклассики и авангарда: архитекторы В. А. Щуко, И. А. Фомин, братья Веснины, Н. А. Ладовский, Н. В. Докучаев, В. Ф. Кринский, И. А. Голосов, М. Я. Гинзбург, К. С. Мельников и группа выпускников ВХУТЕМАСа.
Сжато от конкурсантов требовалось, чтобы павильон «был спроектирован в духе чисто современной архитектуры, а идеологически отражал идею СССР как рабоче-крестьянского трудового государства и как братского союза отдельных народностей». В итоге, уже через месяц жюри, во главе с А.В. Луначарским и при участии В.В. Маяковского признали лучшим проект Константина Степановича Мельникова, лидера авангардного направления в архитектуре. За год до этого Мельников буквально гремит своим павильоном Махорочного синдиката для Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. В строении для французской столицы он развивает начатые идеи для “Махорки”. Красоте и жизненной молодости Парижа Мельников по своим же словам решил показать красоту “суровую и обнаженную, возникшую в нашей жизни”. В идеологическом плане павильон должен был представить миру новый советский политический строй, облекшийся в архитектурную форму.
Возводить строение, о котором тут же среди архитекторов и знающей публики Парижа покатились слухи, вызвалась крупнейшая французская контора “Perret frères”, специализировавшаяся тогда на строительстве из железобетона. Один из основателей фирмы - Огюст Перре в 1931 году примет участие в конкурсе по проекту Дворца советов в СССР, а после Второй Мировой войны будет восстанавливать разрушенный исторический центр Гавра. Братья Перре предусмотрительно посчитали, что работа над советским павильоном в Париже станет для их фирмы прекрасной рекламой. Тем более, что главный архитектор выставки Бонье сразу обратил внимание на дерзкий замысел и нестандартность проекта. Работа по монтажу заняла один месяц под надзором Мельникова.
В 1925 году выставка проходила на двух сторонах Сены вокруг моста имени русского царя Александра III. Для более авангардных и радикальных павильонов было выделено место у Большого дворца. Рядом с советским расположились здания «Эспри Нуво» Ле Корбюзье, английский «Туризм» Р. Малле-Стивенса и итальянский старомодный павильон работы Бразини. Сам же Корбюзье считал, что единственным павильоном на который стоит смотреть на Парижской выставке был именно мельниковский. И явно вдохновлялся советским авангардом при строительстве своего “Эспри Нуво”.
Итак, наш павильон представлял собой лёгкую деревянную каркасную двухэтажную постройку. Наружные стены по большей части были остеклены. Прямоугольный павильон по диагонали перерезала открытая лестница, ведущая на второй этаж. Над лестницей привлекало внимание перекрытие в виде наклонных перекрещивающихся деревянных плит, по которым шли начертанные А. Родченко агитационные надписи. Справа была сооружена вышка-мачта, на вершине которой был установлен серп, молот и буквы СССР. Авторское решение по объему строения позволяло пропускать большой поток гостей и контролировать доступ в залы.
Отметим, что международный дебют архитектуры революционного авангарда создавался не только под давлением политических и общественных обстоятельств, но Мельников должен был учесть особенности участка для его строительства. Через небольшую площадку, выделенную организаторами, шли трамвайные пути, которые по закону было невозможно демонтировать. Поэтому павильон был ограничен не только горизонтально (29.5 * 11 метров), но и вертикально, а следовательно пришлось обойтись без фундамента. Оставалось строить на фундаменте идеологическом.
О своей работе автор говорил так: «Эта стеклянная коробка не есть плод абстрактной идеи. Меня вела за собой сама жизнь, я приспосабливался к обстоятельствам. Прежде всего, я исходил из расположения доставшегося мне участка - участка, окруженного деревьями: надо было, чтобы мой домина резко выделялся среди их беспорядочной массы цветом, высотой, искусным сочетанием форм. Мои средства были весьма скудны: это ограничивало выбор материалов. Я хотел, чтобы в павильоне было как можно больше воздуха и света: таково мое личное пристрастие, но, я думаю, оно отражает устремления всего нашего народа. Проходя мимо павильона, не каждый заходит вовнутрь. Но все, так или иначе, увидят, что выставлено в моем павильоне, благодаря стеклянным стенам и лестнице, раскрывающейся навстречу толпе, проходящей сквозь павильон и позволяющей к тому же обозреть весь его сверху. Что же касается возвышающихся над ней перекрестных диагональных плоскостей, так пусть они разочаровывают любителей плотно закупоренных крышек! Крыша не хуже любой другой: она сложена так, чтобы пропускать воздух и защищать от дождя, с какой бы стороны он ни хлестал. Мой павильон и не должен простоять так же долго, как Советы; достаточно того, чтобы он додержался до закрытия выставки. Короче говоря, четкостью цвета, простотой линий, обилием воздуха и света этот павильон, необычность которого может нравиться или не нравиться, схож со страной, откуда я прибыл. Но не подумайте, бога ради, что я намеренно соорудил символ».
“… никакой современный материал (строительный) не может перекричать застенчивого шепота искусства” - это тоже слова Мельникова, произнесенные подруге - поэту Татьяне Глушковой. И пока на противоположной стороне Сены расцветал французский ар-деко - камерные павильоны с уступчатым силуэтом, каннелированными пилястрами и уплощенными фантазийно-геометрическими барельефами, внимание парижан и гостей выставки было направлено на острую, динамичную объемно-пространственную композицию СССР, выделяющуюся на эклектическом фоне.
Вместе с объемными эффектами архитектором была использована красно-серо-белая цветовая гамма. Проект этого цветового решения был разработан еще одним гением - А. Родченко. Цветовая гамма конструктивизма применялась им во многих проектах - в полиграфии, в оформлении интерьеров. Но Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств в Париже стала звездным часом конструктивизма и признания Родченко на мировом уровне.
А. Блок, Р. Брокар в статье от 1925 года “Оригинальность советского павильона” отмечали: «...молодая республика, недавно признанная Францией, сумела сохранить предельную разумность на выставке, где здравый смысл подчас изменяет участникам в угоду тщеславию и самолюбию. На фоне примитивного нагромождения палаток парижской ярмарки и тяжеловесной роскоши выставочных дворцов она преподаёт урок эстетической красоты».
Новаторство в архитектуре, особенно по сравнению с европейскими эклектичными зданиями, диктовало и новый характер выставочной экспозиции. Открытая обзорность, монтаж экспонатов на панно с использованием цветовой гаммы, предложенной Родченко в соответствии с профилем секции - текстиль, полиграфия, и прочее, натурно-объемная демонстрация в открытых и застекленных витринах и на стендах.
“Обнажённая конструкция, поставленная в пространстве и обеспечивающая максимум обозрения» — писал о павильоне искусствовед В. Жорж. Илья Эренбург, чье тонкое описание мельниковского строения мы поставили в качестве заголовка, в 1926 году пишет роман “Лето 1925 года”, куда включает эпизод, свидетельствующий, что «мода на Мельникова докатилась до самых широких слоев падких на любую новинку парижан, стала приметой времени и молвой улицы: случайная прохожая называет своему спутнику самые острые на её взгляд признаки современности — футбол, джаз, павильон, выстроенный Мельниковым…». Сердца парижанок открылись навстречу новому советскому искусству, почувствовав легкость, невесомость, актуальность и революционную эстетичность.
Павильон СССР был торжественно открыт 4 июня 1925 года. В ультрасовременном здании посетители знакомились с удивительным многообразием предметов народного творчества в отделе национальностей, Госиздат и Госторг демонстрировали свои экспозиции на втором этаже. В оформлении интерьеров участвовал Александр Родченко и театральный художник Исаак Рабинович. Автор мозаики наземного вестибюля метро “Павелецкая” в дальнейшем продолжил работу с советским павильоном на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. В 1925 он отказался от привычных громоздких стеллажей для показа книг и предложил взглянуть на книжные стенды по-новому: легкие настенные витрины-стеллажи, напольные наклонные витрины и пристенные вертушки. Родченко же активно работал над “Рабочим уголком”, его авангардная классика рекламы, которую они создавали с Маяковским (оба же входили в отборочную комиссию для парижской выставки) также отправилась на экспозиции.
А ведь были еще залы в Гран Пале, раздел на эспланаде Инвалидов с избой-читальней, каталоги с обложками того же Родченко, кинопоказы Ветрова, Эйзенштейна и космос “Аэлиты”, русский театр, который вышел на уровень русской литературы и музыки для остального мира именно тогда, Надежда Ламанова - модельер, представлявший не себя лично, и это сейчас надо объяснять, а Московскую кустарно-экспортную контору, впечатавшийся в сознание европейцев яркий образ народно-прикладного творчества с палехскими шкатулками, балалайками и азербайджанскими коврами,Татлин с Башней, Малевич и не только на фарфоре, целых 26 бакинских комиссаров, спектакль “Жирофле-Жирофля”, повлиявший на Дягилева так, что он заказывает тогда же у Георгия Якулова сценографию “большевистского” балета “Стальной скок”. И саркофаг для Мавзолея Владимира Ильича Ленина.
Новому советскому государству было нечего прятать от старомодных капиталистов. Своей открытостью, прозрачностью и легкостью, за которой виднеется сила, они обращались к молодым европейцам с горячим сердцем и лабильным мышлением. Ни в коем случае, не игнорируя тех, кто пройдя Первую мировую войну, привык относится ко всему прямо. Без особых сантиментов. Для этого обращения вовне, в старый мир, новое государство выбрало авангард.
Но за этими открытыми красными и серыми советскими деревянными “Окнами” Париж увидел загадочную русскую шкатулку, открыв которую, можно было увидеть по-настоящему лесковские чудеса - от космоса до саркофага. Гараж, приснившийся поэту Константину Степановичу Мельникову.
Первопроходцу «мягкой силы» советской пропаганды.
Мария Мальцева-Самойлович
Свет Родченко
Удивительное дело: чем больше фотография входит в нашу жизнь, тем меньше мы вспоминаем о вкладе России и наших авторов в ее развитие. Например, мы очень мало говорим, об Александре Родченко, превратившем фотографию не только в авангардное искусство, но и в мощнейший инструмент пропаганды.
А ведь сегодня вся повседневная жизнь пронизана фотографией. Мечта ранних революционных визионеров о том, что буквально каждый советский человек овладеет искусством фотографии стала явью, правда, совсем не тем образом, каким они предполагали. Сейчас каждый владелец телефона только и делает, что снимает и распространяет по собственным контактам сотни и тысячи фотографий и похоже, даже не задумывается об этом. Потрясающе сложна электронная фотография, которая уже даже и не фотография, а часть короткого видео, превратила процесс изготовления изображения в ошеломительно примитивное действие. И из этого действия ушло главное – мысль. Процесс обдумывания, отбор, критический подход. Ничего этого нет. А зачем? Нажми на кнопку – получишь результат.
Но миллионы мартышек, стучащих по клавиатуре пишущей машинки или компьютера даже за миллион лет не смогут написать ни одного пушкинского стихотворения. Мы уже наблюдаем этот нелицеприятный для человечества процесс. Миллионы фотоизображений, продуцируемых каждый час и минуту в этом мире- это просто мусор и, в лучшем случае, имеют какое-то значение только для нажимателя кнопки.
Это видно становится особенно ярко во время критических событий. Сегодня у события – будь то природный катаклизм, теракт, разгон демонстрации, прилет беспилотника или, может быть, даже НЛО – много свидетелей и буквально у каждого в руках – фотоаппарат в телефоне. А случись что – нормальных кадров просто нет – ни фото, ни видео. Агентствам и блогам приходится давать читателю какие-то размазанные картинки, а уж совсем классика – ноги удирающего с места опасного события автора фото/видео вместо самого события. Зрителя просто укачивает, как на лодке в волну. И, чем больше снимающих на месте события, – тем хуже фотосвидетельства по качеству и информативности. До полного распада представления о событии. А красивые картиночки с конкурса «мобильного фото» оставим маркетологам и рекламщикам телефоно-производителей. В реальной жизни все совсем наоборот.
С «большими» цифровыми камерами все оказалось еще хуже. Каждый, потративший на них денег, вдруг ощущает себя мега-фотографом. И, казалось бы, к этому есть все технические предпосылки -прекрасные объективы, скоростные электронные мозги, вшитые программы для всего на свете. А главное – бесконечный запас кадров. И вот это обратилось в фото-катастрофу.
Ложное ощущение, что можно бездумно «отбарабанить» сто кадров и один из них обязательно будет пригодным, приводит к тому, что в результате нет ни одного нормального кадра вообще. Много чего есть, а смотреть нечего. Так просто не работает. Иначе можно было бы снимать видео и вырезать из него удачный кадр и считать, что это фотография. Нет. Кино и фото – два разных искусства. Похожих, родственных, но совершенно разных. Не получается сделать кадр, который мог бы стать символом. Как у того же Родченко, как у Картье-Брессона , Евгения Халдея и Игоря Мухина. Даже как у Валерия Плотникова - не получается. Это были мастера, которые считали каждый кадр своей недешевой пленки. Доступность искусства фотографии оказалась иллюзией, призраком пластикового мира массового потребления.
Сейчас довольно шокирующе выглядит приказ большевиков всем фотографам зарегистрировать негативы и снимки революции (11 окт. 1918 г. - "Все профессиональные фотографы, имеющие негативы или копии снимков, изображающие революционные события начиная с 27 февраля 1917, обязаны зарегистрировать их самое позднее до 25 октября в областном кинематографическом комитете (Сергиевская ул. 20). Неповиновение этому приказу карается штрафом в размере до 5000 рублей" - также было велено сдать в комитет по три отпечатка с каждого негатива.) Но это говорит о том, что большевики очень быстро сообразили, насколько важна фотография с точки зрения имиджа власти, пропаганды и контрпропаганды и пожелали поставить фото под контроль.
Не случайно уже спустя всего семь лет на фото-сцену выходит авангардный художник Александр Михайлович Родченко.
Выпускник Казанской художественной школы, ученик импрессиониста Николая Фешина (который в 1923 году внезапно стал американским художником) Родченко уже в 1917 м стал секретарем нового профсоюза художников-живописцев, что говорит о нем, как о весьма активном молодом человеке. И хорошо ориентирующемся в новых условиях новой жизни. Его задача была – помогать молодым художникам. В 17-м же году он впервые попробовал себя в качестве дизайнера – они работали с Татлиным, Л. Бруни, Н. Удальцовой и другими над интерьером кафе «Питтореск» в здании пассажа Сан-Галли в Москве. Мы знаем это здание теперь как Дом Художника. А Родченко сделал для кафе светильники из гнутой жести.
В то же время он продолжал строить карьеру в структурах новой власти и в 1918м был уже заведующим музейным бюро Наркомата просвещения. Как известно, наркомом просвещения был А.В. Луначарский, на которого Ленин замкнул и вопросы культуры. Сам Луначарский благоволил авангардным художникам, хотя, многие из них были гораздо левее самих большевиков. И часто нарком выступал амортизатором трений, которые возникали между новой бюрокартией и креативными товарищами.
Работа в наркомате не мешала Родченко заниматься творчеством.
Родченко создавал минималистские работы – графику, живопись, пространственные геометрические композиции. Он даже придумал термин «линиизм», опасно схожий с «ленинизмом», хотя, наверняка Родченко успел первым. Как он сам пишет: «Ввёл и объявил линию как элемент конструкции и как самостоятельную форму в живописи» (А.М. Родченко. Кто мы? (Манифест раннего конструктивизма) // Великая утопия. С.172–173).
Серия беспредметных линейных произведений была начата Родченко в августе 1919. Ну, как «беспредметных» - все, что тогда делалось, включая пространственные конструкции из картона, фанеры из прочих подручных материалов, только с точки зрения теории «абстрактны». Так или иначе, эти решения перетекали в общественное пространство в качестве элементов оформления, например, революционных праздников. То есть, выполняли сугубо пропагандистскую и агитационную задачу.
Он отсекал все лишнее для создания изображения. В очень важном для понимания природы его творчества, в том числе и последующего – фотографического- тексте «Линия» он сам пишет: ««Наконец выяснилось совершенно значение линии — с одной стороны, ее граневое и краевое отношение, и с другой — как фактора главного построения всякого организма вообще в жизни, так сказать, скелет (или основа, каркас, система). Линия есть первое и последнее, как в живописи, так и во всякой конструкции вообще. Линия есть путь прохождения, движение, столкновение, грань, скреп, соединение, разрез и т.д. В линии выяснилось новое мировоззрение — строить по существу, а не изображать, предметничать или беспредметничать, строить новые целесообразные конструктивные сооружения в жизни, а не от жизни и вне жизни». В 1919—1920 годах ввёл линии и точки как самостоятельные живописные формы, в 1921 году на выставке «5 × 5 = 25» (Москва) показал триптих из трёх монохромных цветов (жёлтый, красный, синий). Так что, господа художники и дизайнеры, все уже было, все уже написано и показано. Много-много лет назад.
В своих творческих поисках он пришел к фотоколлажу – когда оформлял книгу Маяковского «Про это». Для этого он начал много снимать сам и судя по всему, открыл, что именно фотокамера позволяет художнику «строить новые целесообразные конструктивные сооружения в жизни, а не от жизни и вне жизни». Его собственные художественные радикальные принципы позволили ему добиться в фотографии буквально шокирующих результатов. Все уже начали привыкать к тому, как обходятся с изображением новые авангардные художники, но никто не ожидал, что новые принципы можно перенести в фотографию. И тогда фото перестанет быть просто зеркалом момента реальности, а станет произведением искусства. Он работал с ракурсами , с углами зрения, точками съемки и линиями. Его идеологические противники из журнала «Советское фото» тут же обвинили его в том, что он копирует западных авторов и пытается приватизировать стиль съемки. На что в журнале «Новый Леф» Родченко отвечает в статье «Крупная безграмотность или мелкая гадость?»: «о собственности на точки может думать только безграмотный человек». И вообще – политика и идеология для Родченко были важней эстетического.
В конце 1920-х — начале 1930-х годов был фотокорреспондентом в газете «Вечерняя Москва», журналах «30 дней», «Даёшь», «Пионер», «Огонёк» и «Радиослушатель». Одновременно работал в кино (художник фильмов «Москва в Октябре», 1927, «Журналистка», 1927—1928, «Кукла с миллионами» и «Альбидум», 1928) и театре (постановки «Инга» и «Клоп», 1929), разрабатывая оригинальную мебель, костюмы и декорации. Первый фоторепортаж «Газета» был опубликован в журнале «30 дней» в 1928 году.
То есть, Родченко целиком погрузился в вихрь стремительно развивающегося общества. Все с той же позиции – что идеология важней эстетики. А в передовых инженерных умах в дискуссии по поводу той же самой фотографии – а точнее создания советских фотоапаратов и советских же фотоматериалов – пленки и бумаги- развивались опасные для большевиков идеи.
Так, председатель Российского технического общества (РТО), выдающийся инженер П. А. Пальчинский, заявил, что локомотивом технического гения страны и народа является инженерный корпус. В декабре 1926 г. в письме председателю СНК А. И. Рыкову утверждал, что «наука и техника являются более важными факторами формирования общества, чем коммунистическая идеология, что нынешнее столетие представляет собой не эпоху интернационального коммунизма, а эпоху интернациональной техники, и что не Коминтерн, а "Техинтерн" нам следует признать». Хорошо, что письмо осталось неотправленным. Потому что за такие идеи уже по головке не гладили.
И тут необходимо вспомнить, что в 1933м году Родченко отправился в секретную командировку. Он так и писал жене: «Не говори никому лишнего, что я на Беломорканале…» У него была очень важная для партии правительства задача – отснять строительство и открытие Беломоро-Балтийского канала им. Сталина. Снять таким образом, чтобы общественность и местная, и мировая ахнула от величия замысла и скорости исполнения (1931-1933 это очень быстрая стройка). И чтобы не слишком педалировать тему, что строился канал силами заключенных Белбалтлага (на базе Соловецкого лагеря особого назначения, Управление лесной промышленности ГУЛАГ). И чтобы встретить торжественно пароход «Карл Маркс» с писателями под руководством А. Горького на борту. Говорят, что опубликовано на сегодня только 30 снимков Родченко из этой командировки, хотя по его данным он отснял что-то около двух тысяч негативов.
А вообще-то борцы с левым искусством так или иначе его достали – его обвиняли в «мелкобуржуазном эстетизме» и он оставил занятия фотографией, вышел из группы «Октябрь» , которую надо было разгромить, чтобы в стране восторжествовал единый подход к искусству. Прямой и партийный. «Культура отмены» у нас уже была, когда это еще не вошло в моду среди леваков и «культурных марксистов» нового поколения – буквально в наши дни.
Но Родченко пережил все и оставался авторитетным и активным творцом до самой смерти в 1956м году.
Потому что всегда был нужен своей стране.
Игорь Мальцев.
А ведь сегодня вся повседневная жизнь пронизана фотографией. Мечта ранних революционных визионеров о том, что буквально каждый советский человек овладеет искусством фотографии стала явью, правда, совсем не тем образом, каким они предполагали. Сейчас каждый владелец телефона только и делает, что снимает и распространяет по собственным контактам сотни и тысячи фотографий и похоже, даже не задумывается об этом. Потрясающе сложна электронная фотография, которая уже даже и не фотография, а часть короткого видео, превратила процесс изготовления изображения в ошеломительно примитивное действие. И из этого действия ушло главное – мысль. Процесс обдумывания, отбор, критический подход. Ничего этого нет. А зачем? Нажми на кнопку – получишь результат.
Но миллионы мартышек, стучащих по клавиатуре пишущей машинки или компьютера даже за миллион лет не смогут написать ни одного пушкинского стихотворения. Мы уже наблюдаем этот нелицеприятный для человечества процесс. Миллионы фотоизображений, продуцируемых каждый час и минуту в этом мире- это просто мусор и, в лучшем случае, имеют какое-то значение только для нажимателя кнопки.
Это видно становится особенно ярко во время критических событий. Сегодня у события – будь то природный катаклизм, теракт, разгон демонстрации, прилет беспилотника или, может быть, даже НЛО – много свидетелей и буквально у каждого в руках – фотоаппарат в телефоне. А случись что – нормальных кадров просто нет – ни фото, ни видео. Агентствам и блогам приходится давать читателю какие-то размазанные картинки, а уж совсем классика – ноги удирающего с места опасного события автора фото/видео вместо самого события. Зрителя просто укачивает, как на лодке в волну. И, чем больше снимающих на месте события, – тем хуже фотосвидетельства по качеству и информативности. До полного распада представления о событии. А красивые картиночки с конкурса «мобильного фото» оставим маркетологам и рекламщикам телефоно-производителей. В реальной жизни все совсем наоборот.
С «большими» цифровыми камерами все оказалось еще хуже. Каждый, потративший на них денег, вдруг ощущает себя мега-фотографом. И, казалось бы, к этому есть все технические предпосылки -прекрасные объективы, скоростные электронные мозги, вшитые программы для всего на свете. А главное – бесконечный запас кадров. И вот это обратилось в фото-катастрофу.
Ложное ощущение, что можно бездумно «отбарабанить» сто кадров и один из них обязательно будет пригодным, приводит к тому, что в результате нет ни одного нормального кадра вообще. Много чего есть, а смотреть нечего. Так просто не работает. Иначе можно было бы снимать видео и вырезать из него удачный кадр и считать, что это фотография. Нет. Кино и фото – два разных искусства. Похожих, родственных, но совершенно разных. Не получается сделать кадр, который мог бы стать символом. Как у того же Родченко, как у Картье-Брессона , Евгения Халдея и Игоря Мухина. Даже как у Валерия Плотникова - не получается. Это были мастера, которые считали каждый кадр своей недешевой пленки. Доступность искусства фотографии оказалась иллюзией, призраком пластикового мира массового потребления.
Сейчас довольно шокирующе выглядит приказ большевиков всем фотографам зарегистрировать негативы и снимки революции (11 окт. 1918 г. - "Все профессиональные фотографы, имеющие негативы или копии снимков, изображающие революционные события начиная с 27 февраля 1917, обязаны зарегистрировать их самое позднее до 25 октября в областном кинематографическом комитете (Сергиевская ул. 20). Неповиновение этому приказу карается штрафом в размере до 5000 рублей" - также было велено сдать в комитет по три отпечатка с каждого негатива.) Но это говорит о том, что большевики очень быстро сообразили, насколько важна фотография с точки зрения имиджа власти, пропаганды и контрпропаганды и пожелали поставить фото под контроль.
Не случайно уже спустя всего семь лет на фото-сцену выходит авангардный художник Александр Михайлович Родченко.
Выпускник Казанской художественной школы, ученик импрессиониста Николая Фешина (который в 1923 году внезапно стал американским художником) Родченко уже в 1917 м стал секретарем нового профсоюза художников-живописцев, что говорит о нем, как о весьма активном молодом человеке. И хорошо ориентирующемся в новых условиях новой жизни. Его задача была – помогать молодым художникам. В 17-м же году он впервые попробовал себя в качестве дизайнера – они работали с Татлиным, Л. Бруни, Н. Удальцовой и другими над интерьером кафе «Питтореск» в здании пассажа Сан-Галли в Москве. Мы знаем это здание теперь как Дом Художника. А Родченко сделал для кафе светильники из гнутой жести.
В то же время он продолжал строить карьеру в структурах новой власти и в 1918м был уже заведующим музейным бюро Наркомата просвещения. Как известно, наркомом просвещения был А.В. Луначарский, на которого Ленин замкнул и вопросы культуры. Сам Луначарский благоволил авангардным художникам, хотя, многие из них были гораздо левее самих большевиков. И часто нарком выступал амортизатором трений, которые возникали между новой бюрокартией и креативными товарищами.
Работа в наркомате не мешала Родченко заниматься творчеством.
Родченко создавал минималистские работы – графику, живопись, пространственные геометрические композиции. Он даже придумал термин «линиизм», опасно схожий с «ленинизмом», хотя, наверняка Родченко успел первым. Как он сам пишет: «Ввёл и объявил линию как элемент конструкции и как самостоятельную форму в живописи» (А.М. Родченко. Кто мы? (Манифест раннего конструктивизма) // Великая утопия. С.172–173).
Серия беспредметных линейных произведений была начата Родченко в августе 1919. Ну, как «беспредметных» - все, что тогда делалось, включая пространственные конструкции из картона, фанеры из прочих подручных материалов, только с точки зрения теории «абстрактны». Так или иначе, эти решения перетекали в общественное пространство в качестве элементов оформления, например, революционных праздников. То есть, выполняли сугубо пропагандистскую и агитационную задачу.
Он отсекал все лишнее для создания изображения. В очень важном для понимания природы его творчества, в том числе и последующего – фотографического- тексте «Линия» он сам пишет: ««Наконец выяснилось совершенно значение линии — с одной стороны, ее граневое и краевое отношение, и с другой — как фактора главного построения всякого организма вообще в жизни, так сказать, скелет (или основа, каркас, система). Линия есть первое и последнее, как в живописи, так и во всякой конструкции вообще. Линия есть путь прохождения, движение, столкновение, грань, скреп, соединение, разрез и т.д. В линии выяснилось новое мировоззрение — строить по существу, а не изображать, предметничать или беспредметничать, строить новые целесообразные конструктивные сооружения в жизни, а не от жизни и вне жизни». В 1919—1920 годах ввёл линии и точки как самостоятельные живописные формы, в 1921 году на выставке «5 × 5 = 25» (Москва) показал триптих из трёх монохромных цветов (жёлтый, красный, синий). Так что, господа художники и дизайнеры, все уже было, все уже написано и показано. Много-много лет назад.
В своих творческих поисках он пришел к фотоколлажу – когда оформлял книгу Маяковского «Про это». Для этого он начал много снимать сам и судя по всему, открыл, что именно фотокамера позволяет художнику «строить новые целесообразные конструктивные сооружения в жизни, а не от жизни и вне жизни». Его собственные художественные радикальные принципы позволили ему добиться в фотографии буквально шокирующих результатов. Все уже начали привыкать к тому, как обходятся с изображением новые авангардные художники, но никто не ожидал, что новые принципы можно перенести в фотографию. И тогда фото перестанет быть просто зеркалом момента реальности, а станет произведением искусства. Он работал с ракурсами , с углами зрения, точками съемки и линиями. Его идеологические противники из журнала «Советское фото» тут же обвинили его в том, что он копирует западных авторов и пытается приватизировать стиль съемки. На что в журнале «Новый Леф» Родченко отвечает в статье «Крупная безграмотность или мелкая гадость?»: «о собственности на точки может думать только безграмотный человек». И вообще – политика и идеология для Родченко были важней эстетического.
В конце 1920-х — начале 1930-х годов был фотокорреспондентом в газете «Вечерняя Москва», журналах «30 дней», «Даёшь», «Пионер», «Огонёк» и «Радиослушатель». Одновременно работал в кино (художник фильмов «Москва в Октябре», 1927, «Журналистка», 1927—1928, «Кукла с миллионами» и «Альбидум», 1928) и театре (постановки «Инга» и «Клоп», 1929), разрабатывая оригинальную мебель, костюмы и декорации. Первый фоторепортаж «Газета» был опубликован в журнале «30 дней» в 1928 году.
То есть, Родченко целиком погрузился в вихрь стремительно развивающегося общества. Все с той же позиции – что идеология важней эстетики. А в передовых инженерных умах в дискуссии по поводу той же самой фотографии – а точнее создания советских фотоапаратов и советских же фотоматериалов – пленки и бумаги- развивались опасные для большевиков идеи.
Так, председатель Российского технического общества (РТО), выдающийся инженер П. А. Пальчинский, заявил, что локомотивом технического гения страны и народа является инженерный корпус. В декабре 1926 г. в письме председателю СНК А. И. Рыкову утверждал, что «наука и техника являются более важными факторами формирования общества, чем коммунистическая идеология, что нынешнее столетие представляет собой не эпоху интернационального коммунизма, а эпоху интернациональной техники, и что не Коминтерн, а "Техинтерн" нам следует признать». Хорошо, что письмо осталось неотправленным. Потому что за такие идеи уже по головке не гладили.
И тут необходимо вспомнить, что в 1933м году Родченко отправился в секретную командировку. Он так и писал жене: «Не говори никому лишнего, что я на Беломорканале…» У него была очень важная для партии правительства задача – отснять строительство и открытие Беломоро-Балтийского канала им. Сталина. Снять таким образом, чтобы общественность и местная, и мировая ахнула от величия замысла и скорости исполнения (1931-1933 это очень быстрая стройка). И чтобы не слишком педалировать тему, что строился канал силами заключенных Белбалтлага (на базе Соловецкого лагеря особого назначения, Управление лесной промышленности ГУЛАГ). И чтобы встретить торжественно пароход «Карл Маркс» с писателями под руководством А. Горького на борту. Говорят, что опубликовано на сегодня только 30 снимков Родченко из этой командировки, хотя по его данным он отснял что-то около двух тысяч негативов.
А вообще-то борцы с левым искусством так или иначе его достали – его обвиняли в «мелкобуржуазном эстетизме» и он оставил занятия фотографией, вышел из группы «Октябрь» , которую надо было разгромить, чтобы в стране восторжествовал единый подход к искусству. Прямой и партийный. «Культура отмены» у нас уже была, когда это еще не вошло в моду среди леваков и «культурных марксистов» нового поколения – буквально в наши дни.
Но Родченко пережил все и оставался авторитетным и активным творцом до самой смерти в 1956м году.
Потому что всегда был нужен своей стране.
Игорь Мальцев.
Развеянный над Атлантикой
Давида Бурлюка не так просто называли «злым гением» и «демоном кубофутуризма», он и сам к этому, - вполне сознательно, кстати, - стремился: во времена столь почитаемого нынешними адептами декаданса «русского серебряного века» это было вовсе не порицание, а вполне себе даже и комплимент. И тут не надо ничего даже придумывать: декаданс, пусть и вполне «футуристический», и как бы нацеленный в будущее, и даже более чем брутальный, это все равно эпоха упадка, все равно эпоха разложения. Что ж, - и гнилушки тоже светятся, и это как-то совсем глупо и даже немного наивно не понимать.
Что же касается, так сказать, самоидентификации, то сам себя Давид Давидович и как художник, и как поэт именовал куда более пафосно: «отец русского футуризма». Впрочем, впервые, вообще-то, его так назвал Василий Кандинский, - но Василий Васильевич был человеком, по-хорошему, влюбчивым и простецким, и кому каких только титулов не навыдавал. Да и воспринимал сказанное, по словам современников, скорее шуточно. Сам же Бурлюк, несмотря на едкость и постоянную злую насмешку над окружающими, относился к этому «титулу» с вполне звериной серьезностью: в 1920-е – 1930-е годы, уже находясь в эмиграции в США, им было выпущено более двадцати книг, где, как правило, помещались стихи, рисунки, теоретические статьи, графическая поэзия, отрывки из дневников и воспоминаний, прочая ерунда. Но на обложках этих сборников значилось «Д.Бурлюк. Поэт, художник, лектор. Отец российского футуризма». Из раза в раз: эдакий, как сказали бы сейчас, навязчивый само-PR.
В общем-то, - ничего удивительного.
При всей своей художественно-революционной пафосности и провокативности, при всех «пощечинах общественному вкусу» и «судках судей», потомок мелкопоместных южнорусских помещиков (отец служил управляющим Чернодолинским заповедным имением графа Мордвинова), за каким-то лядом причислявших себя номинально к малороссийскому казачеству (про «украинское казачество», через которое нынешние киевские власти пытаются Бурлюка «приватизировать и присвоить» скромно умолчим: у этих и Айвазовский «украинский художник», а с «украинством» потомка княжеского рода весьма неблизких к украинцам манси и другом Бурлюка Кандинским – это и вовсе достаточно неприличный анекдот), Давид Бурлюк внутренне был типажом склада совершенно конформистского и обывательского. Говоря современным языком, - из тех, кто, конечно, с удовольствием лабает рокеннрол в андеграунде. Но только в надежде сделать его мейнстримом и подороже продать.
Словом, в современных столичных светских гостиных Давид Давидович Бурлюк совершенно точно бы не затерялся и чувствовал бы себя там как рыба в воде: он вообще по психотипу изначально был человеком скорее китча, чем авангарда. В отличие, кстати, от своего «соратника» Велимира Хлебникова, с которым вместе делил футуристический титул «Председателей земного шара» и своего «ученика» Владимира Маяковского, которые туда бы, в среду им совершенно чуждую, если бы и пошли, то только в качестве «приглашенной мебели». С возрастом это, кстати, стало особенно заметно, тут вспоминается язвительный Эренбург, так описывавший послевоенный приезд четы Бурлюков в Москву, за который кто только не хлопотал: Николай Асеев, Семен Кирсанов, вездесущая Лиля Брик, а в результате полностью оплатил советский Союз писателей: «Года два назад в Москву приехали американские туристы — Давид Бурлюк с женой. Бурлюк в Америке рисует, прилично зарабатывает, стал почтенным, благообразным; нет ни лорнетки, ни «беременного мужчины». Футуризм мне теперь кажется куда более древним, чем Древняя Греция» (с, Илья Эренбург «Люди, годы, жизнь»). И Илью Григорьевича, которого с куда большим основанием можно считать одним из настоящих отцов европейского авангарда (это у нас он известен больше, как великий военный журналист и «личный враг фюрера», в той же Сорбонне его «Хулио Хуренито», «Трест Д.Е.» и «Тринадцать трубок» до сих пор изучают как классику европейского авангардного романа первой половины ХХ века), - тут вполне можно понять. Хорошо, что еще не назвал бывшего автора призыва «сбросить Пушкина с парохода современности» древним «окаменелым г…ном», с него бы вполне сталось, он и с самим Кобой, с которым был знаком с дореволюционных времен, вполне мог на повышенных тонах поговорить. А бывший бунтарь Бурлюк поствоенного периода, в своем американском лево-профессорском обличье, его совершенно явно и чувствительно разочаровал.
Тем не менее, если говорить с точки зрения развития отечественной (да и не только отечественной, но об этом чуть ниже) культуры, как в области литературы, так и изобразительного искусства, то значение в ней роли Давида Бурлюка довольно непросто переоценить, как и его наследие, - кое в чем он действительно по-настоящему опередил время. Вот, просто один, причем не самый яркий пример.
Еще в 1910 годы, в том самом «заповедном» имении графов Мордвиновых в селе Чернянка Таврической губернии, где его отец работал управляющим, Бурлюк основал «колонию Гилея», куда кроме него самого вошли Велемир Хлебников, Владимир Маяковский, Бенедикт Лившиц, Василий Каменский, Алексей Крученых, Елена Гуро. – прямой аналог каких-нибудь современных «тик-ток хаусов», «фабрик звезд» или «усадьбы» Захара Прилепина, только с куда более таланливыми участниками, - откуда и вышло само, вселенского значения, явление «русского футуризма». По большому счету, - подлинная лаборатория художественного и литературного авангарда, как советского, так, кстати, и американского. И совсем не случайно уже потом, будучи в эмиграции, Давид Бурлюк так успешно инкорпорировался в Нью-Йорк, где его художественные идеи в определенных кругах довольно быстро стали довольно влиятельны, а эпоху регтайма и блюза в Манхеттене постепенно заменял выходящий из андеграунда джаз.
С Бурлюком, кстати, это случалось везде, а не только в Москве, Таврической губернии или Нью-Йорке. К примеру, весной 1915 года Давид Давидович, счастливо избежавший мобилизации на мировую войну по инвалидности (у него не было одного глаза, потерянного в детстве, - кстати, именно стеклянный глаз и лорнетка стали неотъемлемой частью его художественного образа, - Бурлюк умел использовать для, как бы сейчас сказали, PR, все, включая собственное уродство) оказался в Уфимской губернии, где находилось поместье его жены. Как результат: сплотившийся вокруг него Уфимский художественный кружок, откуда, к примеру, вышел будущий народный художник БАССР Александр Тюлькин, которого считают основоположником современного изобразительного искусства Башкирии. Или другой пример, - когда летом 1919 года Бурлюк добрался до Владивостока, откуда потом эмигрировал, сначала в Японию, потом в США, он там мгновенно организовал футуристической общество с Николаем Асеевым и Третьяковым, не забывая ни про литературное поприще, ни про организацию выставок, про которые бы сейчас, наверное, сказали, что это был типичный агитпроп или, даже, поп-арт. Вокруг него сбивались своеобразные «кружки» потом и в Харбине, и даже в милитаристской тогда и откровенно тоталитарной Японии, где Бурлюк потом прожил два года, изучая культуру востока и занимаясь живописью.
Денег от продажи картин на японские, что характерно, мотивы (революционность и футуризм вполне уживались в нем с умением приспосабливаться под любые, фактически, обстоятельства) вполне хватило на переезд в Америку, где Давид Давидович вполне комфортно и прожил последние сорок лет своей бесшабашной, но необычайно плодотворной в творческом отношении жизни Не подвергаясь, кстати, несмотря на очевидные и не отрицаемые им симпатии к коммунистам (правда, скорее троцкистского толка) никаким репрессиям: он не только в императорской России и в сравнительно короткий «советский» период своего творчества, но и в Японии с Америкой отчего-то их счастливо избегал. Умер Давид Давидович, что тоже несколько необычно для человека, как сейчас сказали бы, принципиально контркультурного, в весьма почтенном возрасте, 15 января 1967 года в городе Хэмптон-Бейз, штат Нью-Йорк. Его тело было кремировано согласно завещанию и прах развеян родственниками над водами Атлантики с борта парома. Что было и глубоко, и трагически символично: несмотря на признание его роли в Америке (Бурлюку посмертно было присвоено звание члена Американской академии искусств, на секундочку, в одном ряду с Леонардом Бернстайном и Генри Миллером) ни одного берега Атлантики он так для себя до конца и не обрел.
Что тут можно сказать.
Давид Бурлюк, безусловно, так и не стал фигурой по-настоящему «первого ряда» ни в литературе, ни в изобразительном искусстве. Даже самые его комплиментарные критики признают, что вошел в историю культуры он не собственным поэтическим и живописным творчеством, а организующей ролью в русском авангарде начала XX века. То есть, в современном понимании, оставаясь талантливым, но вполне ординарным художником, Бурлюк стал одним из первых великих арт-продюсеров. Фигур, определяющих, в каком именно направлении будут развиваться художественные проекты, за какими направлениями будущее и щедро заражающих своим знанием и энергией окружающих, многие из которых были куда органично талантливее самого Бурлюка, и на которых у него было какое-то, прямо-таки звериное, чутье.
И вот в этом смысле Маяковский, называвший Давида Бурлюка «своим настоящим учителем», - хотя, казалось бы, чему может научить, пусть и таланливая, посредственность природного гения, - был абсолютно прав. Цитируем великого: «Днем у меня вышло стихотворение. Вернее — куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю — это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: "Да это же вы сами написали! Да вы же гениальный поэт!". Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушёл в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом» (с). Ну, а мы, в свою очередь, видим со стороны, как именно должен работать по-настоящему великий продюсер, способный разглядеть и вылепить из своего, нелепого вида, безденежного, никогда толком не писавшего стихов и не знавшего авангарда, да еще и недавно отсидевшего в Бутырке «за политику» однокурсника по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества, по-настоящему большого русского поэта-авангардиста, громкого и фантастически успешного: нашим современным генералам шоу-бизнеса стоило бы этому поучиться, хотя нет, не научатся.
Потому как для этого нужен совершенно особый талант и в этом Давид Бурлюк совершенно точно опередил собственное время, как минимум, на полста лет. Просто в качестве иллюстрации, - тот же Маяковский рассказывал, как Бурлюк выдавал ему по пятьдесят копеек в день, чтобы тот думал о стихах, а не о еде: ничего, простите, не напоминает?
Поэтому, если вас спросят, где можно увидеть наследие Бурлюка, смело отвечайте: «а, примерно, везде». От советского художественного авангарда, - если уж совсем «в лоб», то можно начать с революционного плаката и с «Окон РОСТА» Владимира Маяковского, органично впитавших в себя художественные идеи Бурлюка, умевшего органично соединить слово и рисунок, авангард и лубок. Да и в «нигде кроме, как в Моссельпроме» - тоже понятно с какого огорода эти шишки растут. И вплоть до американского поп-арта и даже позднесоветского (и, добавим от себя, антисоветского) соц-арта: любой Комар с Меламидом, при всем уважении, просто дети малые, по сравнению с эпическим полотном Бурлюка «Ленин и Толстой», выставленным в начале 30-х годов прошлого века в Нью-Йорке, где Ильич впряжен в плуг, а Лев Николаевич шагает впереди, указывая вождю мирового пролетариата, видимо, где нужно пахать.
И единственное, что лично меня во всем этом немного смущает, так это случившееся, за годы проведенные в США, и подмеченное Эренбургом превращение русского футуриста и бунтаря в американского леволиберального профессора: уж больно по нынешним временам это неприятный и даже вредный типаж. Впрочем, завещание развеять свой прах над Атлантикой (вместе с женой, Марией Никифоровной Еленевской, которая прожила с ним всю жизнь и скончалась, пережив Бурлюка буквально на полгода) все-таки кое-что проясняет: Давид Давидович и сам про себя очень многое понимал…
Дмитрий Лекух.
Что же касается, так сказать, самоидентификации, то сам себя Давид Давидович и как художник, и как поэт именовал куда более пафосно: «отец русского футуризма». Впрочем, впервые, вообще-то, его так назвал Василий Кандинский, - но Василий Васильевич был человеком, по-хорошему, влюбчивым и простецким, и кому каких только титулов не навыдавал. Да и воспринимал сказанное, по словам современников, скорее шуточно. Сам же Бурлюк, несмотря на едкость и постоянную злую насмешку над окружающими, относился к этому «титулу» с вполне звериной серьезностью: в 1920-е – 1930-е годы, уже находясь в эмиграции в США, им было выпущено более двадцати книг, где, как правило, помещались стихи, рисунки, теоретические статьи, графическая поэзия, отрывки из дневников и воспоминаний, прочая ерунда. Но на обложках этих сборников значилось «Д.Бурлюк. Поэт, художник, лектор. Отец российского футуризма». Из раза в раз: эдакий, как сказали бы сейчас, навязчивый само-PR.
В общем-то, - ничего удивительного.
При всей своей художественно-революционной пафосности и провокативности, при всех «пощечинах общественному вкусу» и «судках судей», потомок мелкопоместных южнорусских помещиков (отец служил управляющим Чернодолинским заповедным имением графа Мордвинова), за каким-то лядом причислявших себя номинально к малороссийскому казачеству (про «украинское казачество», через которое нынешние киевские власти пытаются Бурлюка «приватизировать и присвоить» скромно умолчим: у этих и Айвазовский «украинский художник», а с «украинством» потомка княжеского рода весьма неблизких к украинцам манси и другом Бурлюка Кандинским – это и вовсе достаточно неприличный анекдот), Давид Бурлюк внутренне был типажом склада совершенно конформистского и обывательского. Говоря современным языком, - из тех, кто, конечно, с удовольствием лабает рокеннрол в андеграунде. Но только в надежде сделать его мейнстримом и подороже продать.
Словом, в современных столичных светских гостиных Давид Давидович Бурлюк совершенно точно бы не затерялся и чувствовал бы себя там как рыба в воде: он вообще по психотипу изначально был человеком скорее китча, чем авангарда. В отличие, кстати, от своего «соратника» Велимира Хлебникова, с которым вместе делил футуристический титул «Председателей земного шара» и своего «ученика» Владимира Маяковского, которые туда бы, в среду им совершенно чуждую, если бы и пошли, то только в качестве «приглашенной мебели». С возрастом это, кстати, стало особенно заметно, тут вспоминается язвительный Эренбург, так описывавший послевоенный приезд четы Бурлюков в Москву, за который кто только не хлопотал: Николай Асеев, Семен Кирсанов, вездесущая Лиля Брик, а в результате полностью оплатил советский Союз писателей: «Года два назад в Москву приехали американские туристы — Давид Бурлюк с женой. Бурлюк в Америке рисует, прилично зарабатывает, стал почтенным, благообразным; нет ни лорнетки, ни «беременного мужчины». Футуризм мне теперь кажется куда более древним, чем Древняя Греция» (с, Илья Эренбург «Люди, годы, жизнь»). И Илью Григорьевича, которого с куда большим основанием можно считать одним из настоящих отцов европейского авангарда (это у нас он известен больше, как великий военный журналист и «личный враг фюрера», в той же Сорбонне его «Хулио Хуренито», «Трест Д.Е.» и «Тринадцать трубок» до сих пор изучают как классику европейского авангардного романа первой половины ХХ века), - тут вполне можно понять. Хорошо, что еще не назвал бывшего автора призыва «сбросить Пушкина с парохода современности» древним «окаменелым г…ном», с него бы вполне сталось, он и с самим Кобой, с которым был знаком с дореволюционных времен, вполне мог на повышенных тонах поговорить. А бывший бунтарь Бурлюк поствоенного периода, в своем американском лево-профессорском обличье, его совершенно явно и чувствительно разочаровал.
Тем не менее, если говорить с точки зрения развития отечественной (да и не только отечественной, но об этом чуть ниже) культуры, как в области литературы, так и изобразительного искусства, то значение в ней роли Давида Бурлюка довольно непросто переоценить, как и его наследие, - кое в чем он действительно по-настоящему опередил время. Вот, просто один, причем не самый яркий пример.
Еще в 1910 годы, в том самом «заповедном» имении графов Мордвиновых в селе Чернянка Таврической губернии, где его отец работал управляющим, Бурлюк основал «колонию Гилея», куда кроме него самого вошли Велемир Хлебников, Владимир Маяковский, Бенедикт Лившиц, Василий Каменский, Алексей Крученых, Елена Гуро. – прямой аналог каких-нибудь современных «тик-ток хаусов», «фабрик звезд» или «усадьбы» Захара Прилепина, только с куда более таланливыми участниками, - откуда и вышло само, вселенского значения, явление «русского футуризма». По большому счету, - подлинная лаборатория художественного и литературного авангарда, как советского, так, кстати, и американского. И совсем не случайно уже потом, будучи в эмиграции, Давид Бурлюк так успешно инкорпорировался в Нью-Йорк, где его художественные идеи в определенных кругах довольно быстро стали довольно влиятельны, а эпоху регтайма и блюза в Манхеттене постепенно заменял выходящий из андеграунда джаз.
С Бурлюком, кстати, это случалось везде, а не только в Москве, Таврической губернии или Нью-Йорке. К примеру, весной 1915 года Давид Давидович, счастливо избежавший мобилизации на мировую войну по инвалидности (у него не было одного глаза, потерянного в детстве, - кстати, именно стеклянный глаз и лорнетка стали неотъемлемой частью его художественного образа, - Бурлюк умел использовать для, как бы сейчас сказали, PR, все, включая собственное уродство) оказался в Уфимской губернии, где находилось поместье его жены. Как результат: сплотившийся вокруг него Уфимский художественный кружок, откуда, к примеру, вышел будущий народный художник БАССР Александр Тюлькин, которого считают основоположником современного изобразительного искусства Башкирии. Или другой пример, - когда летом 1919 года Бурлюк добрался до Владивостока, откуда потом эмигрировал, сначала в Японию, потом в США, он там мгновенно организовал футуристической общество с Николаем Асеевым и Третьяковым, не забывая ни про литературное поприще, ни про организацию выставок, про которые бы сейчас, наверное, сказали, что это был типичный агитпроп или, даже, поп-арт. Вокруг него сбивались своеобразные «кружки» потом и в Харбине, и даже в милитаристской тогда и откровенно тоталитарной Японии, где Бурлюк потом прожил два года, изучая культуру востока и занимаясь живописью.
Денег от продажи картин на японские, что характерно, мотивы (революционность и футуризм вполне уживались в нем с умением приспосабливаться под любые, фактически, обстоятельства) вполне хватило на переезд в Америку, где Давид Давидович вполне комфортно и прожил последние сорок лет своей бесшабашной, но необычайно плодотворной в творческом отношении жизни Не подвергаясь, кстати, несмотря на очевидные и не отрицаемые им симпатии к коммунистам (правда, скорее троцкистского толка) никаким репрессиям: он не только в императорской России и в сравнительно короткий «советский» период своего творчества, но и в Японии с Америкой отчего-то их счастливо избегал. Умер Давид Давидович, что тоже несколько необычно для человека, как сейчас сказали бы, принципиально контркультурного, в весьма почтенном возрасте, 15 января 1967 года в городе Хэмптон-Бейз, штат Нью-Йорк. Его тело было кремировано согласно завещанию и прах развеян родственниками над водами Атлантики с борта парома. Что было и глубоко, и трагически символично: несмотря на признание его роли в Америке (Бурлюку посмертно было присвоено звание члена Американской академии искусств, на секундочку, в одном ряду с Леонардом Бернстайном и Генри Миллером) ни одного берега Атлантики он так для себя до конца и не обрел.
Что тут можно сказать.
Давид Бурлюк, безусловно, так и не стал фигурой по-настоящему «первого ряда» ни в литературе, ни в изобразительном искусстве. Даже самые его комплиментарные критики признают, что вошел в историю культуры он не собственным поэтическим и живописным творчеством, а организующей ролью в русском авангарде начала XX века. То есть, в современном понимании, оставаясь талантливым, но вполне ординарным художником, Бурлюк стал одним из первых великих арт-продюсеров. Фигур, определяющих, в каком именно направлении будут развиваться художественные проекты, за какими направлениями будущее и щедро заражающих своим знанием и энергией окружающих, многие из которых были куда органично талантливее самого Бурлюка, и на которых у него было какое-то, прямо-таки звериное, чутье.
И вот в этом смысле Маяковский, называвший Давида Бурлюка «своим настоящим учителем», - хотя, казалось бы, чему может научить, пусть и таланливая, посредственность природного гения, - был абсолютно прав. Цитируем великого: «Днем у меня вышло стихотворение. Вернее — куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю — это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: "Да это же вы сами написали! Да вы же гениальный поэт!". Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушёл в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом» (с). Ну, а мы, в свою очередь, видим со стороны, как именно должен работать по-настоящему великий продюсер, способный разглядеть и вылепить из своего, нелепого вида, безденежного, никогда толком не писавшего стихов и не знавшего авангарда, да еще и недавно отсидевшего в Бутырке «за политику» однокурсника по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества, по-настоящему большого русского поэта-авангардиста, громкого и фантастически успешного: нашим современным генералам шоу-бизнеса стоило бы этому поучиться, хотя нет, не научатся.
Потому как для этого нужен совершенно особый талант и в этом Давид Бурлюк совершенно точно опередил собственное время, как минимум, на полста лет. Просто в качестве иллюстрации, - тот же Маяковский рассказывал, как Бурлюк выдавал ему по пятьдесят копеек в день, чтобы тот думал о стихах, а не о еде: ничего, простите, не напоминает?
Поэтому, если вас спросят, где можно увидеть наследие Бурлюка, смело отвечайте: «а, примерно, везде». От советского художественного авангарда, - если уж совсем «в лоб», то можно начать с революционного плаката и с «Окон РОСТА» Владимира Маяковского, органично впитавших в себя художественные идеи Бурлюка, умевшего органично соединить слово и рисунок, авангард и лубок. Да и в «нигде кроме, как в Моссельпроме» - тоже понятно с какого огорода эти шишки растут. И вплоть до американского поп-арта и даже позднесоветского (и, добавим от себя, антисоветского) соц-арта: любой Комар с Меламидом, при всем уважении, просто дети малые, по сравнению с эпическим полотном Бурлюка «Ленин и Толстой», выставленным в начале 30-х годов прошлого века в Нью-Йорке, где Ильич впряжен в плуг, а Лев Николаевич шагает впереди, указывая вождю мирового пролетариата, видимо, где нужно пахать.
И единственное, что лично меня во всем этом немного смущает, так это случившееся, за годы проведенные в США, и подмеченное Эренбургом превращение русского футуриста и бунтаря в американского леволиберального профессора: уж больно по нынешним временам это неприятный и даже вредный типаж. Впрочем, завещание развеять свой прах над Атлантикой (вместе с женой, Марией Никифоровной Еленевской, которая прожила с ним всю жизнь и скончалась, пережив Бурлюка буквально на полгода) все-таки кое-что проясняет: Давид Давидович и сам про себя очень многое понимал…
Дмитрий Лекух.
Башня, которую построил юнга
В 2002 м году история города Москва совершила квантовый скачок. Как сказал бы какой- нибудь русский авангардист 1920х годов «прыгнула одновременно в будущее и прошлое». Я даже подозреваю, что большинство жителей этого не заметило. Хотя… как можно было не заметить, что на Малой Бронной построили Башню Татлина?
Архитектурная мастерская Сергея Ткаченко проектировала этот дом с 1997 года и вряд ли теперь можно сказать, кому пришла в голову мысль высоко-высоко на крыше дома 44 поставить натуральную башню Татлина. Объект классического, непревзойденного русского авангарда, который и для тех безумных годов всеобщего прорыва, казался чем-то запредельным. А тут, спустя четыре года после финансового кризиса, вдруг над Москвой поплыла винтовая конструкция – что- то вроде Led Zeppelin’овской «Лестницы в небо». Если бы на заре советской власти был бы Led Zeppelin. Вот «Граф Цеппелин» был и даже прилетал кружить над Москвой и Питером. И все восхищались новым словом в воздухоплавании. Но даже по сравнению с такими технологическими прорывами как дирижабли-цеппелины, башня Татлина была словно Спутник, запущенный только в 1957. И тоже в СССР. С тех пор стало понятно, что цеппелины оказались не слишком популярными и эпоха всеобщего дирижабельного воздухоплавания так и не наступила.
А башня Татлина как манила, так и манит поколения художников и инженеров, хотя ее макет, который постоял два года в московском Доме Советов, был попросту разобран и отправлен черт знает куда.
Но идея ее впечаталась в глазную сетчатку поколений и русского авангарда невозможно представить без башни Татлина.
Это наши египетские пирамиды.
Но что за человек и время, которые родили конструкцию, которую можно назвать глубоко идеологической, идейной и даже пропагандистской?
Надо признать, что русская промышленная революция 19 века перепахала русское дворянство, а дворянство перепахало Россию – потому что это был наиболее просвещенный и ответственный класс, который был так же далек от санкт-петербургских балов и распущенности каких-нибудь князей Юсуповых , насколько близок к земле, на которой жил и работал. И 19-й век дал им шанс изменить лицо страны. Дворяне строили заводы, выпускали рельсы и хрусталь, паровозы и пароходы, развивали инженерное дело – заполняли всю ту пустоту, которая предполагалась на месте чудовищного разрыва между царским двором, властью и затюканными крестьянами, которые даже не знали, что им делать с внезапным избавлением от рабства крепостного права.
Семья Татлиных потомственные дворяне с 1814 года и записаны в родословную книгу Дворянского депутатского собрания Орловской губернии – перед Тухачевскими и Тютчевыми – эти семьи в России тоже все знают. И отец Владимира Татлина – Евграф Никифорович – и есть тот самый дворянин-инженер-технолог да еще и по железнодорожному делу, на которых росла транспортная мощь империи. Можно было бы притянуть за уши воспитание отцом- инженером и матерью поэтессой Надежды (в девичестве Барт), да только она умерла, когда мальчику было всего четыре года.
Никогда не читайте «Википедию» - и про Татлина в-частности. Потому что местные «редакторки» так спешили записать Татлина в украинцы, что и не заметили ,что их даты противоречат сами себе. Так что теперь он значится харьковчанином, хотя отец после смерти матери увез туда мальчика только в 1896м году, когда тому было одиннадцать лет от роду. Да, и родился он в Москве.
Трудно сказать, что стало триггером для мальчика Владимира, но что-то реально случилось и в тринадцать лет он убежал из дому. То есть, он какой-то авантюрист по жизни. Про него бы фильмы снимать, потому что так не бывает с обычными людьми. Да и с необычными тоже редко. Вот он подался юнгой на пароход, что ходил в Турцию. Скажите, что может подросток вынести из чудовищно тяжелого труда на пароходе? Но он что-то оттуда вынес. А потом его метнуло в другую сторону – он помогал иконописцам, например. Или театральным декораторам, что идеологически несколько противоположная область искусства. Не припомню аварамических религий, которые бы приветствовали светский театр и все это дрыгоножество и рукомашество.
Но в голове у юного Татлина все это отлично уживалось. Его первый заход в профессию с правильной стороны увенчался стремительным неуспехом - в 17 лет он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества ( МУЖВЗ ). Казалось бы, где пароход до Стамбула, а где московские художники и преподаватели? Выглядит довольно логичным, что его выгнали из училища за неуспешность и плохое поведение. В чем оно заключалось – история скрыта во тьме. И он опять пошел поближе к пароходам и учился в том, что мы в СССР называли Одесской мореходкой. А потом опять его кинуло в художественное творчество – учиться в Пензенское художественное училища. А там преподавали и выдающийся живописец России Коровин и скульптор Клодт – просто великие. И, хотя, теперь училище вписывает в свои выпускники Татлина, боюсь, он его тоже не закончил. Так что это наш великий авангардист без системного образования.
А ему сама жизнь была училищем – особенно круг общения. Он общался с поэтами – с обоими Бурлюками, с Маяковским, а главное с Хлебниковым, который по складу творчества и характера был ближе всех к Татлину.
Жизнь и скитания научили его ладить с людьми и, судя по всему, он очень любил познавать новое – все самое ультра-мега-новое. Ведь он умудрился выставляться с такими творческими группами как «Мир искусства», «Союз молодежи», «Бубновый валет» и даже «Ослиный хвост».
Питерский «Союз молодежи», например, был настолько авангарден и так быстро развивался, что умудрялся раскалываться на мелкие части, которые обвиняли друг друга в консерватизме внутри авангарда и во «врубелизме» (не от слова «рубль», а по имени великого Врубеля). Сегодня из этой группы более- менее широкая публика может вспомнить только П. Филонова. Но Татлину и с ними было интересно. А «Бубновый валет» был, конечно, крупнейшим объединением самого начала авангарда: там были и Кончаловский, и Ларионов, и Малевич. Татлин и с ними выставлялся, хотя, по меркам «Союза молодежи» они вполне тянули на отстойных старых врубелевцев. Если смотреть татлинскую живопись тех лет, то она вполне в русле таких мастеров аванграда, как, скажем, Ларионов. С которым он крепко дружил, а потом рассорился.
Но его рисунок никогда не распадался на части, никогда не уходил в чистую форму. И рисовальщик он был просто прекрасный. Самым абстрактным продуктом его творчества были «контррельефы» – конструкции из сочетаний различных материалов, нечто близкое к механизму. Но как железо, камень, да дерево могут быть абстракцией? Это же самая конкретная конкретика. Но то, что он умудрялся выстраивать эти конструкции как произведение искусства, говорит о его тяге к реальности. Какой бы она ни была.
Несмотря на яркость натуры и разнонаправленность (это- если вежливо) его жизненных устремлений (взять и поехать «слепым музыкантом-бандуристом» в Берлин на выставку русских ремесел, чтобы потом сгонять в Париж в мастерскую к Пикассо) стало понятно, что он все время возвращается к тем вещам, которые в ранней юности его сформировали. Поэтому он опять и опять идет в театр – как бы к тем дням, когда он просто помогал театральным декораторам строить сцену. Но они пришел в театр концептуалистом и художником. Причем, ему было неважно, берут его работы или нет – он иногда просто работал «в стол» безо всякого заказа и денег. Так, например, написал эскизы для оперы Глинки «Жизнь за царя» (она же «Иван Сусанин») просто так – потому что не мог не писать.
И логично, что он вошел в дуэт с Велемиром Хлебниковым и поставил в питерском Институте художественной культуры спектакль по Хлебникову.
Институт этот (он же ГИНХУК) был еще тем рассадником самого яркого левачества в новой советской культуре. Начиная с того, что директором там был тот самый Казимир Малевич, с которым у Татлина были непримиримые концептуальные разногласия, заканчивая тем, что правил идейный бал там Филонов от имени «группы левых художников». Но, тем не менее, у Татлина там была даже государственная должность – зав. отделом материальной культуры. Туда же то ли Осип Брик притащил Маяковского, то ли Маяковский – Брика, но всё это напоминало семейный кружок по интересами. И, несмотря, на очень революционные концепции развития города Питера, после статьи «Монастырь на госснабжении» в «Ленинградской правде» институт прикрыли.
Но все-таки Татлин успел с Хлебниковым сделать спектакль по поэме «Зангези». Считается, что именно Татлин открыл счет запретам на искусство в России в 20м веке. Его работы со скандалом сняли еще в 1914 году с благотворительной выставки «Художники Москвы – жертвам войны». Он выставил там то, что он называл «синтезостатичные композиции». Время для которых еще, по-видимому, просто не пришло.
Вот этот талант – делать вещи, опережающие время, это его основной талант. Что роднит его местами с Леонардо да Винчи. И даже точка приложения общая нашлась - летательные аппараты. Но это будет уже ближе к 30м годам. И, к сожалению, «Летатлин» так и не поднялся в небо.
А вообще-то, он сделал головокружительную карьеру для авангардиста. В 1917-м он ведь участвовал в организации «левого блока» деятелей искусства и в создании Профсоюза художников-живописцев, стал председателем его «Левой федерации», а попал от профсоюза аж в Художественную секцию Моссовета.
Он считался неформальным главой всех «футуристов» в пластических искусствах и написал программную статью в газету «Анархия». Одно название этого СМИ звучит как песня группы «Кино».
Он стал председателем Московской художественной коллегии Отдела ИЗО Наркомпроса, а в конце года — профессором живописных мастерских в московском и петроградском Свомасе. То есть, все серьезно. Он еще и на европейский дадизм успел повлиять. Особенно - на немецкий (Die Kunst ist tot. Es Lebe die neue Maschinenkunst TATLINS – написал на плакате тот самый Георг Грос с Джоном Хартфилдом). То есть, Татлин уже тогда был художником и арт-активистом, как минимум, европейского уровня.
Но самый несбыточный его проект - Башня Татлина (Памятник III Коммунистического интернационала, ставший иконой советского авангарда, который отчего-то пытаются назвать «русским» - видимо, чтобы не добавлять очков большевикам, что в начале смотрели на авангард, как на продвижение своей идеологии и, фактически - на пропаганду своей политики и «мягкую силу».
Нет, это не экзотический монумент. Это, конечно, натурально воплощение идей диалектического материализма и концепции развития общества по спирали. Куда-то в небо. Но эти спирали - это тоже не просто что-то вроде шуховских гиперболоидов. Это вращающийся дом на доме.
«В башне, кроме помещений для трёх властей (законодательной, исполнительной и информационной) предполагалось место и для художников. Ведь башня задумывалась как символ воссоединения человечества, разделённого при постройке Вавилонской башни. Она — мост между небом и землёй, архитектурное воплощение мирового древа, опора мироздания, а также жилище мудрецов. Венчали памятник огромные радиомачты. Специальная система прожекторов должна была бы проецировать световой текст на облака. Широкие стеклянные стены должны были держать комфортную температуру внутри зданий башни. Планируемая высота башни 400 метров, наклон от нормали 23,5°. Планируемые материалы — стекло и сталь.»
Ух, просто дух захватывает.
При всем том, что для нас небоскребы любой конфигурации – это уже привычное и даже надоевшее дело. А тут 1919 год. Вообще -то, людям есть нечего. Согреться нечем. Война идет. И тут – такое… Просто с ума сойти. И что совсем любопытно – по заказу Отдела Изобразительных Искусств Народного Комиссариата по Просвещению. На государственные деньги. Татлин и не скрывал, что проект напрямую связан с ленинским планом монументальной пропаганды.
Но он сделал только пятиметровую модель. В 1920м выставил ее в старом Доме Советов (для нового Дома Советов тоже был план – ради которого снесли Храм Христа Спасителя работы Тона в честь победы над Наполеоном в 1812 году). Оттуда её вроде бы передали в Третьяковскую галерею, где она и пропала.
Всё как всегда – любое величие русского духа обязательно столкнется с каким-нибудь скучным клерком, которому наплевать.
Так что Башня осталась в рисунках и легендах.
Хотя, если совсем станет грустно и вы затоскуете по Tatlin Tower – сходите на кольцо. Напротив Малой Бронной. И поднимите взгляд – на доме 44 стоит-таки башенка. Не 400 метров, конечно, а совсем небольшая. Но стоит.
Татлин – жив!
Архитектурная мастерская Сергея Ткаченко проектировала этот дом с 1997 года и вряд ли теперь можно сказать, кому пришла в голову мысль высоко-высоко на крыше дома 44 поставить натуральную башню Татлина. Объект классического, непревзойденного русского авангарда, который и для тех безумных годов всеобщего прорыва, казался чем-то запредельным. А тут, спустя четыре года после финансового кризиса, вдруг над Москвой поплыла винтовая конструкция – что- то вроде Led Zeppelin’овской «Лестницы в небо». Если бы на заре советской власти был бы Led Zeppelin. Вот «Граф Цеппелин» был и даже прилетал кружить над Москвой и Питером. И все восхищались новым словом в воздухоплавании. Но даже по сравнению с такими технологическими прорывами как дирижабли-цеппелины, башня Татлина была словно Спутник, запущенный только в 1957. И тоже в СССР. С тех пор стало понятно, что цеппелины оказались не слишком популярными и эпоха всеобщего дирижабельного воздухоплавания так и не наступила.
А башня Татлина как манила, так и манит поколения художников и инженеров, хотя ее макет, который постоял два года в московском Доме Советов, был попросту разобран и отправлен черт знает куда.
Но идея ее впечаталась в глазную сетчатку поколений и русского авангарда невозможно представить без башни Татлина.
Это наши египетские пирамиды.
Но что за человек и время, которые родили конструкцию, которую можно назвать глубоко идеологической, идейной и даже пропагандистской?
Надо признать, что русская промышленная революция 19 века перепахала русское дворянство, а дворянство перепахало Россию – потому что это был наиболее просвещенный и ответственный класс, который был так же далек от санкт-петербургских балов и распущенности каких-нибудь князей Юсуповых , насколько близок к земле, на которой жил и работал. И 19-й век дал им шанс изменить лицо страны. Дворяне строили заводы, выпускали рельсы и хрусталь, паровозы и пароходы, развивали инженерное дело – заполняли всю ту пустоту, которая предполагалась на месте чудовищного разрыва между царским двором, властью и затюканными крестьянами, которые даже не знали, что им делать с внезапным избавлением от рабства крепостного права.
Семья Татлиных потомственные дворяне с 1814 года и записаны в родословную книгу Дворянского депутатского собрания Орловской губернии – перед Тухачевскими и Тютчевыми – эти семьи в России тоже все знают. И отец Владимира Татлина – Евграф Никифорович – и есть тот самый дворянин-инженер-технолог да еще и по железнодорожному делу, на которых росла транспортная мощь империи. Можно было бы притянуть за уши воспитание отцом- инженером и матерью поэтессой Надежды (в девичестве Барт), да только она умерла, когда мальчику было всего четыре года.
Никогда не читайте «Википедию» - и про Татлина в-частности. Потому что местные «редакторки» так спешили записать Татлина в украинцы, что и не заметили ,что их даты противоречат сами себе. Так что теперь он значится харьковчанином, хотя отец после смерти матери увез туда мальчика только в 1896м году, когда тому было одиннадцать лет от роду. Да, и родился он в Москве.
Трудно сказать, что стало триггером для мальчика Владимира, но что-то реально случилось и в тринадцать лет он убежал из дому. То есть, он какой-то авантюрист по жизни. Про него бы фильмы снимать, потому что так не бывает с обычными людьми. Да и с необычными тоже редко. Вот он подался юнгой на пароход, что ходил в Турцию. Скажите, что может подросток вынести из чудовищно тяжелого труда на пароходе? Но он что-то оттуда вынес. А потом его метнуло в другую сторону – он помогал иконописцам, например. Или театральным декораторам, что идеологически несколько противоположная область искусства. Не припомню аварамических религий, которые бы приветствовали светский театр и все это дрыгоножество и рукомашество.
Но в голове у юного Татлина все это отлично уживалось. Его первый заход в профессию с правильной стороны увенчался стремительным неуспехом - в 17 лет он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества ( МУЖВЗ ). Казалось бы, где пароход до Стамбула, а где московские художники и преподаватели? Выглядит довольно логичным, что его выгнали из училища за неуспешность и плохое поведение. В чем оно заключалось – история скрыта во тьме. И он опять пошел поближе к пароходам и учился в том, что мы в СССР называли Одесской мореходкой. А потом опять его кинуло в художественное творчество – учиться в Пензенское художественное училища. А там преподавали и выдающийся живописец России Коровин и скульптор Клодт – просто великие. И, хотя, теперь училище вписывает в свои выпускники Татлина, боюсь, он его тоже не закончил. Так что это наш великий авангардист без системного образования.
А ему сама жизнь была училищем – особенно круг общения. Он общался с поэтами – с обоими Бурлюками, с Маяковским, а главное с Хлебниковым, который по складу творчества и характера был ближе всех к Татлину.
Жизнь и скитания научили его ладить с людьми и, судя по всему, он очень любил познавать новое – все самое ультра-мега-новое. Ведь он умудрился выставляться с такими творческими группами как «Мир искусства», «Союз молодежи», «Бубновый валет» и даже «Ослиный хвост».
Питерский «Союз молодежи», например, был настолько авангарден и так быстро развивался, что умудрялся раскалываться на мелкие части, которые обвиняли друг друга в консерватизме внутри авангарда и во «врубелизме» (не от слова «рубль», а по имени великого Врубеля). Сегодня из этой группы более- менее широкая публика может вспомнить только П. Филонова. Но Татлину и с ними было интересно. А «Бубновый валет» был, конечно, крупнейшим объединением самого начала авангарда: там были и Кончаловский, и Ларионов, и Малевич. Татлин и с ними выставлялся, хотя, по меркам «Союза молодежи» они вполне тянули на отстойных старых врубелевцев. Если смотреть татлинскую живопись тех лет, то она вполне в русле таких мастеров аванграда, как, скажем, Ларионов. С которым он крепко дружил, а потом рассорился.
Но его рисунок никогда не распадался на части, никогда не уходил в чистую форму. И рисовальщик он был просто прекрасный. Самым абстрактным продуктом его творчества были «контррельефы» – конструкции из сочетаний различных материалов, нечто близкое к механизму. Но как железо, камень, да дерево могут быть абстракцией? Это же самая конкретная конкретика. Но то, что он умудрялся выстраивать эти конструкции как произведение искусства, говорит о его тяге к реальности. Какой бы она ни была.
Несмотря на яркость натуры и разнонаправленность (это- если вежливо) его жизненных устремлений (взять и поехать «слепым музыкантом-бандуристом» в Берлин на выставку русских ремесел, чтобы потом сгонять в Париж в мастерскую к Пикассо) стало понятно, что он все время возвращается к тем вещам, которые в ранней юности его сформировали. Поэтому он опять и опять идет в театр – как бы к тем дням, когда он просто помогал театральным декораторам строить сцену. Но они пришел в театр концептуалистом и художником. Причем, ему было неважно, берут его работы или нет – он иногда просто работал «в стол» безо всякого заказа и денег. Так, например, написал эскизы для оперы Глинки «Жизнь за царя» (она же «Иван Сусанин») просто так – потому что не мог не писать.
И логично, что он вошел в дуэт с Велемиром Хлебниковым и поставил в питерском Институте художественной культуры спектакль по Хлебникову.
Институт этот (он же ГИНХУК) был еще тем рассадником самого яркого левачества в новой советской культуре. Начиная с того, что директором там был тот самый Казимир Малевич, с которым у Татлина были непримиримые концептуальные разногласия, заканчивая тем, что правил идейный бал там Филонов от имени «группы левых художников». Но, тем не менее, у Татлина там была даже государственная должность – зав. отделом материальной культуры. Туда же то ли Осип Брик притащил Маяковского, то ли Маяковский – Брика, но всё это напоминало семейный кружок по интересами. И, несмотря, на очень революционные концепции развития города Питера, после статьи «Монастырь на госснабжении» в «Ленинградской правде» институт прикрыли.
Но все-таки Татлин успел с Хлебниковым сделать спектакль по поэме «Зангези». Считается, что именно Татлин открыл счет запретам на искусство в России в 20м веке. Его работы со скандалом сняли еще в 1914 году с благотворительной выставки «Художники Москвы – жертвам войны». Он выставил там то, что он называл «синтезостатичные композиции». Время для которых еще, по-видимому, просто не пришло.
Вот этот талант – делать вещи, опережающие время, это его основной талант. Что роднит его местами с Леонардо да Винчи. И даже точка приложения общая нашлась - летательные аппараты. Но это будет уже ближе к 30м годам. И, к сожалению, «Летатлин» так и не поднялся в небо.
А вообще-то, он сделал головокружительную карьеру для авангардиста. В 1917-м он ведь участвовал в организации «левого блока» деятелей искусства и в создании Профсоюза художников-живописцев, стал председателем его «Левой федерации», а попал от профсоюза аж в Художественную секцию Моссовета.
Он считался неформальным главой всех «футуристов» в пластических искусствах и написал программную статью в газету «Анархия». Одно название этого СМИ звучит как песня группы «Кино».
Он стал председателем Московской художественной коллегии Отдела ИЗО Наркомпроса, а в конце года — профессором живописных мастерских в московском и петроградском Свомасе. То есть, все серьезно. Он еще и на европейский дадизм успел повлиять. Особенно - на немецкий (Die Kunst ist tot. Es Lebe die neue Maschinenkunst TATLINS – написал на плакате тот самый Георг Грос с Джоном Хартфилдом). То есть, Татлин уже тогда был художником и арт-активистом, как минимум, европейского уровня.
Но самый несбыточный его проект - Башня Татлина (Памятник III Коммунистического интернационала, ставший иконой советского авангарда, который отчего-то пытаются назвать «русским» - видимо, чтобы не добавлять очков большевикам, что в начале смотрели на авангард, как на продвижение своей идеологии и, фактически - на пропаганду своей политики и «мягкую силу».
Нет, это не экзотический монумент. Это, конечно, натурально воплощение идей диалектического материализма и концепции развития общества по спирали. Куда-то в небо. Но эти спирали - это тоже не просто что-то вроде шуховских гиперболоидов. Это вращающийся дом на доме.
«В башне, кроме помещений для трёх властей (законодательной, исполнительной и информационной) предполагалось место и для художников. Ведь башня задумывалась как символ воссоединения человечества, разделённого при постройке Вавилонской башни. Она — мост между небом и землёй, архитектурное воплощение мирового древа, опора мироздания, а также жилище мудрецов. Венчали памятник огромные радиомачты. Специальная система прожекторов должна была бы проецировать световой текст на облака. Широкие стеклянные стены должны были держать комфортную температуру внутри зданий башни. Планируемая высота башни 400 метров, наклон от нормали 23,5°. Планируемые материалы — стекло и сталь.»
Ух, просто дух захватывает.
При всем том, что для нас небоскребы любой конфигурации – это уже привычное и даже надоевшее дело. А тут 1919 год. Вообще -то, людям есть нечего. Согреться нечем. Война идет. И тут – такое… Просто с ума сойти. И что совсем любопытно – по заказу Отдела Изобразительных Искусств Народного Комиссариата по Просвещению. На государственные деньги. Татлин и не скрывал, что проект напрямую связан с ленинским планом монументальной пропаганды.
Но он сделал только пятиметровую модель. В 1920м выставил ее в старом Доме Советов (для нового Дома Советов тоже был план – ради которого снесли Храм Христа Спасителя работы Тона в честь победы над Наполеоном в 1812 году). Оттуда её вроде бы передали в Третьяковскую галерею, где она и пропала.
Всё как всегда – любое величие русского духа обязательно столкнется с каким-нибудь скучным клерком, которому наплевать.
Так что Башня осталась в рисунках и легендах.
Хотя, если совсем станет грустно и вы затоскуете по Tatlin Tower – сходите на кольцо. Напротив Малой Бронной. И поднимите взгляд – на доме 44 стоит-таки башенка. Не 400 метров, конечно, а совсем небольшая. Но стоит.
Татлин – жив!
От Победы до XX съезда
Сегодня рассказываем о послевоенном периоде агитационных плакатов. Разберем, какими стали посылы, в чем нуждалось советское общество и какие задачи вообще решало государство после 1945 года.
Даже в рамках обозначенного периода многое менялось, поэтому имеет смысл рассматривать более мелкие промежутки времени по очереди. Начнем с описания контекста, затем перейдем уже непосредственно к примерам.
Общество после войны
Советский народ пережил страшную трагедию, которая нанесла травму всем без исключения жителям. Для того, чтобы хоть как-то от нее оправиться, нужен был длительный реабилитационный период. Соответственно, запрос общества был на мир, созидание и демонстрацию образа советского человека как великого воина и гражданина великой страны.
Советскому человеку, с одной стороны, хотелось обычной мирной жизни и уверенности в завтрашнем дне, а с другой — ощущать гордость за победу и непоколебимую силу духа.
Задачи государства после войны
Само собой, государство решало свои задачи. Да, война закончилась, но послевоенные периоды всегда очень сложны: фокус возвращается на многогранную внутреннюю политику. Истощенный советский народ нужно было излечить от посттравматического синдрома, уверить в завтрашнем дне, отблагодарить за победу и при этом восстановить экономику. Обо всём по порядку.
«Вылечить» народ
Как мы уже сказали, советские люди пережили самую страшную катастрофу 20 века, оправиться после которой было практически невозможно. Советская власть должна была показать, что отныне мир и созидание — главные цели и задачи общества. Нужно было показать людям, что они могут быть спокойны за завтрашний день.
Возродить экономику
Миллионы потерь в годы войны, разрушенные города, необходимость демилитаризации экономики — всё это то, с чем советской власти пришлось иметь дело после войны. Опять же, представьте себе: убитый горем и уставший советский народ нужно убедить пойти отстраивать заново города и дороги.
Безусловно, люди ощущали и духовный подъем от победы, но все же были такими же обычными людьми со своими переживаниями. Непросто было сразу же убедить их в том, что они снова что-то должны.
Кроме того, нужно было преодолеть грандиозную демографическую катастрофу. А для этого, опять же, необходимо показать, что завтрашний день будет мирным и спокойным. Иначе люди просто не будут рожать детей, находясь в постоянном страхе и тревоге.
Заводы и предприятия должны были возвращаться к мирному производству. Чтобы развернуть экономику с «военных рельс», тоже важно было поднять и мотивировать людей.
Обозначить новый статус во внешней политике
СССР — страна, победившая нацизм и освободившая от него Европу и нужно сделать так, чтобы все об этом знали и помнили. Государству нужно было подчеркнуть величие советской власти и народа, а также показать эффективность коммунистического строя всему миру.
Послевоенный период — пик популярности идей коммунизма в других странах. Компартии в Западной Европе и США еще никогда не имели такой поддержки. Развить этот успех — тоже одна из задач советской пропаганды того времени.
При этом нужно было сконцентрироваться именно на величии и достижениях внутри страны, а не противопоставлять себя внешним врагам. По сути показать, что идеи Страны Советов — единственное, что ведет мир к процветанию, созиданию и жизни без войн.
Одновременно изменился статус бывших союзников по антигитлеровской коалиции. На территориях Германии, подконтрольных Англии и США началось строительство послевоенной Германии, враждебной СССР. Отсюда – множество карикатур и рисунков про реваншизм, про возрождение фашизма. Аудитории было сложно воспринимать такое предательство бывших союзников. Тем не менее, взрыв левого терроризма в ФРГ в виде RAF было обусловлен именно тем, что практически все нацистские судьи остались на своих местах, а новую немецкую разведку создавал гитлеровский топ-офицер Гелен под руководством американцев. Но это стало в СССР известно широким массам гораздо позже. Тем не менее, в рисунках и плакатах эта мысль просачивалась.
Не забыть о величии Сталина
Советские города и экономику восстанавливали простые рабочие, но власть не могла отдать им все лавры. Необходимо было подчеркнуть, что именно мудрость и величие Иосифа Сталина сначала помогли выиграть войну, а теперь помогут стране вернуться к мирной, светлой и счастливой жизни.
Агитплакаты с 1945 до конца 40-х годов
Рассмотрев общественно-политический контекст, мы можем перейти к самим агитплакатам. Фокус тех лет был исключительно внутриполитическим, приведем примеры работ того времени, показывающие, как достигались все цели, обозначенные нами выше.
Новые плакаты стремились показать, что у советских детей будет счастливое будущее, что государство о них позаботится. С этой целью также использовали образ женщины. Материнство и детство — символы мирной жизни и созидания. Как мы уже говорили, стране, помимо прочего, нужно было выходить из чудовищной демографической ситуации.
Конечно же, государство не могло поднимать в агитацию тему нехватки мужского населения. Поэтому женщина была одновременно и матерью и труженицей, для которой труд — это счастье. Необходимо было донести красоту и достоинство новой советской женщины.
Тема социалистического соревнования, новых рекордов строительства и добычи часто поднималась именно к годовщинам Октябрьской революции, съездам партии и окончаниям пятилеток.
Идея коммунизма оставалась ключевой идеологией, по которой должен был жить каждый гражданин СССР. Жить по-коммунистически значит отдавать всего себя трудовой деятельности и стремиться к самосовершенствованию каждый день.
Конечно, не обходили стороной и культ личности Сталина. Его популярность была практически на пике, после окончания войны его лицо можно было увидеть на десятках агитплакатов. Само собой, в 50-е, уже после знаменитого XX съезда такого уже не будет.
Что изменилось в агитплакатах в конце 40-х годов
В конце 40-х акцент агитации постепенно начал сменяться. Плакаты, описывающие бурное развитие страны в послевоенные годы сохранился, но всё чаще стало проявляться противопоставление коммунизма капиталистическому обществу. На таких плакатах красочно преподносились социальные, политические, экономические и культурные успехи социализма, на фоне провалов капитализма.
Да, формально «холодная война» началась уже в 1946 году после речи Уинстона Черчилля в Фултоне. Тогда премьер-министр Великобритании сказал, что отношения с СССР можно строить только из позиции военного превосходства англоязычных стран и выбрал своим главным союзником США. Это неудивительно: на тот момент Штаты были единственным обладателем ядерного оружия, меньше остальных пострадали от войны из-за нахождения на другом континенте, а еще смогли заработать, предоставляя технику по ленд-лизу. Таким образом, меньше, чем через год после окончания войны СССР уже был объявлен главным врагом мира.
Советские агитплакаты начали появляться уже тогда, но эта тема была далеко не главной — в тот момент идеологам и художникам хватало смыслов для коммуникации с народом: нужно было восстанавливать страну и морально выводить народ из всего, что было пережито во время войны.
Ближе к концу 40-х годов общество постепенно отходило от ужасов войны и привыкало к мирной жизни. Нужны были новые смыслы, одним из таких оказалось противостояние с капиталистическим обществом. У нас: новые заводы, рекорды производства, счастливые семьи и дети, прекрасные больницы и школы, первомайские шествия. У них: безработица, бедные люди, издевательства богатых над бедными, социальное неравенство и антиправительственные демонстрации.
Противостояние двух мировых систем продлилось до окончания «холодной войны», а историки до сих пор спорят о том, насколько правдиво на самом деле показывались на плакатах события и социальные явления.
В.Корецкий, 1948 год. Один из самых знаменитых плакатов о противостоянии капитализма и коммунизма. Акцент сделан на том, насколько высокое искусство не интересует американское общество и как тяжело пробиться истинным талантам в условиях материалистического мира.
Стоит признать, что способ был выбран очень эффективный. Советский народ еще очень живо помнил, что за собой несет война. Более страшного образа для советского человека не существовало.
На плакате 1956 года Б.Ефимова и А.Лаврова та же тема: мечты Запада о мировом господстве путем войны в то время, как советский человек занят строительством своего государства.
Расовое неравенство — еще один повод для критики западного мира на советских плакатах. СССР был межнациональным государством, где равенство народов было закреплено в Конституции и постоянно подчеркивалось. Конечно же, это отражалось и в искусстве пропаганды.
Темы равноправия и многонациональности поднимались на всех типах плакатов: детских, спортивных, выборных и индустриальных. Главная мысль: в социалистической стране неравенства быть просто не может.
Количество локальных конфликтов по всему миру нарастало, а значит росло и противостояние двух идеологий. Каждый следующий конфликт бурно освещался пропагандой, показывая оппонента в максимально неприглядном свете. Одной из первых стала война в Корее.
Конечно, тематика плакатов тех лет не ограничивалась только политикой, задачи внутренней политики никуда не делись. Тема войны в пропаганде немного отошла на второй план, но строительство, индустриализация, равноправие и прочие социальные вопросы все еще были крайне актуальными.
Тем не менее, даже в плакатах, подчеркивающих успехи Советского Союза находилось место для «уколов» капиталистов. Например, в 1954 году была открыта Обнинская АЭС, что позволило заявить о лидерстве в ядерной энергетике. Плакат, посвященный мирному атому сделал Вениамин Брискин.
Несмотря на множество примеров, наша статья охватила только часть плакатов, которые были созданы художниками того времени. Некоторые историки считают, что плакаты того времени не достигли своей цели, потому что коммунистические идеи так и не проникли на запад полноценно.
Однако советский народ справился с тем, чтобы построить страну заново после войны. Безусловно, работы художников-плакатистов помогали людям сохранять боевой дух и справляться в тяжелое время.
Также в искусстве пропаганды достаточно остроумно и точно подчеркивались пороки и недостатки западного мира. Да, порой с преувеличением, но в откровенной лжи упрекнуть авторов все же не получится.
Следующим этапом в развитии плакатного искусства СССР будет «оттепель» Хрущева после знаменитого XX съезда КПСС и развенчания культа личности Сталина. Само собой, такие крупные политические изменения сильно повлияли на искусство. Но об этом имеет смысл рассказать отдельно.
Даже в рамках обозначенного периода многое менялось, поэтому имеет смысл рассматривать более мелкие промежутки времени по очереди. Начнем с описания контекста, затем перейдем уже непосредственно к примерам.
Общество после войны
Советский народ пережил страшную трагедию, которая нанесла травму всем без исключения жителям. Для того, чтобы хоть как-то от нее оправиться, нужен был длительный реабилитационный период. Соответственно, запрос общества был на мир, созидание и демонстрацию образа советского человека как великого воина и гражданина великой страны.
Советскому человеку, с одной стороны, хотелось обычной мирной жизни и уверенности в завтрашнем дне, а с другой — ощущать гордость за победу и непоколебимую силу духа.
Задачи государства после войны
Само собой, государство решало свои задачи. Да, война закончилась, но послевоенные периоды всегда очень сложны: фокус возвращается на многогранную внутреннюю политику. Истощенный советский народ нужно было излечить от посттравматического синдрома, уверить в завтрашнем дне, отблагодарить за победу и при этом восстановить экономику. Обо всём по порядку.
«Вылечить» народ
Как мы уже сказали, советские люди пережили самую страшную катастрофу 20 века, оправиться после которой было практически невозможно. Советская власть должна была показать, что отныне мир и созидание — главные цели и задачи общества. Нужно было показать людям, что они могут быть спокойны за завтрашний день.
Возродить экономику
Миллионы потерь в годы войны, разрушенные города, необходимость демилитаризации экономики — всё это то, с чем советской власти пришлось иметь дело после войны. Опять же, представьте себе: убитый горем и уставший советский народ нужно убедить пойти отстраивать заново города и дороги.
Безусловно, люди ощущали и духовный подъем от победы, но все же были такими же обычными людьми со своими переживаниями. Непросто было сразу же убедить их в том, что они снова что-то должны.
Кроме того, нужно было преодолеть грандиозную демографическую катастрофу. А для этого, опять же, необходимо показать, что завтрашний день будет мирным и спокойным. Иначе люди просто не будут рожать детей, находясь в постоянном страхе и тревоге.
Заводы и предприятия должны были возвращаться к мирному производству. Чтобы развернуть экономику с «военных рельс», тоже важно было поднять и мотивировать людей.
Обозначить новый статус во внешней политике
СССР — страна, победившая нацизм и освободившая от него Европу и нужно сделать так, чтобы все об этом знали и помнили. Государству нужно было подчеркнуть величие советской власти и народа, а также показать эффективность коммунистического строя всему миру.
Послевоенный период — пик популярности идей коммунизма в других странах. Компартии в Западной Европе и США еще никогда не имели такой поддержки. Развить этот успех — тоже одна из задач советской пропаганды того времени.
При этом нужно было сконцентрироваться именно на величии и достижениях внутри страны, а не противопоставлять себя внешним врагам. По сути показать, что идеи Страны Советов — единственное, что ведет мир к процветанию, созиданию и жизни без войн.
Одновременно изменился статус бывших союзников по антигитлеровской коалиции. На территориях Германии, подконтрольных Англии и США началось строительство послевоенной Германии, враждебной СССР. Отсюда – множество карикатур и рисунков про реваншизм, про возрождение фашизма. Аудитории было сложно воспринимать такое предательство бывших союзников. Тем не менее, взрыв левого терроризма в ФРГ в виде RAF было обусловлен именно тем, что практически все нацистские судьи остались на своих местах, а новую немецкую разведку создавал гитлеровский топ-офицер Гелен под руководством американцев. Но это стало в СССР известно широким массам гораздо позже. Тем не менее, в рисунках и плакатах эта мысль просачивалась.
Не забыть о величии Сталина
Советские города и экономику восстанавливали простые рабочие, но власть не могла отдать им все лавры. Необходимо было подчеркнуть, что именно мудрость и величие Иосифа Сталина сначала помогли выиграть войну, а теперь помогут стране вернуться к мирной, светлой и счастливой жизни.
Агитплакаты с 1945 до конца 40-х годов
Рассмотрев общественно-политический контекст, мы можем перейти к самим агитплакатам. Фокус тех лет был исключительно внутриполитическим, приведем примеры работ того времени, показывающие, как достигались все цели, обозначенные нами выше.
Новые плакаты стремились показать, что у советских детей будет счастливое будущее, что государство о них позаботится. С этой целью также использовали образ женщины. Материнство и детство — символы мирной жизни и созидания. Как мы уже говорили, стране, помимо прочего, нужно было выходить из чудовищной демографической ситуации.
Конечно же, государство не могло поднимать в агитацию тему нехватки мужского населения. Поэтому женщина была одновременно и матерью и труженицей, для которой труд — это счастье. Необходимо было донести красоту и достоинство новой советской женщины.
Тема социалистического соревнования, новых рекордов строительства и добычи часто поднималась именно к годовщинам Октябрьской революции, съездам партии и окончаниям пятилеток.
Идея коммунизма оставалась ключевой идеологией, по которой должен был жить каждый гражданин СССР. Жить по-коммунистически значит отдавать всего себя трудовой деятельности и стремиться к самосовершенствованию каждый день.
Конечно, не обходили стороной и культ личности Сталина. Его популярность была практически на пике, после окончания войны его лицо можно было увидеть на десятках агитплакатов. Само собой, в 50-е, уже после знаменитого XX съезда такого уже не будет.
Что изменилось в агитплакатах в конце 40-х годов
В конце 40-х акцент агитации постепенно начал сменяться. Плакаты, описывающие бурное развитие страны в послевоенные годы сохранился, но всё чаще стало проявляться противопоставление коммунизма капиталистическому обществу. На таких плакатах красочно преподносились социальные, политические, экономические и культурные успехи социализма, на фоне провалов капитализма.
Да, формально «холодная война» началась уже в 1946 году после речи Уинстона Черчилля в Фултоне. Тогда премьер-министр Великобритании сказал, что отношения с СССР можно строить только из позиции военного превосходства англоязычных стран и выбрал своим главным союзником США. Это неудивительно: на тот момент Штаты были единственным обладателем ядерного оружия, меньше остальных пострадали от войны из-за нахождения на другом континенте, а еще смогли заработать, предоставляя технику по ленд-лизу. Таким образом, меньше, чем через год после окончания войны СССР уже был объявлен главным врагом мира.
Советские агитплакаты начали появляться уже тогда, но эта тема была далеко не главной — в тот момент идеологам и художникам хватало смыслов для коммуникации с народом: нужно было восстанавливать страну и морально выводить народ из всего, что было пережито во время войны.
Ближе к концу 40-х годов общество постепенно отходило от ужасов войны и привыкало к мирной жизни. Нужны были новые смыслы, одним из таких оказалось противостояние с капиталистическим обществом. У нас: новые заводы, рекорды производства, счастливые семьи и дети, прекрасные больницы и школы, первомайские шествия. У них: безработица, бедные люди, издевательства богатых над бедными, социальное неравенство и антиправительственные демонстрации.
Противостояние двух мировых систем продлилось до окончания «холодной войны», а историки до сих пор спорят о том, насколько правдиво на самом деле показывались на плакатах события и социальные явления.
В.Корецкий, 1948 год. Один из самых знаменитых плакатов о противостоянии капитализма и коммунизма. Акцент сделан на том, насколько высокое искусство не интересует американское общество и как тяжело пробиться истинным талантам в условиях материалистического мира.
Стоит признать, что способ был выбран очень эффективный. Советский народ еще очень живо помнил, что за собой несет война. Более страшного образа для советского человека не существовало.
На плакате 1956 года Б.Ефимова и А.Лаврова та же тема: мечты Запада о мировом господстве путем войны в то время, как советский человек занят строительством своего государства.
Расовое неравенство — еще один повод для критики западного мира на советских плакатах. СССР был межнациональным государством, где равенство народов было закреплено в Конституции и постоянно подчеркивалось. Конечно же, это отражалось и в искусстве пропаганды.
Темы равноправия и многонациональности поднимались на всех типах плакатов: детских, спортивных, выборных и индустриальных. Главная мысль: в социалистической стране неравенства быть просто не может.
Количество локальных конфликтов по всему миру нарастало, а значит росло и противостояние двух идеологий. Каждый следующий конфликт бурно освещался пропагандой, показывая оппонента в максимально неприглядном свете. Одной из первых стала война в Корее.
Конечно, тематика плакатов тех лет не ограничивалась только политикой, задачи внутренней политики никуда не делись. Тема войны в пропаганде немного отошла на второй план, но строительство, индустриализация, равноправие и прочие социальные вопросы все еще были крайне актуальными.
Тем не менее, даже в плакатах, подчеркивающих успехи Советского Союза находилось место для «уколов» капиталистов. Например, в 1954 году была открыта Обнинская АЭС, что позволило заявить о лидерстве в ядерной энергетике. Плакат, посвященный мирному атому сделал Вениамин Брискин.
Несмотря на множество примеров, наша статья охватила только часть плакатов, которые были созданы художниками того времени. Некоторые историки считают, что плакаты того времени не достигли своей цели, потому что коммунистические идеи так и не проникли на запад полноценно.
Однако советский народ справился с тем, чтобы построить страну заново после войны. Безусловно, работы художников-плакатистов помогали людям сохранять боевой дух и справляться в тяжелое время.
Также в искусстве пропаганды достаточно остроумно и точно подчеркивались пороки и недостатки западного мира. Да, порой с преувеличением, но в откровенной лжи упрекнуть авторов все же не получится.
Следующим этапом в развитии плакатного искусства СССР будет «оттепель» Хрущева после знаменитого XX съезда КПСС и развенчания культа личности Сталина. Само собой, такие крупные политические изменения сильно повлияли на искусство. Но об этом имеет смысл рассказать отдельно.
Маяковский в витринах
«Окна РОСТА» - это один из паролей, по которым мы безошибочно узнаём жизнь Владимира Маяковского. «Жёлтая кофта», «Лиля Брик», ЛЕФ, «Окна РОСТА». Всё это – Маяковский. Он умел метить собой явления; по словам современника, всюду, от поэтических вечеров до редакций, его с готовностью воспринимали как «генерала». «Окна РОСТА» не были исключением, хотя Маяковский не был ни инициатором, ни формальным руководителем этого дела. Впрочем, и у неутомимой Лили Юрьевны кто только не бывал в любовниках, а помним мы её исключительно благодаря поэту. Итак, что же это были за окна такие?
«Окна сатиры РОСТА» как пропагандистский проект более всего выделяются тем, что этот проект не отражал жизнь страны, он был её частью, наравне с продразвёрсткой или взятием Перекопа. Это не был тот случай, когда народ погибал на фронте, замерзал в полях или надрывался на стройках, а в это время сытые пропагандисты в тёплых кабинетах воспевали его подвиги. Сотрудники «Окон РОСТА» были поставлены в те же условия, что и остальная страна, в том числе и в технологическом смысле. Чем-то они были похожи на героев Терри Пратчетта, изобретающих эффективные технологии в мире без признаков современной цивилизации.
В 1919 году цивилизация в Советской России и правда пришла в упадок. Стояли заводы, были закрыты магазины, люди выживали с трудом. Российское телеграфное агентство (РОСТА) – то самое, которое позже превратится в ТАСС, - функционировало с трудом. Не хватало бумаги, типографских красок, оборудования, специалистов. В этой обстановке агентство было вынуждено как-то выкручиваться, искать альтернативные способы агитации. Это и расклейка газет на стенах, и чтение новостных сводок вслух, и нанесение мелом агитационных надписей на стенках железнодорожных вагонов и на бортах пароходов. Художник Михаил Черемных однажды шёл по Москве, смотрел на огромные пустующие витрины закрытых магазинов, и вдруг у него возникла идея: а ведь в этих витринах можно вывешивать агитплакаты! Руководителю РОСТА Платону Керженцеву эта мысль понравилась; в конце концов, и само агентство размещалось тогда в бывшем кондитерском магазине Абрикосова на углу Неглинной и Кузнецкого Моста.
Помимо яркой подачи (цветной рисунок/карикатура плюс остроумный текст), плакат имел преимущество большого формата – удобнее разглядывать толпой. Изготовление плакатов не было стеснено возможностями полиграфических машин, поэтому размер «окна» доходил до 4х4 аршина (1 аршин = 71 см).
Первое «окно» было нарисовано самим Черемныхом (в литературе принято эту фамилию склонять) с подписью литератора Н.К. Иванова (псевдоним Грамен; будущий соредактор журнала «Крокодил»). Было это где-то на рубеже августа и сентября 1919 года, и «пилотный» выпуск был размещён в витрине другого магазина Абрикосова, на углу Тверской и Большого Чернышёвского переулка (ныне Вознесенский переулок).
Как в этот проект попал Маяковский? Легенда гласит, что совершенно случайно. Просто шёл по городу, и уже в витрине другого магазина, «сорокоумовского», на пересечении Кузнецкого и Петровки, увидел агитационный плакат. «О, это то, что мне нужно!» - подумал поэт и тут же пошёл в РОСТА, чтобы примкнуть к новому хорошему делу.
Зачем? Во-первых, голод не тётка, а тут, очевидно, можно было заработать. Во-вторых, это отвечало идеям футуризма. Ещё 15 марта 1918 года в «Газете футуристов» был опубликован «Декрет № 1 о демократизации искусств», в котором говорилось: «Свободное Слово творческой личности пусть будет написано на перекрёстках домовых стен, заборов, крыш, улиц наших городов…» И вот он, шанс: пиши своё слово, рекламируй революцию в витринах вместо мехов или шоколада. Наконец, здесь Маяковский мог реализовать свою концепцию поэта как работника в мастерской языка.
Искать выходы на нужного человека ему долго не пришлось: в художественном мире у него были все свои, а Черемных вообще был его соучеником в МУЖВЗ. Старые знакомые.
Маяковский вступает в игру с начала октября 1919 года и сразу же становится лидером. Его дебют – «Окно сатиры РОСТА №5». Два рисунка и два стихотворения:
1
Рабочий!
Глупость беспартийную выкинь!
Если хочешь жить с другими вразброд-
всех по очереди словит Деникин,
всех сожрёт генеральский рот.
2
Если ж на зов партийной недели
придут миллионы с фабрик и с пашен –
рабочий быстро докажет на деле,
что коммунистам никто не страшен.
Ситуация-то была серьёзнейшая. Деникин движется к Москве, Юденич к Петрограду, и на этом фоне в стране проводится «партийная неделя» - кампания по вовлечению трудящихся в партию. Самая что ни на есть злоба дня – но Маяковский этого-то и хотел.
Пятью годами ранее, в истории с «Сегодняшним лубком», уже проявилось уникальное преимущество Маяковского в агитационном жанре: он владел и словом, и карандашом. Не скажу, что одинаково; поэт он был гениальный, а художник… ну, в «Окнах РОСТА» были художники получше, взять хотя бы того же Черемныха, хотя были и те, кто предпочитал именно рисунки Маяковского.
Черемных, впрочем, был совершенно неспособен написать не то что стихотворную, но даже хорошую прозаическую подпись к своим плакатах, поэтому Маяковский естественным образом сделался неформальным лидером всего предприятия. Дело в том, что «Окна РОСТА» были текстоцентричным проектом. Амплуа «темиста» (человека, придумывавшего темы) вообще было в тогдашней прессе востребовано (и увековечено Ильфом и Петровым в образе Авессалома Изнуренкова). Маяковский с его чувством актуальности замечательно выполнял роль темиста, метко выуживая нужные темы из потока телеграфных сообщений, ещё не пошедших в газеты. Но работа художника в РОСТА строилась даже не вокруг темы как таковой, а вокруг готового текста.
Вот почему Маяковский сразу же оказался «на раздаче». Мало того, что он написал, по разным данным, от 80 до 85 процентов подписей к плакатам, но и все прочие темы и тексты проходили через него. Что-то он браковал, что-то правил. Во всяком случае, все тексты Михаил Черемных получал от Маяковского, который, таким образом, фактически стал литературным редактором проекта.
Кто ещё писал? Порой это люди, имена которых нам ничего теперь не говорят. Борис Песис. Теодор Левит. Или Михаил Вольпин, который сначала пришёл устраиваться художником, но Маяковский определил его в текстовики. Последнему принадлежат строчки, про которые поэт сказал: «Это я должен был написать»:
Поглядите, товарищи,
на худобу и слезу его.
Это рабочий
из Орехова Зуева.
Однако второй по значению после Маяковского поставщик текстов для «окон» - человек как раз очень известный, хотя и совершенно «из другой оперы». Это Рита Райт, которая в будущем, под фамилией Райт-Ковалёва, прославится как переводчица Сэлинджера, Воннегута и других кумиров позднесоветской интеллигенции.
Маяковский повлиял на манеру ростинских плакатов; если прежде они мыслились как увеличенная страница сатирического журнала, с рядом рисунков и карикатур на разные темы, то он вводит стандарт монотематического выпуска, своего рода комикса, в котором одна тема развивается с помощью нескольких изображений (например, четырех, шести или восьми) и подписей к ним.
Но главный технологический переворот совершил не Маяковский и не Черемных, а другой человек. По словам Черемныха, это был художник, работавший под псевдонимом Пэт, по сведениям Н.Д. Виноградова – некий Михайлов. Это использование трафаретов, по которым делали копии рисунков. Изначально каждое «окно» существовало в единственном экземпляре. Потом стали использовать копирку, но это не прижилось. С помощью трафаретов можно было за несколько дней изготовить 200-300 копий каждого плаката – и это только для Москвы. Со временем стали вырезать порядка полусотни трафаретов – для каждого регионального отделения агентства. В итоге плакаты расходились по стране сотнями тысяч экземпляров ежемесячно – гигантский масштаб для столь примитивной технологии.
Всё это предприятие, конечно, держалось на трудовом энтузиазме, достойном Павки Корчагина. И прежде всего на феноменальной работоспособности Маяковского, который не только держал на себе текстовую часть, но и был одним из трех главных художников проекта, наряду с Михаилом Черемных и Иваном Малютиным.
В статье «Прошу слова» Маяковский пишет: «Работали в огромной нетопленной, сводящей морозом (впоследствии – выедающая глаза дымом буржуйка) мастерской РОСТА. Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься… С течением времени мы до того изощрили руку, что могли рисовать сложный рабочий силуэт с закрытыми глазами… От нас требовалась машинная быстрота: бывало, телеграфное известие о фронтовой победе через сорок минут – час уже висело на улице красочным плакатом».
Мало того, для него это было чем-то вроде семейного предприятия. К раскрашиванию рисунков он привлёк Лилю Брик; он только обозначал буквами, какой контур чем закрашивать: красным, синим или, может быть «мордовым» (так они называли краску для расцвечивания лиц персонажей). Помогали и сёстры поэта, Людмила и Ольга. На подхвате бывал и Осип Брик.
Поскольку Маяковскому выписывали гонорар и за темы, и за тексты, и за рисунки, он хорошо на этом зарабатывал, настолько хорошо, что РАБИС (Союз работников искусств), встревожившись, проводил по этому поводу заседание. В итоге решили: если срезать ставку всем, то менее активные работники будут получать совсем мало, а уменьшать ставку лишь одному человеку было бы некрасиво.
Ростинский марафон Маяковского продолжался около двух с половиной лет, до начала февраля 1922 года (с января 1921 года плакаты стали выпускаться под маркой Главполитпросвета). Всего сохранилось порядка 400 плакатов работы Маяковского и многие сотни стихотворных подписей; поэт с гордостью называл это «вторым собранием сочинений».
Особенность «Окон РОСТА» для творческой эволюции Маяковского не только в том, что это крупнейший пропагандистский проект, в котором он участвовал как поэт и как художник. Это дело, которое потребовало от него полного погружения. Считается, что за весь ростинский период Маяковский написал только одно стихотворение, не имевшее отношения к «окнам» - «Необычайное приключение…» (про разговор с солнцем).
То есть на эти два с половиной года Маяковский сделался исключительно поэтом-пропагандистом, поэтом-репортером, фиксирующим события в оперативном режиме. И это само по себе стало уникальным поэтическим и поведенческим экспериментом, который никому не удалось повторить (хотя можно вспомнить Сельвинского, который на два года ушел работать на московский Электрозавод и написал там поэму «Электрозаводская газета»). Фактически Маяковский дал свою парадоксальную версию жизнетворчества, как бы полемизируя с жизнетворчеством декадентов.
Можно сказать, что ростинский период разделил творческую биографию поэта на две примерно равные части: 1912 – 1919 и 1922 – 1930. До РОСТА были футуризм, знакомство с Бриками, попытки пристроиться к делу при советской власти, после – успех «Прозаседавшихся», заграничные поездки, «Про это» и революционные поэмы, работа в советской рекламе и знаменитое «Нигде кроме как в Моссельпроме».
Кстати, после того, как Главполитпросвет перестал платить за плакаты, Михаил Черемных предлагал продолжить «окна» на коммерческой основе, беря рекламные заказы у нэпманов. Маяковский его отчитал и, можно сказать, пристыдил. Он понимал, что такое ценность бренда, и размывать бренд считал недопустимым.
Впрочем, «окнам» всё же была суждена вторая жизнь. Когда началась Великая Отечественная война, тот же Михаил Черемных возродил этот проект под названием «Окна ТАСС».
«Окна сатиры РОСТА» как пропагандистский проект более всего выделяются тем, что этот проект не отражал жизнь страны, он был её частью, наравне с продразвёрсткой или взятием Перекопа. Это не был тот случай, когда народ погибал на фронте, замерзал в полях или надрывался на стройках, а в это время сытые пропагандисты в тёплых кабинетах воспевали его подвиги. Сотрудники «Окон РОСТА» были поставлены в те же условия, что и остальная страна, в том числе и в технологическом смысле. Чем-то они были похожи на героев Терри Пратчетта, изобретающих эффективные технологии в мире без признаков современной цивилизации.
В 1919 году цивилизация в Советской России и правда пришла в упадок. Стояли заводы, были закрыты магазины, люди выживали с трудом. Российское телеграфное агентство (РОСТА) – то самое, которое позже превратится в ТАСС, - функционировало с трудом. Не хватало бумаги, типографских красок, оборудования, специалистов. В этой обстановке агентство было вынуждено как-то выкручиваться, искать альтернативные способы агитации. Это и расклейка газет на стенах, и чтение новостных сводок вслух, и нанесение мелом агитационных надписей на стенках железнодорожных вагонов и на бортах пароходов. Художник Михаил Черемных однажды шёл по Москве, смотрел на огромные пустующие витрины закрытых магазинов, и вдруг у него возникла идея: а ведь в этих витринах можно вывешивать агитплакаты! Руководителю РОСТА Платону Керженцеву эта мысль понравилась; в конце концов, и само агентство размещалось тогда в бывшем кондитерском магазине Абрикосова на углу Неглинной и Кузнецкого Моста.
Помимо яркой подачи (цветной рисунок/карикатура плюс остроумный текст), плакат имел преимущество большого формата – удобнее разглядывать толпой. Изготовление плакатов не было стеснено возможностями полиграфических машин, поэтому размер «окна» доходил до 4х4 аршина (1 аршин = 71 см).
Первое «окно» было нарисовано самим Черемныхом (в литературе принято эту фамилию склонять) с подписью литератора Н.К. Иванова (псевдоним Грамен; будущий соредактор журнала «Крокодил»). Было это где-то на рубеже августа и сентября 1919 года, и «пилотный» выпуск был размещён в витрине другого магазина Абрикосова, на углу Тверской и Большого Чернышёвского переулка (ныне Вознесенский переулок).
Как в этот проект попал Маяковский? Легенда гласит, что совершенно случайно. Просто шёл по городу, и уже в витрине другого магазина, «сорокоумовского», на пересечении Кузнецкого и Петровки, увидел агитационный плакат. «О, это то, что мне нужно!» - подумал поэт и тут же пошёл в РОСТА, чтобы примкнуть к новому хорошему делу.
Зачем? Во-первых, голод не тётка, а тут, очевидно, можно было заработать. Во-вторых, это отвечало идеям футуризма. Ещё 15 марта 1918 года в «Газете футуристов» был опубликован «Декрет № 1 о демократизации искусств», в котором говорилось: «Свободное Слово творческой личности пусть будет написано на перекрёстках домовых стен, заборов, крыш, улиц наших городов…» И вот он, шанс: пиши своё слово, рекламируй революцию в витринах вместо мехов или шоколада. Наконец, здесь Маяковский мог реализовать свою концепцию поэта как работника в мастерской языка.
Искать выходы на нужного человека ему долго не пришлось: в художественном мире у него были все свои, а Черемных вообще был его соучеником в МУЖВЗ. Старые знакомые.
Маяковский вступает в игру с начала октября 1919 года и сразу же становится лидером. Его дебют – «Окно сатиры РОСТА №5». Два рисунка и два стихотворения:
1
Рабочий!
Глупость беспартийную выкинь!
Если хочешь жить с другими вразброд-
всех по очереди словит Деникин,
всех сожрёт генеральский рот.
2
Если ж на зов партийной недели
придут миллионы с фабрик и с пашен –
рабочий быстро докажет на деле,
что коммунистам никто не страшен.
Ситуация-то была серьёзнейшая. Деникин движется к Москве, Юденич к Петрограду, и на этом фоне в стране проводится «партийная неделя» - кампания по вовлечению трудящихся в партию. Самая что ни на есть злоба дня – но Маяковский этого-то и хотел.
Пятью годами ранее, в истории с «Сегодняшним лубком», уже проявилось уникальное преимущество Маяковского в агитационном жанре: он владел и словом, и карандашом. Не скажу, что одинаково; поэт он был гениальный, а художник… ну, в «Окнах РОСТА» были художники получше, взять хотя бы того же Черемныха, хотя были и те, кто предпочитал именно рисунки Маяковского.
Черемных, впрочем, был совершенно неспособен написать не то что стихотворную, но даже хорошую прозаическую подпись к своим плакатах, поэтому Маяковский естественным образом сделался неформальным лидером всего предприятия. Дело в том, что «Окна РОСТА» были текстоцентричным проектом. Амплуа «темиста» (человека, придумывавшего темы) вообще было в тогдашней прессе востребовано (и увековечено Ильфом и Петровым в образе Авессалома Изнуренкова). Маяковский с его чувством актуальности замечательно выполнял роль темиста, метко выуживая нужные темы из потока телеграфных сообщений, ещё не пошедших в газеты. Но работа художника в РОСТА строилась даже не вокруг темы как таковой, а вокруг готового текста.
Вот почему Маяковский сразу же оказался «на раздаче». Мало того, что он написал, по разным данным, от 80 до 85 процентов подписей к плакатам, но и все прочие темы и тексты проходили через него. Что-то он браковал, что-то правил. Во всяком случае, все тексты Михаил Черемных получал от Маяковского, который, таким образом, фактически стал литературным редактором проекта.
Кто ещё писал? Порой это люди, имена которых нам ничего теперь не говорят. Борис Песис. Теодор Левит. Или Михаил Вольпин, который сначала пришёл устраиваться художником, но Маяковский определил его в текстовики. Последнему принадлежат строчки, про которые поэт сказал: «Это я должен был написать»:
Поглядите, товарищи,
на худобу и слезу его.
Это рабочий
из Орехова Зуева.
Однако второй по значению после Маяковского поставщик текстов для «окон» - человек как раз очень известный, хотя и совершенно «из другой оперы». Это Рита Райт, которая в будущем, под фамилией Райт-Ковалёва, прославится как переводчица Сэлинджера, Воннегута и других кумиров позднесоветской интеллигенции.
Маяковский повлиял на манеру ростинских плакатов; если прежде они мыслились как увеличенная страница сатирического журнала, с рядом рисунков и карикатур на разные темы, то он вводит стандарт монотематического выпуска, своего рода комикса, в котором одна тема развивается с помощью нескольких изображений (например, четырех, шести или восьми) и подписей к ним.
Но главный технологический переворот совершил не Маяковский и не Черемных, а другой человек. По словам Черемныха, это был художник, работавший под псевдонимом Пэт, по сведениям Н.Д. Виноградова – некий Михайлов. Это использование трафаретов, по которым делали копии рисунков. Изначально каждое «окно» существовало в единственном экземпляре. Потом стали использовать копирку, но это не прижилось. С помощью трафаретов можно было за несколько дней изготовить 200-300 копий каждого плаката – и это только для Москвы. Со временем стали вырезать порядка полусотни трафаретов – для каждого регионального отделения агентства. В итоге плакаты расходились по стране сотнями тысяч экземпляров ежемесячно – гигантский масштаб для столь примитивной технологии.
Всё это предприятие, конечно, держалось на трудовом энтузиазме, достойном Павки Корчагина. И прежде всего на феноменальной работоспособности Маяковского, который не только держал на себе текстовую часть, но и был одним из трех главных художников проекта, наряду с Михаилом Черемных и Иваном Малютиным.
В статье «Прошу слова» Маяковский пишет: «Работали в огромной нетопленной, сводящей морозом (впоследствии – выедающая глаза дымом буржуйка) мастерской РОСТА. Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься… С течением времени мы до того изощрили руку, что могли рисовать сложный рабочий силуэт с закрытыми глазами… От нас требовалась машинная быстрота: бывало, телеграфное известие о фронтовой победе через сорок минут – час уже висело на улице красочным плакатом».
Мало того, для него это было чем-то вроде семейного предприятия. К раскрашиванию рисунков он привлёк Лилю Брик; он только обозначал буквами, какой контур чем закрашивать: красным, синим или, может быть «мордовым» (так они называли краску для расцвечивания лиц персонажей). Помогали и сёстры поэта, Людмила и Ольга. На подхвате бывал и Осип Брик.
Поскольку Маяковскому выписывали гонорар и за темы, и за тексты, и за рисунки, он хорошо на этом зарабатывал, настолько хорошо, что РАБИС (Союз работников искусств), встревожившись, проводил по этому поводу заседание. В итоге решили: если срезать ставку всем, то менее активные работники будут получать совсем мало, а уменьшать ставку лишь одному человеку было бы некрасиво.
Ростинский марафон Маяковского продолжался около двух с половиной лет, до начала февраля 1922 года (с января 1921 года плакаты стали выпускаться под маркой Главполитпросвета). Всего сохранилось порядка 400 плакатов работы Маяковского и многие сотни стихотворных подписей; поэт с гордостью называл это «вторым собранием сочинений».
Особенность «Окон РОСТА» для творческой эволюции Маяковского не только в том, что это крупнейший пропагандистский проект, в котором он участвовал как поэт и как художник. Это дело, которое потребовало от него полного погружения. Считается, что за весь ростинский период Маяковский написал только одно стихотворение, не имевшее отношения к «окнам» - «Необычайное приключение…» (про разговор с солнцем).
То есть на эти два с половиной года Маяковский сделался исключительно поэтом-пропагандистом, поэтом-репортером, фиксирующим события в оперативном режиме. И это само по себе стало уникальным поэтическим и поведенческим экспериментом, который никому не удалось повторить (хотя можно вспомнить Сельвинского, который на два года ушел работать на московский Электрозавод и написал там поэму «Электрозаводская газета»). Фактически Маяковский дал свою парадоксальную версию жизнетворчества, как бы полемизируя с жизнетворчеством декадентов.
Можно сказать, что ростинский период разделил творческую биографию поэта на две примерно равные части: 1912 – 1919 и 1922 – 1930. До РОСТА были футуризм, знакомство с Бриками, попытки пристроиться к делу при советской власти, после – успех «Прозаседавшихся», заграничные поездки, «Про это» и революционные поэмы, работа в советской рекламе и знаменитое «Нигде кроме как в Моссельпроме».
Кстати, после того, как Главполитпросвет перестал платить за плакаты, Михаил Черемных предлагал продолжить «окна» на коммерческой основе, беря рекламные заказы у нэпманов. Маяковский его отчитал и, можно сказать, пристыдил. Он понимал, что такое ценность бренда, и размывать бренд считал недопустимым.
Впрочем, «окнам» всё же была суждена вторая жизнь. Когда началась Великая Отечественная война, тот же Михаил Черемных возродил этот проект под названием «Окна ТАСС».
Агит-парфюм
К «Красной Москве», «Кремлю» и всему каноничному пантеону парфюмерной фабрики «Новая Заря» с идеологической точки зрения вопросов не может быть никаких. Всё «красное», снаружи и содержательно – метафора последней степени убедительности. В смысле «потребности к распространению» эти образы даже не вполне относятся к пропаганде – они уже повсюду, подшиты сразу при рождении на подкорку всех живущих поколений, и, в общем, нуждаются только в умелом обращении и огранке под актуальные форматы. Дабы влезли. Но в целом – идеи имеют свойство разрастаться до вольных локомотивов, прекрасных и ко многому обязующих самим фактом своего существования. Так и здесь.
Но не красной нетленкой единой, хотя не затронуть её мы не можем. Приподнимемся на уровень выше. Парфюмерия в СССР, как и всякий вид искусства или отрасль промышленности – уже в немалой степени медиа, то есть, инструмент, заточенный на посев посылов. Будто бы напрашивается на существование термин «агит-парфюм». Звучит гордо, рублено и доходчиво, как и полагается. Сам механизм распространения сообщений при помощи духов есть смысл разобрать подробнее, он совсем не так очевиден и, назовем это так, многоканален.
Давайте зафиксируем: парфюм – это пропаганда. А пропаганда – фильтр, отсеивающий от исходного сообщения все (до 99%!) вредные примеси и насыщающий его полезными микроэлементами. Для лучшего усвоения. Изъюзанная классика Маршалла Маклюэна – определение медиа как внешнего «продолжения» человеческих функций и потребностей – к парфюмерии относится в полной мере. «Аромат, подчеркивающий вашу индивидуальность…», перечни канонично мужицких, или наоборот, трепетных до эдемской летучести нот – всё это не просто баловство копирайтеров, но объективная потребность людей пахнуть доходчивее.
В случае с советским парфюмом стоит вынырнуть из содержания и приглядеться к оболочке. То есть к склянкам, флаконам и иной таре. Блики на её гранях всё вам расскажут. Может сложиться впечатление, что упаковочной части уделялось в разы больше внимания, чем, собственно, ароматическим тонкостям. Это будет не вполне справедливо. Правильнее сказать, что мерила успеха в работе над формой и содержанием друг от друга очень сильно отличались.
Аромат – каким бы выверенным он ни был – это медиум очень ограниченного радиуса действия, в отличие от текста и картинки. Из чистой ольфакторности пропаганду не сделать. Духи без величавой склянки – образ не тиражируемый, можно даже сказать, не визуальный в принципе. Про синестезию тогда уже знали, но не придавали ей такого большого значения.
Взять аромат «Спутник», выпущенный на всё той же фабрике «Новая Заря» в 1958 году – судя по всему, аккурат к годовщине появления на земной орбите «Спутника-1», юркого полированного небожителя, одного из живейших символов всего советского.
«Спутник» - первый из космических ароматов, выпущенных в Союзе. Сама по себе медового цвета жидкость особых ассоциаций с Циолковским, Фёдоровым и безраздельными просторами Вселенной не вызывает, но всё решает оболочка. На темно-синей коробке духов изображены не один, а целых три спутника – ровно столько неутомимая советская наука успела запустить с осени 1957 по осень 1958 годов. Вот и летят они, увековеченные – один за другим.
Но главное – сам флакон. Сферический и в вакууме, как и всё космическое. Шар – универсальное небесное тело, в ассоциативном ряду найдется место и для спутников, и для планет, да хоть для мирового яйца. Но вообще-то в очертаниях и рельефе премьерных космо-духов угадывается вполне конкретный шар, земной – и несложно понять, на территории какой страны «приземлился» золоченый шильдик с названием аромата. В некоторых случаях смысловые люфты и двойственность интерпретаций полезны, в других – непозволительны. В конце 50-х космическая гонка готовилась ускориться до невозможного, кислород, казалось, превращался не в углекислый газ, но в раскаленную массу плотнее самой жизни – ею дышали большие идеи, тогда еще способные расцветать.
Космос, даром что безвоздушный и безземельный, стал едва ли не наиболее плодородной почвой для производства политико-эстетических метафор, и продержался в этом качестве немало – по нынешним меркам – времени. Естественно, что на «Спутнике» всё не закончилось, но, дебютировав с ним на космическом поле, советская парфюмерия сходу совершает неочевидную с первого взгляда перетасовку образов. Если посмотреть на флаконы всех тематических ароматов, вышедших после «Спутника», там не обнаружится больше ни одного шара. На его место приходит другая формообразующая доминанта – вертикаль.
Даже женский аромат «В космос» (производитель – всё та же «Новая Заря), выпущенный в 1959 году в шарообразном флаконе, почти неотличимом от «Спутника», уже дополнительно упакован в стоячий бокс, напоминающий колпак. Иногда конус – это просто конус. Быть может, и здесь так замышлялось. Но уж больно велико желание увидеть в конусе переходный этап от закругленной цикличности (вид снизу) к чистой динамике, направленной исключительно вверх, никуда больше (вид сбоку).
В последующие годы флагманские фабрики «Новая Заря» (Москва) и «Северное сияние» (Ленинград) создают без пяти минут парфюмерное созвездие – одному только полету в космос Юрия Гагарина посвящается сразу три аромата. Два из них называются «Восток», в честь корабля первого космонавта, третий – «Слава».
И снова обратим внимание на флаконы – все они, как один, напоминают уносящиеся в космос космические корабли – только почему-то прозрачные, будто хрустальные. Янтарная жидкость внутри таких объемов сразу обретает очевидную ассоциацию с ракетным топливом. За счёт такого баланса образы достигают сбалансированности – холодная бестелесная полупрозрачность формы и огненосное, неукротимое, алхимическое содержание.
Один из самых известных советских ароматов, связанных с темой покорения бескрайних пространств, раскинувшихся где-то над нами – духи «Ярославна», выпущенные фабрикой «Новая Заря» в 1963 году. «Ярославна» – посвящение полету в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой.
Несмотря на видимую парадоксальность предыдущего предложения, никакой ошибки ни в нем, ни в решении парфюмеров, нет. Валентина Терешкова (позывной – «Чайка») родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково, что в Ярославской области. Потому и «Ярославна». Нейминг здесь – не просто креатив во имя креатива, но и способ новой эстетической, и даже в немалой степени этической организации реальности.
Отчество – определяет корни и родовые связи. Звезд на небе намного больше, чем людей на Земле, но на всех их всё равно не хватит – написать звездами своё имя смогли единицы. Проведя на орбите неполных трое суток и вернувшись на Землю, «Чайка» стала частью истории – не только личной, не только истории сбежавшихся на место её приземления с картошкой, квасом и черным хлебом людей, но и частью истории огромной нации, рвавшейся в космическое раздолье.
Духи «Ярославна», на первый взгляд – уже привычный нам хрустальный сталагмит, наполненный спящим бурым пламенем. «Обладают тонким, приятным запахом, исключительно стойки» – сообщает нам описание из каталога. Трудно считать эти слова просто «продающим текстом», и уж тем более – случайностью. Скорее перед нами исчерпывающая формула того, что через несколько десятков лет будет известно как «soft power». Причем терминологически всё безукоризненно: когда надо что-то делать, это называется «публичная дипломатия». Когда делать ничего не надо, потому что всё и так понятно, это называется «мягкая сила». Потому что ассоциации и представления – исключительно стойки.
Но если разбудить синдром поиска глубинного смысла и посмотреть на упаковку «Ярославны» повнимательнее, можно обнаружить несколько дополнительных смысловых слоев. Во-первых, ромбовидный белый короб, напоминающий петлицы на военной форме – что в контексте советской космонавтики вполне оправданно. Во-вторых, сам флакон уже «обтесан» не в виде сплошного конуса, а состоит из двух отдельных элементов – собственно флакона и, будто каплю огранили – крышки.
Разные авторы усматривают в получившемся силуэте то отсылку к ярославской храмовой архитектуре, то женскую фигуру в высоком кокошнике. Стандартная интерпретация – ракета – при этом тоже никуда не девается, погружая разбросанные во времени и идеологии элементы нашей культуры в странную, неожиданную близость.
Здесь при большом желании тоже можно расслышать отзвуки подступающей гибридности, которая вот-вот (напоминание – на дворе 1963 год) воцарится на инфополе. Ценности утрачивают унитарность, целостность пропаганды перестаёт быть приоритетом – вокруг первоначального посыла теперь создается полудикое поле интерпретаций и альтернативных прочтений.
Усиливать и дополнять исходный месседж здесь необязательно – всё поле значений питает собой Общую Идею, которая вполне может быть великовата для сольного осознания, но неизменно даёт о себе знать. Так и сплетаются советская ракета с старорусским кокошником в чьём-то сознании, так и обретают форму флакона духов «Ярославна».
Вспомним и разберем на составляющие ещё один космический аромат, наполненный идеологической составляющей до краев. В 1975 году выпускаются и распродаются две партии аромата «ЭПАС», по 100 тысяч флаконов каждая. Партий – по числу фабрик-участников производства, аромат – совместный проект «Новой Зари» и американского бренда Revlon. За упаковку отвечали западные партнёры, за ароматику – советская сторона. Название и описание – продублированы на русском и английском языке. В рецептуре задействованы французские компоненты, в остальном же дуализм и мотив дружбы народов – беспримесные. Но что еще за «ЭПАС»? Год производства и окутывающие итоговый продукт настроение сами направляют нас на ответ. «Экспериментальная программа Аполлон-Союз», разумеется. Если космос – повсюду, то и рукопожатие тоже – тотальное.
Напоследок вернемся к истокам и обратим внимание на одну деталь. Вроде бы понятный и прямолинейный аромат «Кремль» (фабрика «Новая Заря»), который упоминался в самом начале этого текста – там ведь флакон тоже похож на все кремлевские башни сразу. Ни на одну – в полной мере.
Даниил Мизин.
Но не красной нетленкой единой, хотя не затронуть её мы не можем. Приподнимемся на уровень выше. Парфюмерия в СССР, как и всякий вид искусства или отрасль промышленности – уже в немалой степени медиа, то есть, инструмент, заточенный на посев посылов. Будто бы напрашивается на существование термин «агит-парфюм». Звучит гордо, рублено и доходчиво, как и полагается. Сам механизм распространения сообщений при помощи духов есть смысл разобрать подробнее, он совсем не так очевиден и, назовем это так, многоканален.
Давайте зафиксируем: парфюм – это пропаганда. А пропаганда – фильтр, отсеивающий от исходного сообщения все (до 99%!) вредные примеси и насыщающий его полезными микроэлементами. Для лучшего усвоения. Изъюзанная классика Маршалла Маклюэна – определение медиа как внешнего «продолжения» человеческих функций и потребностей – к парфюмерии относится в полной мере. «Аромат, подчеркивающий вашу индивидуальность…», перечни канонично мужицких, или наоборот, трепетных до эдемской летучести нот – всё это не просто баловство копирайтеров, но объективная потребность людей пахнуть доходчивее.
В случае с советским парфюмом стоит вынырнуть из содержания и приглядеться к оболочке. То есть к склянкам, флаконам и иной таре. Блики на её гранях всё вам расскажут. Может сложиться впечатление, что упаковочной части уделялось в разы больше внимания, чем, собственно, ароматическим тонкостям. Это будет не вполне справедливо. Правильнее сказать, что мерила успеха в работе над формой и содержанием друг от друга очень сильно отличались.
Аромат – каким бы выверенным он ни был – это медиум очень ограниченного радиуса действия, в отличие от текста и картинки. Из чистой ольфакторности пропаганду не сделать. Духи без величавой склянки – образ не тиражируемый, можно даже сказать, не визуальный в принципе. Про синестезию тогда уже знали, но не придавали ей такого большого значения.
Взять аромат «Спутник», выпущенный на всё той же фабрике «Новая Заря» в 1958 году – судя по всему, аккурат к годовщине появления на земной орбите «Спутника-1», юркого полированного небожителя, одного из живейших символов всего советского.
«Спутник» - первый из космических ароматов, выпущенных в Союзе. Сама по себе медового цвета жидкость особых ассоциаций с Циолковским, Фёдоровым и безраздельными просторами Вселенной не вызывает, но всё решает оболочка. На темно-синей коробке духов изображены не один, а целых три спутника – ровно столько неутомимая советская наука успела запустить с осени 1957 по осень 1958 годов. Вот и летят они, увековеченные – один за другим.
Но главное – сам флакон. Сферический и в вакууме, как и всё космическое. Шар – универсальное небесное тело, в ассоциативном ряду найдется место и для спутников, и для планет, да хоть для мирового яйца. Но вообще-то в очертаниях и рельефе премьерных космо-духов угадывается вполне конкретный шар, земной – и несложно понять, на территории какой страны «приземлился» золоченый шильдик с названием аромата. В некоторых случаях смысловые люфты и двойственность интерпретаций полезны, в других – непозволительны. В конце 50-х космическая гонка готовилась ускориться до невозможного, кислород, казалось, превращался не в углекислый газ, но в раскаленную массу плотнее самой жизни – ею дышали большие идеи, тогда еще способные расцветать.
Космос, даром что безвоздушный и безземельный, стал едва ли не наиболее плодородной почвой для производства политико-эстетических метафор, и продержался в этом качестве немало – по нынешним меркам – времени. Естественно, что на «Спутнике» всё не закончилось, но, дебютировав с ним на космическом поле, советская парфюмерия сходу совершает неочевидную с первого взгляда перетасовку образов. Если посмотреть на флаконы всех тематических ароматов, вышедших после «Спутника», там не обнаружится больше ни одного шара. На его место приходит другая формообразующая доминанта – вертикаль.
Даже женский аромат «В космос» (производитель – всё та же «Новая Заря), выпущенный в 1959 году в шарообразном флаконе, почти неотличимом от «Спутника», уже дополнительно упакован в стоячий бокс, напоминающий колпак. Иногда конус – это просто конус. Быть может, и здесь так замышлялось. Но уж больно велико желание увидеть в конусе переходный этап от закругленной цикличности (вид снизу) к чистой динамике, направленной исключительно вверх, никуда больше (вид сбоку).
В последующие годы флагманские фабрики «Новая Заря» (Москва) и «Северное сияние» (Ленинград) создают без пяти минут парфюмерное созвездие – одному только полету в космос Юрия Гагарина посвящается сразу три аромата. Два из них называются «Восток», в честь корабля первого космонавта, третий – «Слава».
И снова обратим внимание на флаконы – все они, как один, напоминают уносящиеся в космос космические корабли – только почему-то прозрачные, будто хрустальные. Янтарная жидкость внутри таких объемов сразу обретает очевидную ассоциацию с ракетным топливом. За счёт такого баланса образы достигают сбалансированности – холодная бестелесная полупрозрачность формы и огненосное, неукротимое, алхимическое содержание.
Один из самых известных советских ароматов, связанных с темой покорения бескрайних пространств, раскинувшихся где-то над нами – духи «Ярославна», выпущенные фабрикой «Новая Заря» в 1963 году. «Ярославна» – посвящение полету в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой.
Несмотря на видимую парадоксальность предыдущего предложения, никакой ошибки ни в нем, ни в решении парфюмеров, нет. Валентина Терешкова (позывной – «Чайка») родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково, что в Ярославской области. Потому и «Ярославна». Нейминг здесь – не просто креатив во имя креатива, но и способ новой эстетической, и даже в немалой степени этической организации реальности.
Отчество – определяет корни и родовые связи. Звезд на небе намного больше, чем людей на Земле, но на всех их всё равно не хватит – написать звездами своё имя смогли единицы. Проведя на орбите неполных трое суток и вернувшись на Землю, «Чайка» стала частью истории – не только личной, не только истории сбежавшихся на место её приземления с картошкой, квасом и черным хлебом людей, но и частью истории огромной нации, рвавшейся в космическое раздолье.
Духи «Ярославна», на первый взгляд – уже привычный нам хрустальный сталагмит, наполненный спящим бурым пламенем. «Обладают тонким, приятным запахом, исключительно стойки» – сообщает нам описание из каталога. Трудно считать эти слова просто «продающим текстом», и уж тем более – случайностью. Скорее перед нами исчерпывающая формула того, что через несколько десятков лет будет известно как «soft power». Причем терминологически всё безукоризненно: когда надо что-то делать, это называется «публичная дипломатия». Когда делать ничего не надо, потому что всё и так понятно, это называется «мягкая сила». Потому что ассоциации и представления – исключительно стойки.
Но если разбудить синдром поиска глубинного смысла и посмотреть на упаковку «Ярославны» повнимательнее, можно обнаружить несколько дополнительных смысловых слоев. Во-первых, ромбовидный белый короб, напоминающий петлицы на военной форме – что в контексте советской космонавтики вполне оправданно. Во-вторых, сам флакон уже «обтесан» не в виде сплошного конуса, а состоит из двух отдельных элементов – собственно флакона и, будто каплю огранили – крышки.
Разные авторы усматривают в получившемся силуэте то отсылку к ярославской храмовой архитектуре, то женскую фигуру в высоком кокошнике. Стандартная интерпретация – ракета – при этом тоже никуда не девается, погружая разбросанные во времени и идеологии элементы нашей культуры в странную, неожиданную близость.
Здесь при большом желании тоже можно расслышать отзвуки подступающей гибридности, которая вот-вот (напоминание – на дворе 1963 год) воцарится на инфополе. Ценности утрачивают унитарность, целостность пропаганды перестаёт быть приоритетом – вокруг первоначального посыла теперь создается полудикое поле интерпретаций и альтернативных прочтений.
Усиливать и дополнять исходный месседж здесь необязательно – всё поле значений питает собой Общую Идею, которая вполне может быть великовата для сольного осознания, но неизменно даёт о себе знать. Так и сплетаются советская ракета с старорусским кокошником в чьём-то сознании, так и обретают форму флакона духов «Ярославна».
Вспомним и разберем на составляющие ещё один космический аромат, наполненный идеологической составляющей до краев. В 1975 году выпускаются и распродаются две партии аромата «ЭПАС», по 100 тысяч флаконов каждая. Партий – по числу фабрик-участников производства, аромат – совместный проект «Новой Зари» и американского бренда Revlon. За упаковку отвечали западные партнёры, за ароматику – советская сторона. Название и описание – продублированы на русском и английском языке. В рецептуре задействованы французские компоненты, в остальном же дуализм и мотив дружбы народов – беспримесные. Но что еще за «ЭПАС»? Год производства и окутывающие итоговый продукт настроение сами направляют нас на ответ. «Экспериментальная программа Аполлон-Союз», разумеется. Если космос – повсюду, то и рукопожатие тоже – тотальное.
Напоследок вернемся к истокам и обратим внимание на одну деталь. Вроде бы понятный и прямолинейный аромат «Кремль» (фабрика «Новая Заря»), который упоминался в самом начале этого текста – там ведь флакон тоже похож на все кремлевские башни сразу. Ни на одну – в полной мере.
Даниил Мизин.
Агиттекстиль
В истории искусства пропаганды раннего Союза был своего рода оксюморон — агитационный фарфор: где дорогой, штучный фарфор и где массовая агитация? — но была и его противоположность, искусство поистине массовое. Будете смеяться, но судьба его на судьбу агитационного фарфора чем-то похожа. Речь идет об агитационном текстиле.
Вообще-то использовать рисунок на ткани как средство пропаганды вовсе не ноу-хау большевиков. Только в каталоге Музея ивановского ситца есть хлопчатобумажный платок 1867 г. «Подвиг Ивана Сусанина», есть несколько шелковых платков «300-летие дома Романовых» и есть платок 1915 года «С нами Богъ» с идущими в атаку русскими солдатами. Но вот чего действительно, кажется, никому раньше не приходило в голову — это отказаться от традиционных цветочков и орнаментов на рисунках набивной ткани, на самом ее раппорте. Что еще предложите? Детей называть агитационными именами? А, стоп…
Шутки шутками, но агитационный текстиль существовал. Ровно десять лет, начиная с 1923 года.
Почему именно с 1923-го? Ну, раньше было не до тканей вообще. В войну вся текстильная промышленность работала для фронта, а к тому моменту когда империалистическая война превратилась в гражданскую, фабрики попросту встали ввиду отсутствия сырья. Понадобилось выдавить басмачей из Средней Азии в Афганистан, чтобы на фабрики Иваново снова потянулись составы с сырьем.
(История советского текстиля — это по большей части история ивановского текстиля, просто потому что предприятия объединенного Иваново-Вознесенского треста, производили 49% всего хлопка и 77% всего льна в стране. Остается только удивляться тому, что ударное производство совершалось одновременно с ударной стройкой не просто новых фабричных корпусов, но в целом — со строительством целого нового города с общежитиями, столовыми, электростанциями, превращением Иваново в «Красный Манчестер».)
Одним словом, худо-бедно текстильная промышленность начала оживать только по окончании Гражданской. Скажем сразу, что к довоенному уровню производство вернется только к концу двадцатых, но и этого будет уже катастрофически недостаточно для все возрастающих потребностей выходящей на полномасштабную индустриализацию страны рабочих и крестьян.
И все же сразу как только фабрики снова заработали, тут же возник вопрос и о том, какие ткани они должны выпускать. Случилось сразу несколько вещей. Во-первых, прошла Первая Всесоюзная художественно-промышленная выставка и параллельно с ней прошла конференция, посвященная художественной промышленности. Во-вторых, Вера Мухина (это которая «Рабочий и колхозница») и Александра Экстер (это которая костюмы для спектаклей Таирова) организовали в Москве Ателье мод и при нем журнал «Ателье» (вышел, правда, только один номер, зато над ним поработали Чехонин, Кустодиев и Петров-Водкин). В-третьих, во ВХУТЕМАСе на базе трех мастерских бывшей Строгановки — ткацкой, набивной и художественного шитья — организовали Текстильный факультет.
Наконец, в контексте этого разговора самое главное — не где-нибудь, а в «Правде» вышла статья «Художники, откликнитесь!», в которой прямо говорилось о необходимости «обслуживать глубокую толщу всего населения СССР, создавая новые мотивы рисунка для ситцев и новые сочетания цветов на тканях».
Две женщины, воспринявшие призыв «Правды» всерьез, и стали основательницами советского агитационного текстиля. Первая, тридцатичетырехлетняя Любовь Попова — художница, участница малевичевского «Супремуса», ученица парижских кубистов и футуристов, оформитель нескольких спектаклей Мейерхольда — уже в следующем году умрет от скарлатины. Вторая, тридцатилетняя Варвара Степанова — художница, конструктивистка, жена Родченко, художественный редактор многих советских журналов — проживет до 1958 года, и ее именем в 2016-ом назовут улицу в Москве.
Они прислали свои эскизы на Первую ситценабивную фабрику столицы, их пригласили к сотрудничеству, Попова проработала всего ничего, Степанова — около двух лет, причем одновременно с этим она преподавала на Текстильном факультете ВХУТЕМАСа.
Набивные ткани Поповой и Степановой — торжество чистой геометрической формы: кружочки да квадратики, линии да углы. Сейчас в них не было бы ничего необычного (есть фото Родченко Лили Брик в платке с принтом Степановой: принт как принт), но в 1923 году публика, привыкшая к цветам, огурцам и горошку — не поняла.
Сейчас принято считать, что советская власть, устанавливая свою идеологию, диктовала все подряд, в том числе и то, какие рисунки на тканях делать, но в действительности все было несколько сложнее. Были художники, которым не терпелось внедрить в жизнь новейшие достижения прогрессивной мысли. Были директора трестов, которым нужно было продавать свою продукцию на внутреннем и внешнем рынке. Был покупатель, для которого покупка отреза ткани была большим событием. До эпохи дешевых шмоток на один сезон, сшитых низкооплачиваемыми рабочими в Бангладеш, было еще ой как далеко — вещи шились на всю жизнь и передавались по наследству, старые вещи перешивались, а отрез ткани мог быть инвестицией, подарком или приданым.
Одним словом, никаких свидетельств того, что власть декретами заставляла художников рисовать раппорты с серпами и молотами, а руководителей производств — запускать их в производство, не обнаруживается. Скорее похоже на то, что художник рисовал их сам, по велению революционного сердца, осторожные руководители допускали с новыми тканями некоторые эксперименты, а покупатель, в массе своей весьма консервативный, чаще выбирал старые-добрые цветочки, огурцы и горошек, если не вовсе ткани без всякого рисунка, тем более что они дешевле.
Во всяком случае в товарных номенклатурах конца двадцатых — начала тридцатых годов агитационный текстиль занимает весьма скромное место. Редко удается увидеть платья с шестеренками и на фотографиях того времени. Нельзя сказать, что их вовсе нет — появляются то тут, то там, но все же в виде исключения. В великом фильме Александрова «Светлый путь» Золушка — Любовь Орлова становилась ткачихой («Я отведу тебя в наш дворец», — говорила ей фея и вела на прядильную фабрику им. Ногина), мало того — героем труда и депутатом Верховного Совета, но абсолютно все платья, в которые одета она или ее подруги, — самые обыкновенные, в крайнем случае в горошек.
Более того, в том же фильме агитационный текстиль напрямую высмеивался. Директору фабрики показывали образцы новых тканей:
— Сельскохозяйственная тема, трактора.
— А нет ли у вас чего-нибудь поиндустриальнее?
— Поиндустриальнее? Вот есть нефтяные вышки. По талии можно фабрики пустить, заводы…
— Дыма мало.
— Что?
— Я говорю, дыма мало!
— А, дыма можно прибавить!..
Правда, «Светлый путь» будет снят только в 1939 году, и к тому времени агитационный текстиль уже останется в прошлом, но все же: раз высмеивали — значит, было что высмеивать, то есть всем знакомо было то, что высмеивается (где вы видели, чтобы высмеивался агитационный фарфор? — нет, он только для западных коллекционеров).
И в самом деле, эксперимент с супрематическими, кубистскими и прочими футуристическими рисунками не зашел, но почти сразу на их место, на место абстрактных углов и линий — пришли рисунки тематические, предметные. Публика, даже городская, относительно прогрессивная, не была готова к чистой геометрии, ей нужна была конкретика. Если не розы и лилии — то трактора и шестеренки.
Сначала Сергей Бурылин в Иваново и Оскар Грюн на «Трехгорной мануфактуре», а потом выпускники Текстильного факультета ВХУТЕМАСа Любовь Силич, Дарья Преображенская, Лия Райцер, Михаил Хвостенко и некоторые другие — дают стране десятки и сотни раппортов для набивных тканей, уже не абстрактных, а вполне конкретных.
На этих тканях — паровозы, аэропланы, велосипедисты, шагающие демонстранты, строительные краны, пароходы, пропеллеры, дымящиеся трубы, буденовки, пионеры, флаги и пятиконечные звезды, снопы и серпы с молотами, дирижабли, гребцы, шахтеры, электрические лампочки, — по ним одним можно было бы изучать эпоху. Бесконечные аббревиатуры: КИМ — Коммунистический интернационал молодежи, МОПР — Международная организация помощи борцам революции, 5 в 4 — пятилетку в четыре года, ВКП(б), РСФСР, СССР и даже «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — четыре слова, вписанные в пять лепесточков условной ромашки.
Как уже было сказано, агиттекстилю было отпущено лишь десять лет. В 1933 году в той же «Правде», которая десять лет назад призвала художников откликнуться, вышла статья фельетониста Григория Рыклина (скоро он на десять лет возглавит редакцию «Крокодила») «Спереди трактор, сзади комбайн», в которой высмеивались облегающие платья с сельскохозяйственными мотивами и подштанники с Турксибом (это такая железная дорога, одна из главных строек эпохи). Через шесть недель после появления фельетона вышло постановление Совнаркома «О работе хлопчатобумажной промышленности», осуждающее «плохие и неуместные рисунки под видом введения новой тематики». Сразу после этого в Иваново прошла выставка «Брак в производстве» — ситцы с тракторами были выставлены на позор, а сотни валов с агитационными раппортами были стерты; как видно, культура отмены — вовсе не изобретение нашего времени.
Эпоха революционного панк-рока прошла, советская легкая промышленность навсегда вернулась к производству мещанских и даже, может быть, в какой-то мере буржуазных тканей с цветами, огурцами и горошком. И только сейчас эти ткани смотрятся свежо и круто, и хочется надеть яркую рубашку с тракторами и молотилками в обрамлении гроздьев винограда и аппетитных персиков. Эскизы к этим тканям за бешеные деньги уходят на западных аукционах, а сами раппорты вдохновляют дизайнеров на лондонских и парижских неделях мод.
Что ж, в некотором приближении можно обобщить: судьба агитационного текстиля в раннем Союзе совершила ту же фигуру, что и судьба других попыток привить революционную повестку и революционные идеи авангардного искусства к пышно зеленеющему древу жизни — фактичности человеческого быта. Что-то привилось, а что-то не прижилось — но сами идеи этого искусства, как сейчас понятно, опередили время и в какой-то мере определяют искусство уже нашей эпохи. То, что казалось диким, да и было, что уж там, диким в конце двадцатых — начале тридцатых, оказывается для нас сегодняшних чем-то вроде доски на Пинтересте: надо будет иметь в виду на будущее.
Вадим Левенталь
Вообще-то использовать рисунок на ткани как средство пропаганды вовсе не ноу-хау большевиков. Только в каталоге Музея ивановского ситца есть хлопчатобумажный платок 1867 г. «Подвиг Ивана Сусанина», есть несколько шелковых платков «300-летие дома Романовых» и есть платок 1915 года «С нами Богъ» с идущими в атаку русскими солдатами. Но вот чего действительно, кажется, никому раньше не приходило в голову — это отказаться от традиционных цветочков и орнаментов на рисунках набивной ткани, на самом ее раппорте. Что еще предложите? Детей называть агитационными именами? А, стоп…
Шутки шутками, но агитационный текстиль существовал. Ровно десять лет, начиная с 1923 года.
Почему именно с 1923-го? Ну, раньше было не до тканей вообще. В войну вся текстильная промышленность работала для фронта, а к тому моменту когда империалистическая война превратилась в гражданскую, фабрики попросту встали ввиду отсутствия сырья. Понадобилось выдавить басмачей из Средней Азии в Афганистан, чтобы на фабрики Иваново снова потянулись составы с сырьем.
(История советского текстиля — это по большей части история ивановского текстиля, просто потому что предприятия объединенного Иваново-Вознесенского треста, производили 49% всего хлопка и 77% всего льна в стране. Остается только удивляться тому, что ударное производство совершалось одновременно с ударной стройкой не просто новых фабричных корпусов, но в целом — со строительством целого нового города с общежитиями, столовыми, электростанциями, превращением Иваново в «Красный Манчестер».)
Одним словом, худо-бедно текстильная промышленность начала оживать только по окончании Гражданской. Скажем сразу, что к довоенному уровню производство вернется только к концу двадцатых, но и этого будет уже катастрофически недостаточно для все возрастающих потребностей выходящей на полномасштабную индустриализацию страны рабочих и крестьян.
И все же сразу как только фабрики снова заработали, тут же возник вопрос и о том, какие ткани они должны выпускать. Случилось сразу несколько вещей. Во-первых, прошла Первая Всесоюзная художественно-промышленная выставка и параллельно с ней прошла конференция, посвященная художественной промышленности. Во-вторых, Вера Мухина (это которая «Рабочий и колхозница») и Александра Экстер (это которая костюмы для спектаклей Таирова) организовали в Москве Ателье мод и при нем журнал «Ателье» (вышел, правда, только один номер, зато над ним поработали Чехонин, Кустодиев и Петров-Водкин). В-третьих, во ВХУТЕМАСе на базе трех мастерских бывшей Строгановки — ткацкой, набивной и художественного шитья — организовали Текстильный факультет.
Наконец, в контексте этого разговора самое главное — не где-нибудь, а в «Правде» вышла статья «Художники, откликнитесь!», в которой прямо говорилось о необходимости «обслуживать глубокую толщу всего населения СССР, создавая новые мотивы рисунка для ситцев и новые сочетания цветов на тканях».
Две женщины, воспринявшие призыв «Правды» всерьез, и стали основательницами советского агитационного текстиля. Первая, тридцатичетырехлетняя Любовь Попова — художница, участница малевичевского «Супремуса», ученица парижских кубистов и футуристов, оформитель нескольких спектаклей Мейерхольда — уже в следующем году умрет от скарлатины. Вторая, тридцатилетняя Варвара Степанова — художница, конструктивистка, жена Родченко, художественный редактор многих советских журналов — проживет до 1958 года, и ее именем в 2016-ом назовут улицу в Москве.
Они прислали свои эскизы на Первую ситценабивную фабрику столицы, их пригласили к сотрудничеству, Попова проработала всего ничего, Степанова — около двух лет, причем одновременно с этим она преподавала на Текстильном факультете ВХУТЕМАСа.
Набивные ткани Поповой и Степановой — торжество чистой геометрической формы: кружочки да квадратики, линии да углы. Сейчас в них не было бы ничего необычного (есть фото Родченко Лили Брик в платке с принтом Степановой: принт как принт), но в 1923 году публика, привыкшая к цветам, огурцам и горошку — не поняла.
Сейчас принято считать, что советская власть, устанавливая свою идеологию, диктовала все подряд, в том числе и то, какие рисунки на тканях делать, но в действительности все было несколько сложнее. Были художники, которым не терпелось внедрить в жизнь новейшие достижения прогрессивной мысли. Были директора трестов, которым нужно было продавать свою продукцию на внутреннем и внешнем рынке. Был покупатель, для которого покупка отреза ткани была большим событием. До эпохи дешевых шмоток на один сезон, сшитых низкооплачиваемыми рабочими в Бангладеш, было еще ой как далеко — вещи шились на всю жизнь и передавались по наследству, старые вещи перешивались, а отрез ткани мог быть инвестицией, подарком или приданым.
Одним словом, никаких свидетельств того, что власть декретами заставляла художников рисовать раппорты с серпами и молотами, а руководителей производств — запускать их в производство, не обнаруживается. Скорее похоже на то, что художник рисовал их сам, по велению революционного сердца, осторожные руководители допускали с новыми тканями некоторые эксперименты, а покупатель, в массе своей весьма консервативный, чаще выбирал старые-добрые цветочки, огурцы и горошек, если не вовсе ткани без всякого рисунка, тем более что они дешевле.
Во всяком случае в товарных номенклатурах конца двадцатых — начала тридцатых годов агитационный текстиль занимает весьма скромное место. Редко удается увидеть платья с шестеренками и на фотографиях того времени. Нельзя сказать, что их вовсе нет — появляются то тут, то там, но все же в виде исключения. В великом фильме Александрова «Светлый путь» Золушка — Любовь Орлова становилась ткачихой («Я отведу тебя в наш дворец», — говорила ей фея и вела на прядильную фабрику им. Ногина), мало того — героем труда и депутатом Верховного Совета, но абсолютно все платья, в которые одета она или ее подруги, — самые обыкновенные, в крайнем случае в горошек.
Более того, в том же фильме агитационный текстиль напрямую высмеивался. Директору фабрики показывали образцы новых тканей:
— Сельскохозяйственная тема, трактора.
— А нет ли у вас чего-нибудь поиндустриальнее?
— Поиндустриальнее? Вот есть нефтяные вышки. По талии можно фабрики пустить, заводы…
— Дыма мало.
— Что?
— Я говорю, дыма мало!
— А, дыма можно прибавить!..
Правда, «Светлый путь» будет снят только в 1939 году, и к тому времени агитационный текстиль уже останется в прошлом, но все же: раз высмеивали — значит, было что высмеивать, то есть всем знакомо было то, что высмеивается (где вы видели, чтобы высмеивался агитационный фарфор? — нет, он только для западных коллекционеров).
И в самом деле, эксперимент с супрематическими, кубистскими и прочими футуристическими рисунками не зашел, но почти сразу на их место, на место абстрактных углов и линий — пришли рисунки тематические, предметные. Публика, даже городская, относительно прогрессивная, не была готова к чистой геометрии, ей нужна была конкретика. Если не розы и лилии — то трактора и шестеренки.
Сначала Сергей Бурылин в Иваново и Оскар Грюн на «Трехгорной мануфактуре», а потом выпускники Текстильного факультета ВХУТЕМАСа Любовь Силич, Дарья Преображенская, Лия Райцер, Михаил Хвостенко и некоторые другие — дают стране десятки и сотни раппортов для набивных тканей, уже не абстрактных, а вполне конкретных.
На этих тканях — паровозы, аэропланы, велосипедисты, шагающие демонстранты, строительные краны, пароходы, пропеллеры, дымящиеся трубы, буденовки, пионеры, флаги и пятиконечные звезды, снопы и серпы с молотами, дирижабли, гребцы, шахтеры, электрические лампочки, — по ним одним можно было бы изучать эпоху. Бесконечные аббревиатуры: КИМ — Коммунистический интернационал молодежи, МОПР — Международная организация помощи борцам революции, 5 в 4 — пятилетку в четыре года, ВКП(б), РСФСР, СССР и даже «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — четыре слова, вписанные в пять лепесточков условной ромашки.
Как уже было сказано, агиттекстилю было отпущено лишь десять лет. В 1933 году в той же «Правде», которая десять лет назад призвала художников откликнуться, вышла статья фельетониста Григория Рыклина (скоро он на десять лет возглавит редакцию «Крокодила») «Спереди трактор, сзади комбайн», в которой высмеивались облегающие платья с сельскохозяйственными мотивами и подштанники с Турксибом (это такая железная дорога, одна из главных строек эпохи). Через шесть недель после появления фельетона вышло постановление Совнаркома «О работе хлопчатобумажной промышленности», осуждающее «плохие и неуместные рисунки под видом введения новой тематики». Сразу после этого в Иваново прошла выставка «Брак в производстве» — ситцы с тракторами были выставлены на позор, а сотни валов с агитационными раппортами были стерты; как видно, культура отмены — вовсе не изобретение нашего времени.
Эпоха революционного панк-рока прошла, советская легкая промышленность навсегда вернулась к производству мещанских и даже, может быть, в какой-то мере буржуазных тканей с цветами, огурцами и горошком. И только сейчас эти ткани смотрятся свежо и круто, и хочется надеть яркую рубашку с тракторами и молотилками в обрамлении гроздьев винограда и аппетитных персиков. Эскизы к этим тканям за бешеные деньги уходят на западных аукционах, а сами раппорты вдохновляют дизайнеров на лондонских и парижских неделях мод.
Что ж, в некотором приближении можно обобщить: судьба агитационного текстиля в раннем Союзе совершила ту же фигуру, что и судьба других попыток привить революционную повестку и революционные идеи авангардного искусства к пышно зеленеющему древу жизни — фактичности человеческого быта. Что-то привилось, а что-то не прижилось — но сами идеи этого искусства, как сейчас понятно, опередили время и в какой-то мере определяют искусство уже нашей эпохи. То, что казалось диким, да и было, что уж там, диким в конце двадцатых — начале тридцатых, оказывается для нас сегодняшних чем-то вроде доски на Пинтересте: надо будет иметь в виду на будущее.
Вадим Левенталь
Сразить крысолова
Ленинградская симфония Шостаковича.
Один из величайших символов советской эпохи.
Нестираемая память о той, самой великой и самой страшной нашей войне.
Ленинградская симфония Шостаковича.
Образец безусловной, абсолютной советской пропаганды, но вовсе не в том, ныне извращённом и преданном поруганию, смысле. Когда б не такая пропаганда, где бы мы были сейчас, о чём бы рассуждали — если вообще имели бы такую возможность.
Стоит услышать первые её ноты, как сознание выходит из под контроля, нас уносит течением реки времени и мы будто бы беспомощны перед ужасающими своей безысходностью картинами. Шостакович увидел, прозрел марширующие колонны, железную гадину, вползающую в наши пределы — чёрно-белая хроника факельных шествий, открывающиеся бомболюки, бесноватый на трибуне и визжащие толпы, вскидывающие в истерическом приветствии руки, закатанные рукава вермахта, надменный фриц торчащий из танка с крестом, костры книг...
Вот Гитлер, «фюрер германского народа» похлопывает по щеке будущих юных покойников. Вот боров Геринг, самодовольный, разукрашенный точно шут из ада, принимает гостей в собственном «народном» дворце. Вот безучастно-мёртвый, в посверкивающих «учительских» очёчках, с приклеенной липкой улыбкой Гиммлер. Вот зализанный Геббельс, выученный и выкормленный рейхом крысолов, острая его крысиная морда и впившиеся в трибуну берлинского Sportpalastrede лапки.
«Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?!»
«Nun, Volk, steh auf und Sturm brich los!» (1)
И они хотели и шли, шли и хотели войны до «победного» конца — точно заколдованные адской дудкой.
Теперь об исторической правде.
Геббельс был циничным, расчётливым крысоловом. Быть может, одним из наиболее трезвых (если такое выражение применимо к бонзам третьего рейха) во всей гитлеровской Германии. Он был начисто лишён сантиментов. Он «творил новую историю» из любого подручного материала и он лучше всех знал — что именно было в письмах, в последних доставленных мешках писем из сталинградского котла. Нация «истинных арийцев» была потрясена. Страшный слом прошёл по «древу тысячелетнего рейха». Замаячили голодные пайки, дезертиры, крах «мирового господства».
Сталинградские письма истинных арийцев попавших в ледяной котёл Геббельс вычитывал лично. Сотнями. Не найдя там ничего кроме проклятий, он приказал их сжечь, добавив со свойственной ему (в делах «рабочих») прямотой: «Какая жалость. Какие жалкие ничтожества. Негодный материал. Мы напишем новую историю. Мы напишем новые письма. Тех солдат, что войдут в новую историю. Готовьтесь. Нам предстоит решительная битва».
Это Геббельс убедил Гитлера объявить тотальную войну, войну «до победного конца». Это Геббельс апеллировал перед Гитлером к Сталину: «Советы имеют успех, потому что они одержимы. Их ведёт в бой дикий, бессмысленный фанатизм. Так почему мы не взываем к нашим корням?! К великому духу древнего германства!? Надо вырвать пылающий факел из рук Сталина и обратить его против большевистских орд!»
«Nun, Volk, steh auf und Sturm brich los!»
«Воспрянь, народ и пусть грянет буря!»
Таковы были последние слова Геббельса 18-го февраля 1943-го года перед забитым до отказа берлинским Sportpalastrede — всенародный траур по «рыцарям, павшим в сталинградской бойне» — истерический (вопрос о тотальной войне был повторён в речи десть раз) вопль обращённый к «величайшему в мире германскому народу».
Он записал в дневнике, что похудел за то выступление на три килограмма. Он вряд ли интересовался тем, насколько похудели жители блокадного Ленинграда за долгие месяцы стального удушающего кольца. Он был, что называется, «практичным руководителем». Жертвы не тревожили его сон.
Ничто не могло помочь немцам.
Ничто не могло помочь третьему рейху.
Они так и не смогли понять, что никакого «факела в руках Сталина» — не было. А была — Великая Священная Война всего советского народа — за своё Отечество. Была война персональная и общая — одна на всех — и для каждого своя. И «хлюпик» Шостакович (посмотрите на его фотографии тех лет), временами смешной и несуразный человек, тихоня и педант, совершеннейший интроверт — выковал меч, один из главнейших мечей Победы. Быть может, именно тем мечом была отрублена голова незримого крысолова.
Ленинградская симфония Шостаковича.
Исполнение её в блокадном Ленинграде 9-го августа 1942-го. Оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга, дополненный музыкантами полковых оркестров. Кто в чём, и все еле живы, но какая воля, какая несгибаемая стальная воля...
Годы спустя Ольга Берггольц вспоминала: «Единственный оставшийся тогда в Ленинграде оркестр Радиокомитета убавился от голода за время трагической нашей первой блокадной зимы почти наполовину. Никогда не забыть мне, как темным зимним утром тогдашний художественный руководитель Радиокомитета Яков Бабушкин (в 1944-м погиб на фронте) диктовал машинистке очередную сводку о состоянии оркестра: «Первая скрипка умирает, барабан умер по дороге на работу, валторна при смерти…»
*****
Большой зал Ленинградской филармонии до отказа забитый измученными, но нашедшими силы слушать музыку, людьми, залитый светом хрустальных люстр — горят все до одной, невзирая на воздушную тревогу и рёв сирен.
Операция «Шквал» — огонь в течение 120-ти минут из всех калибров, всеми артиллерийскими, сухопутными и морскими силами Ленинграда — симфония маршала Леонида Говорова — чтобы задавить немцев хоть на время, пока звучит музыка, транслируемая и им, на передовую, в их чугунные головы с жирными распластанными орлами на касках.
Да горят они в аду.
Вечно.
Добавьте им градуса.
Когда такая музыка, такое её исполнение отпечатываются в сознании, нет ничего, что может заставить посмотреть на прошлое «немного под другим углом». И тогда выговаривается только одно название города — ЛЕНИНГРАД.
*****
Стоит жара. Работать в такую погоду Шостакович не любит. Жена с детьми отправлена на дачу в Келломяки (посёлок будет переименован в Комарово только в 1948-ом), а он в квартире, при распахнутых настежь окнах, с партитурами и подготовкой к экзаменам — как профессор Ленинградской консерватории и к своим обязанностям и своим ученикам Шостакович относится весьма требовательно и даже педантично.
Стоит жара. Воскресенье. 22-ое июня. «Ленинградская правда» пишет о досрочном выполнении большинством предприятий Советского Союза полугодового плана, о сельском хозяйстве, ничего особенно тревожного — Шостакович просматривает газеты каждое утро — многолетняя привычка. Его мучает постоянная боль в правой руке — на днях он не смог удержать стакан воды и пролил его на ноты, впрочем, с этим он давно свыкся, как и с тем, что о карьере пианиста и о публичных выступлениях совершенно точно пора забыть. К десяти часам утра Дмитрий Дмитриевич направляется в малый консерваторский зал имени Глазунова — сегодня государственный выпускной экзамен.
Зал полон, обстановка самая торжественная и стол приёмной комиссии накрыт красной бархатной скатертью. Начинается прослушивание, Шостакович собран, он весь в музыке, от его оценок для выпускников зависит многое, если не всё. Время спустя на стол кладут записку: «Война!»
В этот момент мир переворачивается и болезненный, с тонкими, заострёнными чертами лица человек преображается — Шостаковичем овладевает внутренняя непреодолимая сила, он видит, как бы вспышками, фрагментарно, всеобщее будущее — он совершенно точно знает о грядущей Победе: «Мысли мои пришли в одновременное смятение и после внезапно успокоились — фашизм не может взять над нами верх, это означает окончание мира, окончание всего. Такому не бывать».
Шостакович подаёт заявление об отправке его на фронт добровольцем. Ему объясняют что место его здесь, в консерватории Ленинграда. После выступления Сталина по радио 3-го июля 41-го, после обращения «Братья и сёстры», он снова требует своей отправки на фронт. Дело доходит до самого Сталина — Шостаковичу отказано, но в добровольную пожарную дружину он зачислен (эти фотографии облетят весь мир, портрет композитора в пожарном шлеме на фоне пылающих городских руин будет размещён на обложке американского TIME в июле 42-го), как и в добровольную консерваторскую бригаду по строительству оборонительных сооружений. Пожарную вахту Дмитрий Дмитриевич несёт вместе со всеми, копает рвы наравне со своими учениками и коллегами.
Одновременно со всем этим случается с Шостаковичем совсем уже невероятное (впоследствии будет описано как «феномен Шостаковича» — в течение нескольких лет он будет творить, опережая все мыслимые и немыслимые сроки): «Сочиняю я с адской скоростью и не могу остановится!.. Пожалуй, точной темы сочинения нет... Или я не могу её выразить... Борьба, героизм советского народа... Свирепствует небывалая война... Первая часть была мною закончена 3-го сентября, вторая — 17-го сентября, а третья — 29-го сентября. Сейчас я заканчиваю последнюю, четвертую часть. Я никогда не сочинял так быстро, как сейчас...»
Это Седьмая симфония.
Ленинградская.
«Красный граф» Алексей Толстой впервые услышав её писал: «Она возникает отдаленно и вначале похожа на какую-то простенькую и жутковатую пляску, на приплясывание ученых крыс под дудку крысолова. Как усиливающийся ветер, эта тема начинает колыхать оркестр, она овладевает им, вырастает, крепнет. Крысолов со своими железными крысами поднимается из-за холма... Это движется война. Она торжествует в литаврах и барабанах, воплем боли и отчаяния отвечают скрипки. Й вам, стиснувшему пальцами дубовые перила, кажется: неужели, неужели все уже смято и растерзано? В оркестре — смятение, хаос.
Нет, человек сильнее стихии!.. Гармония скрипок и человеческие голоса фаготов могущественнее грохота ослиной кожи, натянутой на барабаны. Отчаянным биением сердца вы помогаете торжеству гармонии. И скрипки гармонизируют хаос войны, заставляют замолкнуть ее пещерный рев.
Проклятого крысолова больше нет, он унесен в черную пропасть... Но нет и возврата к безбурному счастьицу. Перед умудренным в страданиях взором человека — пройденный путь, где он ищет оправдания жизни».
Дмитрий Шостакович говорил о том времени: «Была война, и я должен был быть вместе с народом... В то время взял на себя обязанности пожарного. Нес службу на крыше, а между налетами, в интервалах, писал партитуру. Работал я и в ночное, и в дневное время. Били зенитки и падали бомбы, я все-таки не прекращал писать... Не знаю, как сложится судьба этой вещи. Досужие критики, наверное, упрекнут меня в том, что я подражаю «Болеро» Равеля. Пусть упрекают, а я так слышу войну..»
Он и правда услышал войну.
Слышим её и мы — через музыку Ленинградской симфонии.
От того, послевоенного времени, когда живы были многие и многие выстоявшие в блокаду, слышавшие первое исполнение Ленинградской симфонии, остался нам фильм снятый режиссёром Захаром Аграненко в 1957-ом на Мосфильме — к 15-ти летию первого исполнения. Фильм стоит посмотреть. Вернее, это надо сделать. Остались и афиши к фильму — и они очень сильны. В них есть то живое, то настоящее и по-человечески тёплое, что ненавистно крысоловам и их крысам.
Посмотрите на эти плакаты (1957) — Николая Хомова и Анатолия Бельского — расчерченное струнами арфы и зенитными прожекторами грозовое небо Ленинграда, пылающая ростральная колонна, краснофлотец с ребёнком на руках... Умели мы в пропаганду. Умели. Такое запросто так не нарисуешь, не придумаешь — если нет в душе в огня, если нет памяти в сердце.
Провидческий дар помог Шостаковичу воочию узреть крысолова — посмотрите вокруг — сам крысолов сгинул, но проклятое его отродье по прежнему живо, с ним и ведёт борьбу человечество. что
А нам — нам есть на что опереться. У нас есть столпы указующие — образы той Великой Войны, вечное напоминание всем живущим. Вучетич — в скульптуре, Коржев — в живописи, Шостакович — в музыке.
Победа наша предрешена.
Так было и так будет.
Сергей Цветаев
Примечание (1)
«Я спрашиваю вас: вы хотите тотальной войны? Вы хотите, чтобы она была, если необходимо, более тотальной и радикальной, чем мы сегодня можем даже представить?! «Воспрянь, народ и пусть грянет буря!»
Один из величайших символов советской эпохи.
Нестираемая память о той, самой великой и самой страшной нашей войне.
Ленинградская симфония Шостаковича.
Образец безусловной, абсолютной советской пропаганды, но вовсе не в том, ныне извращённом и преданном поруганию, смысле. Когда б не такая пропаганда, где бы мы были сейчас, о чём бы рассуждали — если вообще имели бы такую возможность.
Стоит услышать первые её ноты, как сознание выходит из под контроля, нас уносит течением реки времени и мы будто бы беспомощны перед ужасающими своей безысходностью картинами. Шостакович увидел, прозрел марширующие колонны, железную гадину, вползающую в наши пределы — чёрно-белая хроника факельных шествий, открывающиеся бомболюки, бесноватый на трибуне и визжащие толпы, вскидывающие в истерическом приветствии руки, закатанные рукава вермахта, надменный фриц торчащий из танка с крестом, костры книг...
Вот Гитлер, «фюрер германского народа» похлопывает по щеке будущих юных покойников. Вот боров Геринг, самодовольный, разукрашенный точно шут из ада, принимает гостей в собственном «народном» дворце. Вот безучастно-мёртвый, в посверкивающих «учительских» очёчках, с приклеенной липкой улыбкой Гиммлер. Вот зализанный Геббельс, выученный и выкормленный рейхом крысолов, острая его крысиная морда и впившиеся в трибуну берлинского Sportpalastrede лапки.
«Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?!»
«Nun, Volk, steh auf und Sturm brich los!» (1)
И они хотели и шли, шли и хотели войны до «победного» конца — точно заколдованные адской дудкой.
Теперь об исторической правде.
Геббельс был циничным, расчётливым крысоловом. Быть может, одним из наиболее трезвых (если такое выражение применимо к бонзам третьего рейха) во всей гитлеровской Германии. Он был начисто лишён сантиментов. Он «творил новую историю» из любого подручного материала и он лучше всех знал — что именно было в письмах, в последних доставленных мешках писем из сталинградского котла. Нация «истинных арийцев» была потрясена. Страшный слом прошёл по «древу тысячелетнего рейха». Замаячили голодные пайки, дезертиры, крах «мирового господства».
Сталинградские письма истинных арийцев попавших в ледяной котёл Геббельс вычитывал лично. Сотнями. Не найдя там ничего кроме проклятий, он приказал их сжечь, добавив со свойственной ему (в делах «рабочих») прямотой: «Какая жалость. Какие жалкие ничтожества. Негодный материал. Мы напишем новую историю. Мы напишем новые письма. Тех солдат, что войдут в новую историю. Готовьтесь. Нам предстоит решительная битва».
Это Геббельс убедил Гитлера объявить тотальную войну, войну «до победного конца». Это Геббельс апеллировал перед Гитлером к Сталину: «Советы имеют успех, потому что они одержимы. Их ведёт в бой дикий, бессмысленный фанатизм. Так почему мы не взываем к нашим корням?! К великому духу древнего германства!? Надо вырвать пылающий факел из рук Сталина и обратить его против большевистских орд!»
«Nun, Volk, steh auf und Sturm brich los!»
«Воспрянь, народ и пусть грянет буря!»
Таковы были последние слова Геббельса 18-го февраля 1943-го года перед забитым до отказа берлинским Sportpalastrede — всенародный траур по «рыцарям, павшим в сталинградской бойне» — истерический (вопрос о тотальной войне был повторён в речи десть раз) вопль обращённый к «величайшему в мире германскому народу».
Он записал в дневнике, что похудел за то выступление на три килограмма. Он вряд ли интересовался тем, насколько похудели жители блокадного Ленинграда за долгие месяцы стального удушающего кольца. Он был, что называется, «практичным руководителем». Жертвы не тревожили его сон.
Ничто не могло помочь немцам.
Ничто не могло помочь третьему рейху.
Они так и не смогли понять, что никакого «факела в руках Сталина» — не было. А была — Великая Священная Война всего советского народа — за своё Отечество. Была война персональная и общая — одна на всех — и для каждого своя. И «хлюпик» Шостакович (посмотрите на его фотографии тех лет), временами смешной и несуразный человек, тихоня и педант, совершеннейший интроверт — выковал меч, один из главнейших мечей Победы. Быть может, именно тем мечом была отрублена голова незримого крысолова.
Ленинградская симфония Шостаковича.
Исполнение её в блокадном Ленинграде 9-го августа 1942-го. Оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга, дополненный музыкантами полковых оркестров. Кто в чём, и все еле живы, но какая воля, какая несгибаемая стальная воля...
Годы спустя Ольга Берггольц вспоминала: «Единственный оставшийся тогда в Ленинграде оркестр Радиокомитета убавился от голода за время трагической нашей первой блокадной зимы почти наполовину. Никогда не забыть мне, как темным зимним утром тогдашний художественный руководитель Радиокомитета Яков Бабушкин (в 1944-м погиб на фронте) диктовал машинистке очередную сводку о состоянии оркестра: «Первая скрипка умирает, барабан умер по дороге на работу, валторна при смерти…»
*****
Большой зал Ленинградской филармонии до отказа забитый измученными, но нашедшими силы слушать музыку, людьми, залитый светом хрустальных люстр — горят все до одной, невзирая на воздушную тревогу и рёв сирен.
Операция «Шквал» — огонь в течение 120-ти минут из всех калибров, всеми артиллерийскими, сухопутными и морскими силами Ленинграда — симфония маршала Леонида Говорова — чтобы задавить немцев хоть на время, пока звучит музыка, транслируемая и им, на передовую, в их чугунные головы с жирными распластанными орлами на касках.
Да горят они в аду.
Вечно.
Добавьте им градуса.
Когда такая музыка, такое её исполнение отпечатываются в сознании, нет ничего, что может заставить посмотреть на прошлое «немного под другим углом». И тогда выговаривается только одно название города — ЛЕНИНГРАД.
*****
Стоит жара. Работать в такую погоду Шостакович не любит. Жена с детьми отправлена на дачу в Келломяки (посёлок будет переименован в Комарово только в 1948-ом), а он в квартире, при распахнутых настежь окнах, с партитурами и подготовкой к экзаменам — как профессор Ленинградской консерватории и к своим обязанностям и своим ученикам Шостакович относится весьма требовательно и даже педантично.
Стоит жара. Воскресенье. 22-ое июня. «Ленинградская правда» пишет о досрочном выполнении большинством предприятий Советского Союза полугодового плана, о сельском хозяйстве, ничего особенно тревожного — Шостакович просматривает газеты каждое утро — многолетняя привычка. Его мучает постоянная боль в правой руке — на днях он не смог удержать стакан воды и пролил его на ноты, впрочем, с этим он давно свыкся, как и с тем, что о карьере пианиста и о публичных выступлениях совершенно точно пора забыть. К десяти часам утра Дмитрий Дмитриевич направляется в малый консерваторский зал имени Глазунова — сегодня государственный выпускной экзамен.
Зал полон, обстановка самая торжественная и стол приёмной комиссии накрыт красной бархатной скатертью. Начинается прослушивание, Шостакович собран, он весь в музыке, от его оценок для выпускников зависит многое, если не всё. Время спустя на стол кладут записку: «Война!»
В этот момент мир переворачивается и болезненный, с тонкими, заострёнными чертами лица человек преображается — Шостаковичем овладевает внутренняя непреодолимая сила, он видит, как бы вспышками, фрагментарно, всеобщее будущее — он совершенно точно знает о грядущей Победе: «Мысли мои пришли в одновременное смятение и после внезапно успокоились — фашизм не может взять над нами верх, это означает окончание мира, окончание всего. Такому не бывать».
Шостакович подаёт заявление об отправке его на фронт добровольцем. Ему объясняют что место его здесь, в консерватории Ленинграда. После выступления Сталина по радио 3-го июля 41-го, после обращения «Братья и сёстры», он снова требует своей отправки на фронт. Дело доходит до самого Сталина — Шостаковичу отказано, но в добровольную пожарную дружину он зачислен (эти фотографии облетят весь мир, портрет композитора в пожарном шлеме на фоне пылающих городских руин будет размещён на обложке американского TIME в июле 42-го), как и в добровольную консерваторскую бригаду по строительству оборонительных сооружений. Пожарную вахту Дмитрий Дмитриевич несёт вместе со всеми, копает рвы наравне со своими учениками и коллегами.
Одновременно со всем этим случается с Шостаковичем совсем уже невероятное (впоследствии будет описано как «феномен Шостаковича» — в течение нескольких лет он будет творить, опережая все мыслимые и немыслимые сроки): «Сочиняю я с адской скоростью и не могу остановится!.. Пожалуй, точной темы сочинения нет... Или я не могу её выразить... Борьба, героизм советского народа... Свирепствует небывалая война... Первая часть была мною закончена 3-го сентября, вторая — 17-го сентября, а третья — 29-го сентября. Сейчас я заканчиваю последнюю, четвертую часть. Я никогда не сочинял так быстро, как сейчас...»
Это Седьмая симфония.
Ленинградская.
«Красный граф» Алексей Толстой впервые услышав её писал: «Она возникает отдаленно и вначале похожа на какую-то простенькую и жутковатую пляску, на приплясывание ученых крыс под дудку крысолова. Как усиливающийся ветер, эта тема начинает колыхать оркестр, она овладевает им, вырастает, крепнет. Крысолов со своими железными крысами поднимается из-за холма... Это движется война. Она торжествует в литаврах и барабанах, воплем боли и отчаяния отвечают скрипки. Й вам, стиснувшему пальцами дубовые перила, кажется: неужели, неужели все уже смято и растерзано? В оркестре — смятение, хаос.
Нет, человек сильнее стихии!.. Гармония скрипок и человеческие голоса фаготов могущественнее грохота ослиной кожи, натянутой на барабаны. Отчаянным биением сердца вы помогаете торжеству гармонии. И скрипки гармонизируют хаос войны, заставляют замолкнуть ее пещерный рев.
Проклятого крысолова больше нет, он унесен в черную пропасть... Но нет и возврата к безбурному счастьицу. Перед умудренным в страданиях взором человека — пройденный путь, где он ищет оправдания жизни».
Дмитрий Шостакович говорил о том времени: «Была война, и я должен был быть вместе с народом... В то время взял на себя обязанности пожарного. Нес службу на крыше, а между налетами, в интервалах, писал партитуру. Работал я и в ночное, и в дневное время. Били зенитки и падали бомбы, я все-таки не прекращал писать... Не знаю, как сложится судьба этой вещи. Досужие критики, наверное, упрекнут меня в том, что я подражаю «Болеро» Равеля. Пусть упрекают, а я так слышу войну..»
Он и правда услышал войну.
Слышим её и мы — через музыку Ленинградской симфонии.
От того, послевоенного времени, когда живы были многие и многие выстоявшие в блокаду, слышавшие первое исполнение Ленинградской симфонии, остался нам фильм снятый режиссёром Захаром Аграненко в 1957-ом на Мосфильме — к 15-ти летию первого исполнения. Фильм стоит посмотреть. Вернее, это надо сделать. Остались и афиши к фильму — и они очень сильны. В них есть то живое, то настоящее и по-человечески тёплое, что ненавистно крысоловам и их крысам.
Посмотрите на эти плакаты (1957) — Николая Хомова и Анатолия Бельского — расчерченное струнами арфы и зенитными прожекторами грозовое небо Ленинграда, пылающая ростральная колонна, краснофлотец с ребёнком на руках... Умели мы в пропаганду. Умели. Такое запросто так не нарисуешь, не придумаешь — если нет в душе в огня, если нет памяти в сердце.
Провидческий дар помог Шостаковичу воочию узреть крысолова — посмотрите вокруг — сам крысолов сгинул, но проклятое его отродье по прежнему живо, с ним и ведёт борьбу человечество. что
А нам — нам есть на что опереться. У нас есть столпы указующие — образы той Великой Войны, вечное напоминание всем живущим. Вучетич — в скульптуре, Коржев — в живописи, Шостакович — в музыке.
Победа наша предрешена.
Так было и так будет.
Сергей Цветаев
Примечание (1)
«Я спрашиваю вас: вы хотите тотальной войны? Вы хотите, чтобы она была, если необходимо, более тотальной и радикальной, чем мы сегодня можем даже представить?! «Воспрянь, народ и пусть грянет буря!»
Опалённый Солнцем
Мы говорим, читаем, пишем — «монументалист».
Мы видим, ощущаем, воспринимаем — «монументализм».
Так что это такое — когда реальность обрушивает на нас момент тотального принятия жесточайших исторических событий через зримую форму выраженную в металле, камне, живописном полотне? Перст указующий — вот что это такое. Наставление высшей силы ищущей способ достучаться до нашего замусоренного обыденностью сознания.
И тогда выходит, всё монументальное создают не люди, но силы руками людей? Люди создают, люди. Люди ведомые высшими силами. Такие, скажем, как Гелий Коржев, как Евгений Вучетич.
Про живопись: почитав умные книги не найдёте вы прямого отнесения великих живописных полотен к сфере монументализма — разве что фрески, роспись наиболее значительных храмов — и в этом усматривается определённое упущение академической науки. Между тем — речь у нас пойдёт вовсе не о росписях храма земного, но о росписях храма небесного. Когда и если тот храм, суть есть вместилище душ и верований многих поколений невиданного и неслыханного социального явления, мирового удавшегося (не смотря на разрыв цепи, на временный обрыв сигнала) эксперимента. Когда и если тот храм — СССР — как прообраз Древнего Рима по Эдуарду Лимонову. Когда и если...
В статье посвящённой Евгению Вучетичу речь шла о величественных зримых формах, о скульптурах олицетворяющих боль немыслимых потерь, скорбь разрушенного до основания довоенного мира, выстраданную радость всенародной Победы. Вучетич, и сам фронтовик и боец по духу, прожив внутри себя всё перечисленное и создав нам в назидание столь величественное напоминание о подвиге народа что и посейчас перехватывает дыхание и выбивает слезу, был Всевышним избавлен от созерцания крушения Страны Советов. Более того, он и период зримого полураспада практически не застал — Вучетич ушёл 12-го апреля 1974-го, в день космонавтики, когда и сама космонавтика и страна первого в мире полёта человека в космос все ещё демонстрировала явные признаки жизни, пусть и на фоне затухания социально-политических процессов начатых Великим Октябрём.
Гелию Коржеву выпал иной жребий. Родившись 7-го июля 1925-го, в Москве, он ушёл в вечное странствие 27-го августа 2012-го, всё из той же Москвы, но совершенно из другой эпохи и более того, из временного отрезка «формирующейся стабильности нового российского государства» — до Крыма, до всего. Для Коржева, таким образом, никакого просвета в том времени не было. Именно поэтому и был он обращён в последние свои годы к библейским сюжетам и к образу Дон Кихота Ламанчского — символа позднего прозрения относительно ушедшей безвозвратно жизни. Только вот к самому Коржеву всё это не имело никакого отношения — его жизнь была не просто наполненной и цельной — он был подобен медленно пересекающему свод небесный метеориту. Только представьте себе — выхватывая из тьмы важнейшее, устремляясь изначально вверх и лишь потом, по крутой дуге, вниз и вы видите — то, что видеть совсем не желали.
Такова природа монументализма.
От него нельзя отвернуться.
Коржев, величайший советский художник сурового стиля говорил о пропаганде:
«Приравнивание изобразительного искусства к пропаганде глубоко ошибочно. Как только зритель поймет, что с ним разговаривает не близкий и умный друг — искусство, а вместо него орудие давления и воспитания, он перестанет доверять и интересоваться. Пропаганда есть необходимая часть общественной жизни, но в области искусства в чистом виде она губительна. Исчезает доверительность искусства, то общение со зрителем, которого он жаждет и в котором нуждается, не омраченное никакими привходящими соображениями...»
«Поднимающий знамя» (1960) — центральная картина триптиха «Коммунисты» (Государственный Русский музей Санкт-Петербурга). Сказано об этом полотне столь много — есть ли что добавить? Есть. Видите трамвайную стрелку рассекающую брусчатку мостовой? Видите убитых с одной и с другой стороны стрелки? Куда бы ни шли, говорит предельно честно Коржев, нам не избежать жертв, а потому — поднимайте знамя и сражайтесь. Это ли не высший пик, белое каление коммунистической, красной пропаганды?! Нет! Нет... Это высший пик проявленного человеческого достоинства, состояние осмысленного самопожертвования во имя идеи. Знакомы ли нам такие слова? Не коробит ли нас от таких слов?..
Гелий Коржев был коммунистом, причём убеждённым, однако не единожды в поздние годы повторял: «Да, я разделяю эту идею, но картина не о ней, картина о выборе человека». Стоит добавить — если бы в сказанном художником была хоть капля лжи, нас бы воротило от «заказного холста». Но... Мы испытываем трепет. Священный трепет, даже если пытаемся спрятать его стыдливо за неумелой насмешкой. И это — несмотря на гибель Красной Империи. Весь же триптих целиком — с его левой частью «Мастерская» (она же и «Гомер»; 1960), олицетворяющей тот вечный, пытливый ум человеческий что жаждет творчества и знаний, жаждет света и готов пробиваться к нему сквозь камни и боль, с его правой частью «Интернационал» (1958), заставляющей в моменте принять неизбежность исхода любой битвы, когда лишь двое (а суть есть — один человек в двух лицах), знаменосец и трубач держат последний предел, последний рубеж посреди бранного поля — живоносная икона той самой Красной Империи, икона с клеймами повседневного и героического бытия — можете не верить в её силу, личное дело каждого.
Только забыть — не получится.
Как бы того ни хотелось.
Гелий Коржев, это такая находка Советского Союза? Такая россыпь алмазная, навроде гагаринско-королёвского космоса, эксплуатируй всласть и почём зря? Снова нет. Ни космос Гагарина и Королёва, ни полотна Коржева, отношения к находкам «безжалостной пропаганды» не имеют. Они имеют отношение к вечности, в которой, помимо прочего, растворена и советская идея светлого будущего без кавычек. И без прикрас.
В 1967-ом, на Третьей республиканской художественной выставке «Советская Россия» Гелий Коржев представил работы цикла «Опалённые огнем войны»: «Следы войны», «Мать», «Старые раны», «Проводы». Каждый из нас видел их не единожды, пусть и не отдавая себе отчёта в авторстве именно что Коржева. Что объединяет полотна? Правда. Взгляд солдата, пронзающий насквозь взгляд единственного уцелевшего, синее неба глаза, изувеченное, сожжённоё войной лицо — и оно, уж простите, слов лучше подобрать не могу — оно прекрасно. Как если бы бог посмотрел с неба — что с того, что у бога был бы один глаз — разве перестал он быть богом?.. А если бог таков, то и иже с ними — по образу его и подобию. Поколениями верящих и созидается царствие на земле. Красное ли, какое другое.
Коржев верил. Всегда верил. Временами, из последних сил:
«Реализм начал, и уже давно, под грузом не свойственных ему обязанностей задыхаться. Не хватало воздуха правды, не хватало времени приникнуть к роднику, и пришлось пить кипяченую воду. Не хватало времени на проникновение в тайны жизни... Если попытаться всю сложность жизни обозначить полным кругом, то ее отражения, что появляются на наших выставках, будут выглядеть узеньким сектором, а все сложные и глубинные вопросы жизни человека остаются лежать нетронутой целиной. На сегодня мы не готовы к вспашке этой целины. Наш реализм нуждается в серьезном ремонте...»
Посмотрите на отлитые из работы руки, на «линию загара», посмотрите на сети морщин уловляющих время, посмотрите... Разве ж только в «взвейся, развейся» заключён был социализм? А сапоги, а пудовые от грязи налипшей сапоги, а вечно волглые ватники, а вся эта канитель на местах новых, к жизни неустроенных, напрочь пробитых ветром и дождём, а холод?.. Жара? Пыль степная, снега по пояс... Строили во всякое время и в любые погоды, страну поднимали по календарю, не по графику личных желаний. Тяжесть на своих плечах тащили неимоверную, шагали семимильно, жили не богато, но что-то там такое было... Что-то настоящее.
Мы смотрим на «Влюблённых» (Государственный Русский музей Санкт-Петербурга;1959) и к величайшему своему изумлению осознаём — мир не из барбикенов состоит, не из них он сложен. Когда-то и эти двое, что на картине, были молоды, задорны, полны сил, а потом пришла война и забрала себе год за три, год за пять, год за молодость... Что-то настоящее. Иначе мы давно бы сгинули — пройдя путь стремительного пресыщения телесных страстей. И тут снова — не про пуританство, не про «жить серее, проще» — сколько та сирень цветёт, сколько та черёмуха? А потом? Выдрать куст к чёртовой матери, ибо больше не украшает? Хотя... Можно дождаться будущей весны. Можно дождаться будущих поколений. Коржев об этом — в каждом своём полотне. Он так и говорит, буквально, — «Вот такие люди построили всё то что нас окружает. Вот такими они были. Нет в них лоска внешнего, есть в них внутренний гранит...»
Столько работ у Коржева (а был он невероятно работоспособен и творчески плодовит) и каждая — высшее проявление пропаганды идеи — не митингов с демонстрациями. И вот тут и вспоминается доброжелателями всех мастей «Беседа» (Государственный Русский музей Санкт-Петербурга;1985) и говорят они, те доброжелатели: «Гляньте! Только надуло Горбачёва с Раисою, так Коржев и на попятную — Ильич глаза кепкой прикрыл и вроде как кается, а крестьянин слепой — вдаль смотрит и видит там мрак бесконечный!»
Что ростом не велик Ильич, так «эра» эта проходила в двери, даже головой не задевая о косяк», а интересно нам другое, интересна тень от Ленина, что создаёт ощущение протянутой ленинской руки, положенной на руку слепого старца. Всмотритесь — иначе Ильич и не помещается даже в заданные габариты, но ведь такого у Коржева отродясь не бывало, значит...
Что видит вождь мирового пролетариата, хоть и закрыты его глаза? Что видит незрячий ходок, да и шёл ли он к Ленину? Это беседа? Мысленная. Только на то и похоже. Однако мысленная беседа всегда подразумевает хоть какую но схожесть, сопричастность собеседников. Они — как бы что там не виделось — единое целое. Всяк по своему погружён в раздумье и при том ясно — все шли, кто как мог и кто куда мог — к чему пришли, то другая история. И в «Беседе» нет ни за кем правды, но и нет ни за кем лжи... Мы в одной стране жили и если приключилась меж нами революция и Гражданская — так то дело всех жильцов, иначе не бывает. Коржев не в бирюльки играет-заигрывает, он тыкает носом в тот самый суровый реализм — уже прозрейте, не на бумазейке мир держится — на стальных тросах! И на вере. Такие дела, сестрицы да братцы.
И снова, такое только выстрадать можно:
«Искусство — это приказ часового уходящего часовому заступающему. У нас ушло много прекрасных часовых родной культуры. И сегодня мы на часах, и это многое значит, и скоро нужно будет сдавать пост, и нужно сдать его с честью и достоинством...»
С честью и достоинством, а Коржеву всё тюрликами в рожу лица тычут. Вот мол, понарисовал в окончании времён бесов, а нам с ними жить, в стране постсоветской. Дело ясное — с ними и жить, с нами самими. Мало тех бесов в девяностые с подпола повылазило, мало через себя да через лозунги перекинулось гадиной тюрликовской оборотясь? Сплошь и рядом! Но, предъявляем мы, как водится, художнику — он глаза открыл, он и будет за нас всех виноват. А что бог единым глазом синее неба смотрит сверху и за каждым всё видит, то недосуг — может, и не видит. Может, его на той войне так шандарахнуло, что он и чёрное от белого не отличает, нам на радость...
«Прошло много лет, как я взял в руки карандаш и кисть. Много работ было создано. Много работ ушло из мастерской. След некоторых потерян. Осталась надежда, что где-то они живы и служат людям. Много было радостей и огорчений. И как всегда, мечта впереди, и как всегда, недоступна...»
С Коржевым ведь как случалось, оставляет утром на столе записку: «Никуда я ни в какой отпуск не поеду. Не устал! Не угнетён! Буду работать». Чудак-человек, если по нынешнему, да и рисовал всю жизнь чудаков. Дон Кихота вот тоже. И смотрит тот Дон Кихот как прут на Отечество мельницы ветряные со стальными чёрными крыльями, а всем и невдомёк, не до того значит, другие, значит, поважнее есть дела.
Вот теперь тех дел у нас и невпроворот.
И потому важно нам посреди тех дел вспоминать об образцовой советской пропаганде Гелия Коржева помня о том, что это пропаганда веры от верящего — иначе не было бы в ней силы.
Чем закончить? Только его словами. Словами художника, чьи работы по силе воздействия сравнимы, равны силе работ скульптора. Вучетич и Коржев — близнецы братья. Кто более — не нам судить. Есть и третий — Шостакович, и о нём отдельный рассказ.
Гелий, имя-то какое — с Солнцем на забалуешь...
Какое имя — такие и слова.
«Искусство родилось в борьбе со смертью. Человек хочет жить вечно, и даже скорее духовно, чем физически. И эта борьба за бессмертие породила искусство — оставить свои мысли и чувства своим потомкам, рассказать о времени и о себе, породить что-то более долговременное и живое, чем ты сам, и тем самым продолжать жить рядом со своими внуками».
И всё же.
В качестве послесловия.
«Облака 145 года» (Государственная Третьяковская галерея; 1985) — мрачно, это да, что уж тут описывать — посмотрите сами. И если можно — сердцем. Ради чего всё? Во имя чего немыслимые жертвы и лишения? Видите фигурку девочки в розовом платьице? Совсем незаметную, смотрящую вдаль. Вот ради неё. Ради прозреваемого возможного Будущего — оно наступит — всё в наших руках.
Мы видим, ощущаем, воспринимаем — «монументализм».
Так что это такое — когда реальность обрушивает на нас момент тотального принятия жесточайших исторических событий через зримую форму выраженную в металле, камне, живописном полотне? Перст указующий — вот что это такое. Наставление высшей силы ищущей способ достучаться до нашего замусоренного обыденностью сознания.
И тогда выходит, всё монументальное создают не люди, но силы руками людей? Люди создают, люди. Люди ведомые высшими силами. Такие, скажем, как Гелий Коржев, как Евгений Вучетич.
Про живопись: почитав умные книги не найдёте вы прямого отнесения великих живописных полотен к сфере монументализма — разве что фрески, роспись наиболее значительных храмов — и в этом усматривается определённое упущение академической науки. Между тем — речь у нас пойдёт вовсе не о росписях храма земного, но о росписях храма небесного. Когда и если тот храм, суть есть вместилище душ и верований многих поколений невиданного и неслыханного социального явления, мирового удавшегося (не смотря на разрыв цепи, на временный обрыв сигнала) эксперимента. Когда и если тот храм — СССР — как прообраз Древнего Рима по Эдуарду Лимонову. Когда и если...
В статье посвящённой Евгению Вучетичу речь шла о величественных зримых формах, о скульптурах олицетворяющих боль немыслимых потерь, скорбь разрушенного до основания довоенного мира, выстраданную радость всенародной Победы. Вучетич, и сам фронтовик и боец по духу, прожив внутри себя всё перечисленное и создав нам в назидание столь величественное напоминание о подвиге народа что и посейчас перехватывает дыхание и выбивает слезу, был Всевышним избавлен от созерцания крушения Страны Советов. Более того, он и период зримого полураспада практически не застал — Вучетич ушёл 12-го апреля 1974-го, в день космонавтики, когда и сама космонавтика и страна первого в мире полёта человека в космос все ещё демонстрировала явные признаки жизни, пусть и на фоне затухания социально-политических процессов начатых Великим Октябрём.
Гелию Коржеву выпал иной жребий. Родившись 7-го июля 1925-го, в Москве, он ушёл в вечное странствие 27-го августа 2012-го, всё из той же Москвы, но совершенно из другой эпохи и более того, из временного отрезка «формирующейся стабильности нового российского государства» — до Крыма, до всего. Для Коржева, таким образом, никакого просвета в том времени не было. Именно поэтому и был он обращён в последние свои годы к библейским сюжетам и к образу Дон Кихота Ламанчского — символа позднего прозрения относительно ушедшей безвозвратно жизни. Только вот к самому Коржеву всё это не имело никакого отношения — его жизнь была не просто наполненной и цельной — он был подобен медленно пересекающему свод небесный метеориту. Только представьте себе — выхватывая из тьмы важнейшее, устремляясь изначально вверх и лишь потом, по крутой дуге, вниз и вы видите — то, что видеть совсем не желали.
Такова природа монументализма.
От него нельзя отвернуться.
Коржев, величайший советский художник сурового стиля говорил о пропаганде:
«Приравнивание изобразительного искусства к пропаганде глубоко ошибочно. Как только зритель поймет, что с ним разговаривает не близкий и умный друг — искусство, а вместо него орудие давления и воспитания, он перестанет доверять и интересоваться. Пропаганда есть необходимая часть общественной жизни, но в области искусства в чистом виде она губительна. Исчезает доверительность искусства, то общение со зрителем, которого он жаждет и в котором нуждается, не омраченное никакими привходящими соображениями...»
«Поднимающий знамя» (1960) — центральная картина триптиха «Коммунисты» (Государственный Русский музей Санкт-Петербурга). Сказано об этом полотне столь много — есть ли что добавить? Есть. Видите трамвайную стрелку рассекающую брусчатку мостовой? Видите убитых с одной и с другой стороны стрелки? Куда бы ни шли, говорит предельно честно Коржев, нам не избежать жертв, а потому — поднимайте знамя и сражайтесь. Это ли не высший пик, белое каление коммунистической, красной пропаганды?! Нет! Нет... Это высший пик проявленного человеческого достоинства, состояние осмысленного самопожертвования во имя идеи. Знакомы ли нам такие слова? Не коробит ли нас от таких слов?..
Гелий Коржев был коммунистом, причём убеждённым, однако не единожды в поздние годы повторял: «Да, я разделяю эту идею, но картина не о ней, картина о выборе человека». Стоит добавить — если бы в сказанном художником была хоть капля лжи, нас бы воротило от «заказного холста». Но... Мы испытываем трепет. Священный трепет, даже если пытаемся спрятать его стыдливо за неумелой насмешкой. И это — несмотря на гибель Красной Империи. Весь же триптих целиком — с его левой частью «Мастерская» (она же и «Гомер»; 1960), олицетворяющей тот вечный, пытливый ум человеческий что жаждет творчества и знаний, жаждет света и готов пробиваться к нему сквозь камни и боль, с его правой частью «Интернационал» (1958), заставляющей в моменте принять неизбежность исхода любой битвы, когда лишь двое (а суть есть — один человек в двух лицах), знаменосец и трубач держат последний предел, последний рубеж посреди бранного поля — живоносная икона той самой Красной Империи, икона с клеймами повседневного и героического бытия — можете не верить в её силу, личное дело каждого.
Только забыть — не получится.
Как бы того ни хотелось.
Гелий Коржев, это такая находка Советского Союза? Такая россыпь алмазная, навроде гагаринско-королёвского космоса, эксплуатируй всласть и почём зря? Снова нет. Ни космос Гагарина и Королёва, ни полотна Коржева, отношения к находкам «безжалостной пропаганды» не имеют. Они имеют отношение к вечности, в которой, помимо прочего, растворена и советская идея светлого будущего без кавычек. И без прикрас.
В 1967-ом, на Третьей республиканской художественной выставке «Советская Россия» Гелий Коржев представил работы цикла «Опалённые огнем войны»: «Следы войны», «Мать», «Старые раны», «Проводы». Каждый из нас видел их не единожды, пусть и не отдавая себе отчёта в авторстве именно что Коржева. Что объединяет полотна? Правда. Взгляд солдата, пронзающий насквозь взгляд единственного уцелевшего, синее неба глаза, изувеченное, сожжённоё войной лицо — и оно, уж простите, слов лучше подобрать не могу — оно прекрасно. Как если бы бог посмотрел с неба — что с того, что у бога был бы один глаз — разве перестал он быть богом?.. А если бог таков, то и иже с ними — по образу его и подобию. Поколениями верящих и созидается царствие на земле. Красное ли, какое другое.
Коржев верил. Всегда верил. Временами, из последних сил:
«Реализм начал, и уже давно, под грузом не свойственных ему обязанностей задыхаться. Не хватало воздуха правды, не хватало времени приникнуть к роднику, и пришлось пить кипяченую воду. Не хватало времени на проникновение в тайны жизни... Если попытаться всю сложность жизни обозначить полным кругом, то ее отражения, что появляются на наших выставках, будут выглядеть узеньким сектором, а все сложные и глубинные вопросы жизни человека остаются лежать нетронутой целиной. На сегодня мы не готовы к вспашке этой целины. Наш реализм нуждается в серьезном ремонте...»
Посмотрите на отлитые из работы руки, на «линию загара», посмотрите на сети морщин уловляющих время, посмотрите... Разве ж только в «взвейся, развейся» заключён был социализм? А сапоги, а пудовые от грязи налипшей сапоги, а вечно волглые ватники, а вся эта канитель на местах новых, к жизни неустроенных, напрочь пробитых ветром и дождём, а холод?.. Жара? Пыль степная, снега по пояс... Строили во всякое время и в любые погоды, страну поднимали по календарю, не по графику личных желаний. Тяжесть на своих плечах тащили неимоверную, шагали семимильно, жили не богато, но что-то там такое было... Что-то настоящее.
Мы смотрим на «Влюблённых» (Государственный Русский музей Санкт-Петербурга;1959) и к величайшему своему изумлению осознаём — мир не из барбикенов состоит, не из них он сложен. Когда-то и эти двое, что на картине, были молоды, задорны, полны сил, а потом пришла война и забрала себе год за три, год за пять, год за молодость... Что-то настоящее. Иначе мы давно бы сгинули — пройдя путь стремительного пресыщения телесных страстей. И тут снова — не про пуританство, не про «жить серее, проще» — сколько та сирень цветёт, сколько та черёмуха? А потом? Выдрать куст к чёртовой матери, ибо больше не украшает? Хотя... Можно дождаться будущей весны. Можно дождаться будущих поколений. Коржев об этом — в каждом своём полотне. Он так и говорит, буквально, — «Вот такие люди построили всё то что нас окружает. Вот такими они были. Нет в них лоска внешнего, есть в них внутренний гранит...»
Столько работ у Коржева (а был он невероятно работоспособен и творчески плодовит) и каждая — высшее проявление пропаганды идеи — не митингов с демонстрациями. И вот тут и вспоминается доброжелателями всех мастей «Беседа» (Государственный Русский музей Санкт-Петербурга;1985) и говорят они, те доброжелатели: «Гляньте! Только надуло Горбачёва с Раисою, так Коржев и на попятную — Ильич глаза кепкой прикрыл и вроде как кается, а крестьянин слепой — вдаль смотрит и видит там мрак бесконечный!»
Что ростом не велик Ильич, так «эра» эта проходила в двери, даже головой не задевая о косяк», а интересно нам другое, интересна тень от Ленина, что создаёт ощущение протянутой ленинской руки, положенной на руку слепого старца. Всмотритесь — иначе Ильич и не помещается даже в заданные габариты, но ведь такого у Коржева отродясь не бывало, значит...
Что видит вождь мирового пролетариата, хоть и закрыты его глаза? Что видит незрячий ходок, да и шёл ли он к Ленину? Это беседа? Мысленная. Только на то и похоже. Однако мысленная беседа всегда подразумевает хоть какую но схожесть, сопричастность собеседников. Они — как бы что там не виделось — единое целое. Всяк по своему погружён в раздумье и при том ясно — все шли, кто как мог и кто куда мог — к чему пришли, то другая история. И в «Беседе» нет ни за кем правды, но и нет ни за кем лжи... Мы в одной стране жили и если приключилась меж нами революция и Гражданская — так то дело всех жильцов, иначе не бывает. Коржев не в бирюльки играет-заигрывает, он тыкает носом в тот самый суровый реализм — уже прозрейте, не на бумазейке мир держится — на стальных тросах! И на вере. Такие дела, сестрицы да братцы.
И снова, такое только выстрадать можно:
«Искусство — это приказ часового уходящего часовому заступающему. У нас ушло много прекрасных часовых родной культуры. И сегодня мы на часах, и это многое значит, и скоро нужно будет сдавать пост, и нужно сдать его с честью и достоинством...»
С честью и достоинством, а Коржеву всё тюрликами в рожу лица тычут. Вот мол, понарисовал в окончании времён бесов, а нам с ними жить, в стране постсоветской. Дело ясное — с ними и жить, с нами самими. Мало тех бесов в девяностые с подпола повылазило, мало через себя да через лозунги перекинулось гадиной тюрликовской оборотясь? Сплошь и рядом! Но, предъявляем мы, как водится, художнику — он глаза открыл, он и будет за нас всех виноват. А что бог единым глазом синее неба смотрит сверху и за каждым всё видит, то недосуг — может, и не видит. Может, его на той войне так шандарахнуло, что он и чёрное от белого не отличает, нам на радость...
«Прошло много лет, как я взял в руки карандаш и кисть. Много работ было создано. Много работ ушло из мастерской. След некоторых потерян. Осталась надежда, что где-то они живы и служат людям. Много было радостей и огорчений. И как всегда, мечта впереди, и как всегда, недоступна...»
С Коржевым ведь как случалось, оставляет утром на столе записку: «Никуда я ни в какой отпуск не поеду. Не устал! Не угнетён! Буду работать». Чудак-человек, если по нынешнему, да и рисовал всю жизнь чудаков. Дон Кихота вот тоже. И смотрит тот Дон Кихот как прут на Отечество мельницы ветряные со стальными чёрными крыльями, а всем и невдомёк, не до того значит, другие, значит, поважнее есть дела.
Вот теперь тех дел у нас и невпроворот.
И потому важно нам посреди тех дел вспоминать об образцовой советской пропаганде Гелия Коржева помня о том, что это пропаганда веры от верящего — иначе не было бы в ней силы.
Чем закончить? Только его словами. Словами художника, чьи работы по силе воздействия сравнимы, равны силе работ скульптора. Вучетич и Коржев — близнецы братья. Кто более — не нам судить. Есть и третий — Шостакович, и о нём отдельный рассказ.
Гелий, имя-то какое — с Солнцем на забалуешь...
Какое имя — такие и слова.
«Искусство родилось в борьбе со смертью. Человек хочет жить вечно, и даже скорее духовно, чем физически. И эта борьба за бессмертие породила искусство — оставить свои мысли и чувства своим потомкам, рассказать о времени и о себе, породить что-то более долговременное и живое, чем ты сам, и тем самым продолжать жить рядом со своими внуками».
И всё же.
В качестве послесловия.
«Облака 145 года» (Государственная Третьяковская галерея; 1985) — мрачно, это да, что уж тут описывать — посмотрите сами. И если можно — сердцем. Ради чего всё? Во имя чего немыслимые жертвы и лишения? Видите фигурку девочки в розовом платьице? Совсем незаметную, смотрящую вдаль. Вот ради неё. Ради прозреваемого возможного Будущего — оно наступит — всё в наших руках.