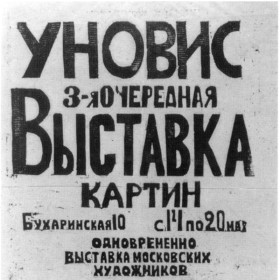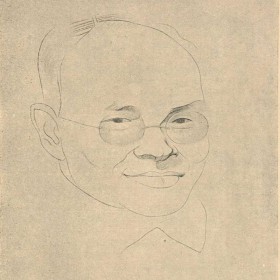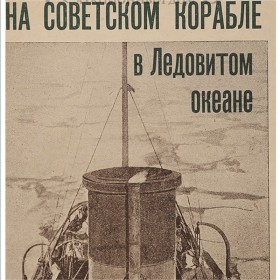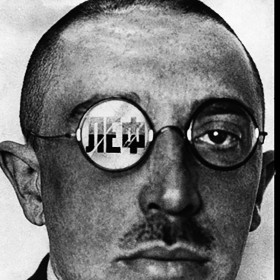Статьи
Торжественно клянусь!
Интересно, как она зазвучит сейчас, если запустить её ни с того ни с сего по центральному радиотелевидению, эту клятву Пионерии, как отзовётся она в сердцах слушателей... Потянет ли от неё нафталином? «Совковой пропагандой»? Коммунистическим оглуплением масс?
Чуткие носы либеральной общественности, вероятно сморщатся, в некотором её неприятии. Всё по Гоголю...
Времена одинаковы, разнятся лишь люди. Или, люди всегда одинаковы? А, дети? Вечное наше будущее — на него возложены надежды, на него обращены взгляды всего прогрессивного человечества — из века в век. А потом дети вырастают и становятся взрослыми... Но пока были они детьми, те взрослые, вера их в силу дружбы и нерушимость клятвы была превыше всего.
Дети всегда дают фору взрослым.
Это называется экзистенциальной данностью.
Бороться с ней можно, победить — нет.
А в кипящих котлах прежних боен и смут
Столько пищи для маленьких наших мозгов!
Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.
Так было. И при советской, и при досоветской власти. Мы же говорим о том времени, когда сам факт существования первого в мире государства рабочих и крестьян был под смертельной угрозой. О том времени, когда от каждого требовалось сделать выбор. Один, и верный. И выбор тот не давал ни льгот, ни преференций — только непроглядный сумрак в котором и надо было биться с коварным, жестоким, изворотливым и жалости не знающем врагом.
Помните, обещание вернутся к засевшему в мозгу с малых лет, про «вероломное нападение»? Так вот и вернёмся. Вероломное, ломающее веру — в силу человеческих договорённостей, в истинность человеческих намерений, в правду, честность, искренность, любовь.
Когда немцы пришли незваными в наш дом и показали своё арийское рыло, стало понятно — или мы, или они. Оно. Вселенское зло, обрушившееся на СССР всей силой своей бессмысленной жестокости. Впрочем, у бюргера всегда и на всё есть объяснение. «Пепел крематориев хорош для удобрения окрестных полей. Волосы хороши для набивания матрацев».
Дети Советского Союза увидели. «Истинных арийцев». Дети Советского Союза объявили им войну. Но, что может ребёнок?! Против такого монстра? Оказалось, может. И очень многое.
Про молодогвардейцев Краснодона страна узнала ещё во время Великой Отечественной. Немыслимые пытки, зверства недоступные разуму, всё то, что вынесла Молодая Гвардия, вынесла и не сломалась, было по праву и по чести поднято Красной Империей на флаг — её мученики были прославлены повсеместно, стали примером невозможности самой мысли о покорении нас кем бы то ни было. Но то были комсомольцы, лет по 18-19. Правда, Олегу Кошевому было на момент гибели всего 16... Правда и то, что роман Александра Фадеева («Молодая гвардия 1946/с правками 1951) жителями Краснодона, очевидцами тех событий, принят, по существу, не был. Как память и как легенда — да, как точная летопись событий и отчаянной борьбы с фашистами — нет. Почему это важно? Вот почему — читаем в докладной записке ответственного редактора издательства «Молодая гвардия» Лукина в секретариат ЦК ВЛКСМ (это январь 1947-го): «Молодая гвардия» представляла собой большую серьёзную организацию, часто делавшую больше, чем другие партизанские подпольные организации области, а в романе этого нет. В романе Фадеев изображает, наоборот, какую-то детскую игру школьников в подполье».
Это историческое свидетельство последствий художественного вымысла, или, сказав мягче, художественного переосмысления страшных, не укладывающихся в голове событий. Меж тем, правда жизни не просто жестока, она иногда и чудовищна. Мать предателя молодогвардейцев Геннадия Почепцова в день его казни в августе 1943-го (тогда же были казнены пособники немцев Громов и Кулешов) самолично порывалась его расстрелять.
Бог с ним, с романом Фадеева. Он есть, и одно это уже хорошо. Важно другое — молодогвардецев были в стране десятки тысяч, если не сотни. Если не сотни тысяч! И всем и каждому известная в нашей стране (надеюсь, что это так) Зина Портнова, тоже была молодогвардейцем — членом подпольной организации «Юные мстители». И было ей на момент гибели 17 лет. И в комсомол вступила она уже в подполье и потому — для нас она пионер-герой. И герой-комсомолец. Сто с лишним фрицев отправила она в ад, отравив их в столовой. Подпав под подозрение, спокойно съела тарелку отравленного супа на глазах у немцев, была отпущена домой и выжила — бабка отпоила травами. Потом партизанский отряд. Работа связной. Арест. На допросе, улучив момент, схватила со стола пистолет, застрелила двух офицеров и солдата «доблестного вермахта», бежала, отстреливалась, но была поймана.
Немцы пытали Зину Портнову страшно. Не за ради данных, за ради дикой своей злобы. Выкололи глаза, отрезали уши и грудь, раздробили пальцы. Она была седая как лунь, та девочка Зина Портнова, когда вели её на расстрел 10-го января 1944-го. Разве не заслуживает она канонизации? Хоть бы и в наших сердцах? Прекрасную книгу о ней написал после войны Василий Смирнов. Кто её помнит сегодня, ту книгу? Многие ли из ныне счастливо живущих, её читали?
Победа наша, во многом стала возможна потому, что враг убоялся. Убоялся непокоряемой и ненавистной ему «территории», населённой взрослыми и детьми не ведающими страха. Каждая чудовищная, мученическая смерть каждого советского молодогвардейца укрепляла фрицев в уверенности что «победить славянских варваров нельзя, их можно только уничтожить». И они уничтожали. Уничтожали...
Из воспоминаний матери Юрия Виценовского (одного из казнённых молодогвардейцев Краснодона) присутствовавшей при подъёме тел из 58-ми метрового шурфа шахты №5: «Зияющая пропасть, вокруг которой валялись мелкие части туалета наших детей: носки, гребешки, валенки, бюстгальтеры... Стена террикона вся забрызгана кровью и мозгами. С душераздирающим криком каждая мать узнавала дорогие вещи своих детей. Стоны, обмороки...»
Семьдесят одна жизнь... В кого-то стреляли, кого-то сбрасывали живыми. Пытки, предшествовавшие казни ничем по изощренности не отличались от «богоугодных деяний святой инквизиции». Как надо ненавидеть противостоящих тебе почти ещё подростков, чтобы творить такое? Скажу как — до дикого животного ужаса надо было их ненавидеть.
Выходит, те подростки, те дети, те мальчишки и девчонки, что приносили клятву и пионерии и комсомолу, те, кто произносили слова «Торжественно клянусь!», были не просто верующими — апостолами веры — ибо снесли всё, и безропотно. Забыть их — предать не только себя — предать Бога.
Мало кто возвысил голос в их честь сегодня, в дни «свободного рынка и здоровой конкуренции». Я пишу и мне отвратительно ставить рядом, в одном тексте, «конкурентный рынок» и тех, кто невеликими своими прожитыми годами оплатил наши игры — в рынок, в конкуренцию, в бесконечную и настойчивую «заботу о самом себе». Отвращение. Почти физическая боль.
Мало кто возвысил за них голос...
И всё же.
В 2012-ом воркутинский писатель и историк (из шахтёрской семьи) Игорь Веркин закончил и опубликовал роман «Облачный полк» — о партизане Саныче, то есть — о Лёне Голикове. Роман выдержал с того времени восемь переизданий, а то и больше. Роман ушёл в народ.
Почему?
Потому, что Голиков там живой. Злой, ненавидящий, любящий и влюблённый, жёсткий, упрямый как скала, отчаянный, бесшабашный и готовый встретить смерть в любой из дней. Есть Родина. Есть долг. А есть, в приложение к тому и другому, смерть. Она может и не случиться, но если уж на роду написано быть героем, жди беды — иначе где геройство твоё сгодится, нужнее нужного будет?
Я «Облачный полк» перечитывал трижды — оказываешься прям там, кожей чувствуешь — вот сейчас и тебя очередью, гранатой достанут. И всё время холодно, холодно до жути. И всё время надо куда-то идти. И страшно. И ничего не известно. И есть только вера в Победу. Любой ценой.
Есть в книге и встреча со странным художником, в заброшенной деревне. Огромная картина в полстены дома. И все праведники на ней. И нынешние, и будущие. Был там и Лёнька Голиков: «Весёлый и злой, стоит, прислонившись к стене. С копьём. В тени узкого горного ущелья, отделяющего сумрак от света, потомок Геракла в сорок третьем колене, вечно на страже. За его спиной мгла, глубокая, пронизанная почти невидимыми серебристыми нитями, в бешеных переплетениях которых угадываются смутные фигуры. Их много. И они...»
Есть на той картине и Юрка Гагарин. И если что кому на роду написано... А мог ведь и погибнуть в деревне Клушино, когда брата младшего, повешенного немцем на шарфе спасал. Выходит, был бы пионером-героем... Понимаете о чём я? Мы окружены сонмом святых Красной Империи. Но, где же храмы, пусть и внутренние, пусть и в наших душах? «Мы помним!» — скажете вы. И я отвечу, что да, но уж больно избирательно. Со многими оговорками.
История оговорок не терпит.
Петя Клыпа, тот самый рядовой музвзвода Брестской крепости, историю которого раскопал (да и самого Петю спас, на свет божий вытащил) писатель Сергей Смирнов, он же не ангелом был ни разу. Тот Петя Клыпа. Отчаянный и бесстрашный, до последнего часа таскавший котелками воду с Буга — для раненых и пулемётов, собиравший по развалинам патроны и оружие, еду. Когда гарнизон пал, Клыпа попал в плен, был угнан в Германию, где и батрачил на «добрых немецких бюргеров», пока американцы не пришли. Летом 45-го был передан советским войскам. Прошёл фильтрацию, был мобилизован в Красную армию, а в ноябре 45-го уволен в запас. И отправлен в Брянск, в родные места, где и связался со шпаной уголовной, отличился в грабежах и бандитизме, получил в 49-ом 25 лет Колымы с полным поражением в правах и... И был найден писателем Смирновым, изучающим архивы Брестской крепости и буквально вгрызавшемся в её историю. Очень хороший был и писатель и человек.
Так вот Смирнов когда всё про Клыпу узнал, а было это в 53-ем, поначалу дрогнул. Оно и понятно — как быть, что делать? А потом, пустил в ход все свои связи и регалии, пошёл по кабинетам и добился помилования. И 23-го декабря 1955-го, герой Брестской крепости Пётр Клыпа был досрочно выпущен на свободу. И прожил пусть и не самую долгую, но честную жизнь. Умер в декабре 1983-го. В июне 41-го было ему неполных 15 лет...
Это я к чему?
Не убоялась советская пропаганда, рассказала судьбу Петра Клыпы, как она есть. И Пётр Клыпа прошлого своего не убоялся — до конца жизни работал токарем на брянском заводе «Строммашина», встречался со школьниками, рассказывал о себе, о войне, его именем были названы многие пионерские дружины Советского Союза, он был награждён орденом Отечественной войны 1-ой степени...
Пару лет назад попался мне на глаза фильм Натальи Кудряшёвой со странным названием «Пионеры-герои» (2015). Грустный фильм о трёх бывших советских детях — Оле, Кате и Андрее. Тут тебе и советское прошлое, как они в пионеры вступать готовятся, тут тебе и хлебные чернильницы и письмо молоком (после прочтения рассказов о Ленине), тут тебе и душевные метания — сдавать милиции или не сдавать, деда самогонщика... Не смешно. Скорее, больно. Потому что дети верят, и верят отчаянно, а взрослые... А взрослые больше не верят. Есть там и такой диалог бывших пионеров, Кати и Андрея:
— А ты в детстве о чём мечтал?
— Подвиг совершить.
— Да, я тоже...
— Ну, и как? Совершила?
— Не, а... А ты?
— В Москву вон переехал... Я в детстве хотел таблетку от смерти придумать, чтоб никто никогда не умирал. Я её у себя в тетрадке рисовал, как она органы всякие заживляет... Жалко тетрадки этой нет...
— А, может, реально подвиг совершить? Спасти кого-нибудь. Стать матерью-героиней?.. В жизни всегда есть место подвигу...
В финале фильма повзрослевшая Катя подвиг совершит — спасёт во время теракта в Москве ребёнка, закроет его своим телом. И увидит себя в посмертии — на аллее пионеров-героев. И пойдёт по небесной лестнице в пионерский-советский рай. И девчонки в конопушках, белых платьях и красных галстуках, будут ей на каждой ступени той лестницы пионерский салют отдавать.
Плывут пароходы - привет Мальчишу!
Пролетают летчики - привет Мальчишу!
Пробегут паровозы - привет Мальчишу!
А пройдут пионеры - салют Мальчишу!
От этого фильма (не рассказывать же весь сюжет) переворачивается внутри то, что в просторечье называется совестью. Почему в просторечье? Потому что всё чаще только там она и встречается. Мрачными красками заканчиваю повествование. Удалось ли сказать главное? Многие ли из нас видели тот фильм?
Надо найти способ (я его не знаю, бьюсь в поисках) рассказать о детях-героях той Великой Войны так, чтобы виделись они и нам и нашим детям совершенно живыми, настоящими, без пафоса дурацкого и без ненужного лоска.
Не в том беда, что почти в каждом парке Советского Союза была аллея пионеров-героев и всё «как бы размылось со временем», а в том беда, что своих святых забывать нельзя. Ни в какой из моментов истории. Ни в один из них... А уж крещёные они, не крещёные — пред Богом все равны.
Пропаганда — пропагандой.
Вера — всегда над ней.
Вместе они — оружие безотказное, если делать всё по чести и по совести.
Чуткие носы либеральной общественности, вероятно сморщатся, в некотором её неприятии. Всё по Гоголю...
Времена одинаковы, разнятся лишь люди. Или, люди всегда одинаковы? А, дети? Вечное наше будущее — на него возложены надежды, на него обращены взгляды всего прогрессивного человечества — из века в век. А потом дети вырастают и становятся взрослыми... Но пока были они детьми, те взрослые, вера их в силу дружбы и нерушимость клятвы была превыше всего.
Дети всегда дают фору взрослым.
Это называется экзистенциальной данностью.
Бороться с ней можно, победить — нет.
А в кипящих котлах прежних боен и смут
Столько пищи для маленьких наших мозгов!
Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.
Так было. И при советской, и при досоветской власти. Мы же говорим о том времени, когда сам факт существования первого в мире государства рабочих и крестьян был под смертельной угрозой. О том времени, когда от каждого требовалось сделать выбор. Один, и верный. И выбор тот не давал ни льгот, ни преференций — только непроглядный сумрак в котором и надо было биться с коварным, жестоким, изворотливым и жалости не знающем врагом.
Помните, обещание вернутся к засевшему в мозгу с малых лет, про «вероломное нападение»? Так вот и вернёмся. Вероломное, ломающее веру — в силу человеческих договорённостей, в истинность человеческих намерений, в правду, честность, искренность, любовь.
Когда немцы пришли незваными в наш дом и показали своё арийское рыло, стало понятно — или мы, или они. Оно. Вселенское зло, обрушившееся на СССР всей силой своей бессмысленной жестокости. Впрочем, у бюргера всегда и на всё есть объяснение. «Пепел крематориев хорош для удобрения окрестных полей. Волосы хороши для набивания матрацев».
Дети Советского Союза увидели. «Истинных арийцев». Дети Советского Союза объявили им войну. Но, что может ребёнок?! Против такого монстра? Оказалось, может. И очень многое.
Про молодогвардейцев Краснодона страна узнала ещё во время Великой Отечественной. Немыслимые пытки, зверства недоступные разуму, всё то, что вынесла Молодая Гвардия, вынесла и не сломалась, было по праву и по чести поднято Красной Империей на флаг — её мученики были прославлены повсеместно, стали примером невозможности самой мысли о покорении нас кем бы то ни было. Но то были комсомольцы, лет по 18-19. Правда, Олегу Кошевому было на момент гибели всего 16... Правда и то, что роман Александра Фадеева («Молодая гвардия 1946/с правками 1951) жителями Краснодона, очевидцами тех событий, принят, по существу, не был. Как память и как легенда — да, как точная летопись событий и отчаянной борьбы с фашистами — нет. Почему это важно? Вот почему — читаем в докладной записке ответственного редактора издательства «Молодая гвардия» Лукина в секретариат ЦК ВЛКСМ (это январь 1947-го): «Молодая гвардия» представляла собой большую серьёзную организацию, часто делавшую больше, чем другие партизанские подпольные организации области, а в романе этого нет. В романе Фадеев изображает, наоборот, какую-то детскую игру школьников в подполье».
Это историческое свидетельство последствий художественного вымысла, или, сказав мягче, художественного переосмысления страшных, не укладывающихся в голове событий. Меж тем, правда жизни не просто жестока, она иногда и чудовищна. Мать предателя молодогвардейцев Геннадия Почепцова в день его казни в августе 1943-го (тогда же были казнены пособники немцев Громов и Кулешов) самолично порывалась его расстрелять.
Бог с ним, с романом Фадеева. Он есть, и одно это уже хорошо. Важно другое — молодогвардецев были в стране десятки тысяч, если не сотни. Если не сотни тысяч! И всем и каждому известная в нашей стране (надеюсь, что это так) Зина Портнова, тоже была молодогвардейцем — членом подпольной организации «Юные мстители». И было ей на момент гибели 17 лет. И в комсомол вступила она уже в подполье и потому — для нас она пионер-герой. И герой-комсомолец. Сто с лишним фрицев отправила она в ад, отравив их в столовой. Подпав под подозрение, спокойно съела тарелку отравленного супа на глазах у немцев, была отпущена домой и выжила — бабка отпоила травами. Потом партизанский отряд. Работа связной. Арест. На допросе, улучив момент, схватила со стола пистолет, застрелила двух офицеров и солдата «доблестного вермахта», бежала, отстреливалась, но была поймана.
Немцы пытали Зину Портнову страшно. Не за ради данных, за ради дикой своей злобы. Выкололи глаза, отрезали уши и грудь, раздробили пальцы. Она была седая как лунь, та девочка Зина Портнова, когда вели её на расстрел 10-го января 1944-го. Разве не заслуживает она канонизации? Хоть бы и в наших сердцах? Прекрасную книгу о ней написал после войны Василий Смирнов. Кто её помнит сегодня, ту книгу? Многие ли из ныне счастливо живущих, её читали?
Победа наша, во многом стала возможна потому, что враг убоялся. Убоялся непокоряемой и ненавистной ему «территории», населённой взрослыми и детьми не ведающими страха. Каждая чудовищная, мученическая смерть каждого советского молодогвардейца укрепляла фрицев в уверенности что «победить славянских варваров нельзя, их можно только уничтожить». И они уничтожали. Уничтожали...
Из воспоминаний матери Юрия Виценовского (одного из казнённых молодогвардейцев Краснодона) присутствовавшей при подъёме тел из 58-ми метрового шурфа шахты №5: «Зияющая пропасть, вокруг которой валялись мелкие части туалета наших детей: носки, гребешки, валенки, бюстгальтеры... Стена террикона вся забрызгана кровью и мозгами. С душераздирающим криком каждая мать узнавала дорогие вещи своих детей. Стоны, обмороки...»
Семьдесят одна жизнь... В кого-то стреляли, кого-то сбрасывали живыми. Пытки, предшествовавшие казни ничем по изощренности не отличались от «богоугодных деяний святой инквизиции». Как надо ненавидеть противостоящих тебе почти ещё подростков, чтобы творить такое? Скажу как — до дикого животного ужаса надо было их ненавидеть.
Выходит, те подростки, те дети, те мальчишки и девчонки, что приносили клятву и пионерии и комсомолу, те, кто произносили слова «Торжественно клянусь!», были не просто верующими — апостолами веры — ибо снесли всё, и безропотно. Забыть их — предать не только себя — предать Бога.
Мало кто возвысил голос в их честь сегодня, в дни «свободного рынка и здоровой конкуренции». Я пишу и мне отвратительно ставить рядом, в одном тексте, «конкурентный рынок» и тех, кто невеликими своими прожитыми годами оплатил наши игры — в рынок, в конкуренцию, в бесконечную и настойчивую «заботу о самом себе». Отвращение. Почти физическая боль.
Мало кто возвысил за них голос...
И всё же.
В 2012-ом воркутинский писатель и историк (из шахтёрской семьи) Игорь Веркин закончил и опубликовал роман «Облачный полк» — о партизане Саныче, то есть — о Лёне Голикове. Роман выдержал с того времени восемь переизданий, а то и больше. Роман ушёл в народ.
Почему?
Потому, что Голиков там живой. Злой, ненавидящий, любящий и влюблённый, жёсткий, упрямый как скала, отчаянный, бесшабашный и готовый встретить смерть в любой из дней. Есть Родина. Есть долг. А есть, в приложение к тому и другому, смерть. Она может и не случиться, но если уж на роду написано быть героем, жди беды — иначе где геройство твоё сгодится, нужнее нужного будет?
Я «Облачный полк» перечитывал трижды — оказываешься прям там, кожей чувствуешь — вот сейчас и тебя очередью, гранатой достанут. И всё время холодно, холодно до жути. И всё время надо куда-то идти. И страшно. И ничего не известно. И есть только вера в Победу. Любой ценой.
Есть в книге и встреча со странным художником, в заброшенной деревне. Огромная картина в полстены дома. И все праведники на ней. И нынешние, и будущие. Был там и Лёнька Голиков: «Весёлый и злой, стоит, прислонившись к стене. С копьём. В тени узкого горного ущелья, отделяющего сумрак от света, потомок Геракла в сорок третьем колене, вечно на страже. За его спиной мгла, глубокая, пронизанная почти невидимыми серебристыми нитями, в бешеных переплетениях которых угадываются смутные фигуры. Их много. И они...»
Есть на той картине и Юрка Гагарин. И если что кому на роду написано... А мог ведь и погибнуть в деревне Клушино, когда брата младшего, повешенного немцем на шарфе спасал. Выходит, был бы пионером-героем... Понимаете о чём я? Мы окружены сонмом святых Красной Империи. Но, где же храмы, пусть и внутренние, пусть и в наших душах? «Мы помним!» — скажете вы. И я отвечу, что да, но уж больно избирательно. Со многими оговорками.
История оговорок не терпит.
Петя Клыпа, тот самый рядовой музвзвода Брестской крепости, историю которого раскопал (да и самого Петю спас, на свет божий вытащил) писатель Сергей Смирнов, он же не ангелом был ни разу. Тот Петя Клыпа. Отчаянный и бесстрашный, до последнего часа таскавший котелками воду с Буга — для раненых и пулемётов, собиравший по развалинам патроны и оружие, еду. Когда гарнизон пал, Клыпа попал в плен, был угнан в Германию, где и батрачил на «добрых немецких бюргеров», пока американцы не пришли. Летом 45-го был передан советским войскам. Прошёл фильтрацию, был мобилизован в Красную армию, а в ноябре 45-го уволен в запас. И отправлен в Брянск, в родные места, где и связался со шпаной уголовной, отличился в грабежах и бандитизме, получил в 49-ом 25 лет Колымы с полным поражением в правах и... И был найден писателем Смирновым, изучающим архивы Брестской крепости и буквально вгрызавшемся в её историю. Очень хороший был и писатель и человек.
Так вот Смирнов когда всё про Клыпу узнал, а было это в 53-ем, поначалу дрогнул. Оно и понятно — как быть, что делать? А потом, пустил в ход все свои связи и регалии, пошёл по кабинетам и добился помилования. И 23-го декабря 1955-го, герой Брестской крепости Пётр Клыпа был досрочно выпущен на свободу. И прожил пусть и не самую долгую, но честную жизнь. Умер в декабре 1983-го. В июне 41-го было ему неполных 15 лет...
Это я к чему?
Не убоялась советская пропаганда, рассказала судьбу Петра Клыпы, как она есть. И Пётр Клыпа прошлого своего не убоялся — до конца жизни работал токарем на брянском заводе «Строммашина», встречался со школьниками, рассказывал о себе, о войне, его именем были названы многие пионерские дружины Советского Союза, он был награждён орденом Отечественной войны 1-ой степени...
Пару лет назад попался мне на глаза фильм Натальи Кудряшёвой со странным названием «Пионеры-герои» (2015). Грустный фильм о трёх бывших советских детях — Оле, Кате и Андрее. Тут тебе и советское прошлое, как они в пионеры вступать готовятся, тут тебе и хлебные чернильницы и письмо молоком (после прочтения рассказов о Ленине), тут тебе и душевные метания — сдавать милиции или не сдавать, деда самогонщика... Не смешно. Скорее, больно. Потому что дети верят, и верят отчаянно, а взрослые... А взрослые больше не верят. Есть там и такой диалог бывших пионеров, Кати и Андрея:
— А ты в детстве о чём мечтал?
— Подвиг совершить.
— Да, я тоже...
— Ну, и как? Совершила?
— Не, а... А ты?
— В Москву вон переехал... Я в детстве хотел таблетку от смерти придумать, чтоб никто никогда не умирал. Я её у себя в тетрадке рисовал, как она органы всякие заживляет... Жалко тетрадки этой нет...
— А, может, реально подвиг совершить? Спасти кого-нибудь. Стать матерью-героиней?.. В жизни всегда есть место подвигу...
В финале фильма повзрослевшая Катя подвиг совершит — спасёт во время теракта в Москве ребёнка, закроет его своим телом. И увидит себя в посмертии — на аллее пионеров-героев. И пойдёт по небесной лестнице в пионерский-советский рай. И девчонки в конопушках, белых платьях и красных галстуках, будут ей на каждой ступени той лестницы пионерский салют отдавать.
Плывут пароходы - привет Мальчишу!
Пролетают летчики - привет Мальчишу!
Пробегут паровозы - привет Мальчишу!
А пройдут пионеры - салют Мальчишу!
От этого фильма (не рассказывать же весь сюжет) переворачивается внутри то, что в просторечье называется совестью. Почему в просторечье? Потому что всё чаще только там она и встречается. Мрачными красками заканчиваю повествование. Удалось ли сказать главное? Многие ли из нас видели тот фильм?
Надо найти способ (я его не знаю, бьюсь в поисках) рассказать о детях-героях той Великой Войны так, чтобы виделись они и нам и нашим детям совершенно живыми, настоящими, без пафоса дурацкого и без ненужного лоска.
Не в том беда, что почти в каждом парке Советского Союза была аллея пионеров-героев и всё «как бы размылось со временем», а в том беда, что своих святых забывать нельзя. Ни в какой из моментов истории. Ни в один из них... А уж крещёные они, не крещёные — пред Богом все равны.
Пропаганда — пропагандой.
Вера — всегда над ней.
Вместе они — оружие безотказное, если делать всё по чести и по совести.
Руки прочь от Китая!
Не забывайте, что там в свободной России, раздался призыв «Руки прочь от Китая!»… для лозунгов издающихся из Москвы, расстояния не существует. – Сунь Ятсен, первый президент Китайской Республики,1924 год
Для лозунгов из Москвы, расстояния не существует, как не существовало сферы искусства, которая бы в то время не служила агитационным целям нового государства. Братский союз Дракона и Медведя придуман не вчера и не в противовес окружающим обезьянам. И усиление работы по освещению этого союза происходит в определенные исторические моменты, как происходит в данный момент, как это происходило во время и после революции 1917 года.
Медленно отступающая армия Колчака, через Сибирь и Дальний Восток шла в Харбин и Тяньцзин, Пекин и Шанхай, ведя за собой русскую эмиграцию. Независимая Дальневосточная республика (ДВР) ненадолго стала ковчегом для творческой интеллигенции, бежавшей на Восток. Ее продвижение оказало мощное воздействие на литературную и художественную жизнь Сибири и Дальнего Востока, ставшими территорией активного культурного трансфера. Несмотря на то, что во время существования ДВР не было четкой границы между «красными» и «белыми» деятелями культуры, писатели, журналисты оставшиеся или вернувшиеся на родину вынуждены были скрывать свои публикации в «контрреволюционной» дальневосточной печати.
Качественно новая культура на Дальнем востоке испытала влияние авангарда и модерна, соединила в себе трагизм нового времени и эмиграции, гражданской войны и восточный колорит. Известное путешествие Давида Бурлюка и Владимира Гольцшмидта по Транссибирской магистрали, работа футуристов Сергея Третьякова и Николая Асеева в газетах и журналах Владивостока, прибытие профессиональных литераторов и журналистов из столиц и европейской части России привели к появлению на Дальнем Востоке новой культуры. Как естественное продолжение этого движения на Восток, появляется некое пространство культурного взаимодействия между СССР и Китаем, которое достигает своего пика в 1924-27 годах.
Именно это время было в Китае периодом активного подъёма национально — освободительного движения, перед началом Гражданской войны. В мае 1924 года устанавливаются дипломатические отношения между СССР и Китаем. В сентябре 1924 года в Советском Союзе проходит широкая кампания по поддержке китайского народа, лозунг которой известен до сих пор - «Руки прочь от Китая!». В советском информационном и культурном пространстве стали появляться произведения, посвященные Поднебесной. Публиковались стихи о Китае В. Маяковского, А. Жарова, И. Уткина, Демьяна Бедного, Н. Асеева, очерки Сергея Третьякова, Зинаиды Рихтер, Николая Костарева, Оскара Эрдберга, и др., рассказ Н. Тихонова о Сунь Ятсене, поэма Сакена Сейфуллина, книга Веры Юреневой "Мои записки о китайском театре"; был поставлен первый советский балет "Красный мак" Р. Глиэра, появился первый полнометражный мультфильм "Китай в огне", документальные кинофильмы "Великий перелет" и "Шанхайский дневник". Газеты почти ежедневно помещали карикатуры художников Моора, Б. Ефимова, Дени на врагов Китая, столичные зрители восторженно встречали подвиг китайца Син Би-у - главного героя пьесы "Бронепоезд 14 - 69".
Поэт Сергей Третьяков, знакомый нам по «ЛЕФу», в 1921 году, вернувшись из Китая в Москву, делает доклад в ИЗО коллегии Наркомпроса о китайских впечатлениях. Появилась задумка сюжета пьесы "Голубой экспресс". Действие должно было происходить в Китае и разворачиваться вокруг случая с захватом в плен китайцами поезда с европейцами. О пьесе, вспоминал С. Третьяков, "мы много мечтали в 1923 - 24 году с Сергеем Эйзенштейном, тогда режиссером пролеткультовского театра". В 1924 году переезжает в Пекин, где по приглашению преподает русскую литературу студентам русской секции Пекинского университета. Удивительно, учитывая, что столичные творческие союзы, в которых он состоял, мечтали о попрании той самой литературы, на обломках которой можно построить новое своё. Но в то время ориентироваться нужно было уметь быстро. Полтора года в Китае Третьяков посещал местные театры, изучал китайскую литературу. В итоге им были написаны поэма «Рычи, Китай!» и пьеса с одноименным названием, которая по его возвращении была поставлена в театре имени Мейерхольда.
Спектакль шел с аншлагом, пьеса была переведена на иностранные языки, в том числе английский, китайский и японский. Имея в виду первую постановку этой пьесы в Германии во Франкфурте-на-Майне в 1929 году, Фридрих Вольф отмечал "удивительно сильное впечатление", и считал, что наряду с другими произведениями советских драматургов "Рычи, Китай!" оказал "мощное влияние на развитие революционного театра Запада". Последнее представление ее в Китае состоялось в день образования КНР - 1 октября 1949 года. На протяжении многих лет пьеса советского писателя помогала китайскому народу в его борьбе против поработителей, была одним тем боевым культурным орудием, в котором, по словам Лу Синя, в ту пору так нуждался Китай. Сергей Третьяков понимал в пропаганде, поэтому хорошо осознавал важность работы с детско-подростковой аудиторией. Преимущественно эти произведения о Китае - «литература факта» и публицистические очерки. В 1927 году в Госиздате выходит агитационная поэма «Ли-Ян упрям». В том же году в журнале «Пионер» очерк «Пять китаев» - повесть, написанная по беседам автора со студентом Пекинского университета, «Детство Дэн Ши-хуа» (1928). В газете «Пионерская правда» выходит «Пекин (фрагмент книги очерков о современном Китае «Чжунго»)» (1928), статья «Как писать очерк» (1929), главы из повести под названием «Маленький Дэн (из биографии китайского студента) (1928).
Рикша.
У американцев толстая подошва.
Толстая подошва -
Ничего хорошего.
Если рикше подошвой в бок -
В горле клубок.
Американский сапог -
Слоновые бивни.
Жара - 50.
Плата - гривенник.
Скучно возить.
Трудно возить.
Сто фунтов пота спрятал в грязи.
Сто фунтов в банке у седока.
У рикши от бега болят бока.
Рикша молчит - хочет кушать.
Рикша слушает - у рикши уши.
Рикша тысяч народу свез
До ста.
Еще пару ног бы да хвост
Да ржать
Да кушать овес
А сдохнешь - под мост.
Просто.
Семьдесят тысяч в Пекине рикшей.
Грудью свистят к рыси привыкши.
Но -
Если голод...
Но если злоба.
Под горлом молот.
Рыгнет утроба.
Будет день их.
Рикша за поездку не спросит денег.
Крикнет рикша.
Рикша озлоблен.
Рикша на воздух кинет оглобли.
Чтоб крепче о камень хряснул затылок.
Чтоб кровь не застыла, кровь не застыла.
А если застонет -
Садану по зубью:
Лошадиным копытом своим добью.
Из поэмы «Рычи, Китай» Сергея Третьякова
5 сентября 1924 г. на совместном заседании президиума ВЦСПС и центральных комитетов профсоюзов было создано общество «Руки прочь от Китая». В 1925-м, по заказу общества при участии китайских студентов Коммунистического университета народов Востока и учёных-китаистов, коллектив Зенона Комиссаренко создает мультипликационный полнометражный фильм «Китай в огне». Эстетическую палитру фильма, посвященного истории страны и революционным событиям 20-х годов составили традиции китайской графики, бытового рисунка и советского плаката. В работе впервые применен альбомный метод в анимации.
Молодые советские художники с самого начала увидели большие возможности искусства рисованного фильма. Уже в первых своих работах они постарались придать молодому искусству действенность и целеустремленность. В противовес рекламным и развлекательным мультипликационным пустячкам, которые делались в русской кинематографии до Великой Октябрьской социалистической революции, советские художники-мультипликаторы выпустили свой первый мультипликационный фильм «Китай в огне» — политический памфлет, направленный против закабаления китайского народа мировым империализмом. – Иван Петрович Иванов-Вано
Мультфильм становится дебютной работой для будущих классиков мультипликации - Ивана Иванова-Вано, сестёр Брумберг, Ольги Ходатаевой, Владимира Сутеева. Свои первые мультфильмы Брумберг, Иванов-Вано, вместе с сокурсниками по ВХУТЕМАСу снимали на энтузиазме, при помощи самодельных станков. Эти работы отличал авангардистский стиль, основанный на школе конструктивизма.
Был снят и огромный по тем временам «Китай в огне» (1000 метров плёнки, что при тогдашней скорости проекции занимало более 50 минут экранного времени) — мировой рекордсмен по продолжительности среди мультфильмов. В работе над фильмом, использующим метод китайской графики, рядом с первопроходцами начали работать вхутемасовцы второго призыва. – Лариса Малюкова, кинокритик
Ссылка на мультфильм тут:
https://youtu.be/hYVDe_ixcA0?si=uuaSN6ahC8ippXqk
Режиссер «Китая в огне» Зенон Петрович Комиссаренко (1900-1981) в 1919 окончил ВХУТЕМАС, где учился у Малевича, Татлина и Кузнецова, в начале 20-х вернулся в Москву из Ташкента и работал художником-плакатистом. В 1924 организовал вместе с Ю. Меркуловым и Н. Ходатаевым при ГТК первую в СССР экспериментальную мастерскую мультипликации. По данным С. С. Гинзбурга, в 1925 на студии «Межрабпом-Русь» разработал и впервые применил «альбомный метод» рисованных фаз движения, тогда же участвовал в первой выставке киноплаката, где показал себя последователем изобразительных принципов А. М. Родченко. В 1928-33 работал на студии «Госвоенкино». В 1934 отошёл от кино, посвятив себя живописи, плакату и карикатуре. Автор фотомонтажного плаката «Из всех искусств, по-моему, самое важное для России – кино (В. И. Ленин). Кино – лицом к деревне. Кино – великий конкурент не только кабака, но и церкви» (совместно с Ю. А. Меркуловым, 1925).
Китайско-русское культурное общение работало всегда в две стороны. Идеологическое сближение СССР и Китайской Народной Республики в 50-ые и 60-ые года двадцатого века повлекло за собой популяризацию советского искусства в Китае. Говоря о влиянии русского искусства на Китай, мы обязаны вспомнить имя Константина Мефодиевича Максимова (1913-1984), создавшего сильнейшую школу китайской масляной живописи – стиль Су – и повлиявшего на китайское агитационное искусство периода Мао и вплоть до нач. 1980-х гг. В начале 50-х годов волна «Учиться у Советского Союза» в Китае коснулась и художественной среды. Ректор Центральной академии изобразительных искусств Цзян Фэн лично попросил президента Ассоциации художников СССР А. С. Герасимова выбрать специалиста, который бы смог возглавить курсы масляной живописи и проконсультировать китайских коллег по вопросам художественного образования. Советская сторона порекомендовала преподавателя Суриковского института Константина Максимова. К.М. Максимов приехал в Китай, когда ему было 42 года. Группа, в которой он преподавал, именовалась «группа Максимова».
Сейчас ее называют «колыбелью ректоров», потому что большинство ее студентов стали деканами и ректорами художественных вузов Китая. Известный художник Диан Фэн в приветственном выступлении на церемонии встречи Максимова произнес: «Приезд Максимова в Китай позволяет нам изучить советскую теорию изобразительного искусства и накопленный веками опыт художественного образования. Мы уверены, что под руководством Максимова поднимем уровень преподавания живописи в Китае и добьемся больших успехов в деле обучения и воспитания нового поколения китайских художников». Профессором и его учениками в Китае было написано много работ.
Они служат не только свидетельством взаимоотношений между художниками двух стран в 1950-х гг. прошлого века, но и представляют собой учебный материал по истории педагогики изобразительного искусства. Константин Мефодьевич Максимов по праву считается основателем современной реалистической китайской школы живописи европейского направления. Многие воспитанники Максимова, такие как Цзинь Шанъи, Чжань Цзяньцзюнь, Хоу Иминь, Фэн Фасы, Хэ Кундэ, в будущем стали известными художниками и добились больших вершин в области масляной живописи. Их имена вошли в историю искусства Китая вместе с множеством созданных ими картин. В Поднебесной Максимова до сих пор называют «русским Рембрандтом».
Владимир Маяковский
Прочь руки от Китая!
Война,
империализма дочь,
призраком
над миром витает.
Рычи, рабочий:
— Прочь
руки от Китая! —
Эй, Макдональд,
не морочь,
в лигах
речами тая.
Назад, дредноуты!
— Прочь
руки от Китая! —
В посольском квартале,
цари точь-в-точь,
расселись,
интригу сплетая.
Сметем паутину.
— Прочь
руки от Китая! —
Ку̀ли,
чем их кули́ волочь,
рикшами
их катая —
спину выпрями!
— Прочь
руки от Китая! —
Колонией
вас
хотят истолочь.
400 миллионов —
не стая.
Громче, китайцы:
— Прочь
руки от Китая! —
Пора
эту сво̀лочь своло́чь,
со стен
Китая
кидая.
— Пираты мира,
прочь
руки от Китая! —
Мы
всем рабам
рады помочь,
сражаясь,
уча
и питая.
Мы с вами, китайцы!
— Прочь
руки от Китая! —
Рабочий,
разбойничью ночь
громи,
ракетой кидая
горящий лозунг:
— Прочь
руки от Китая!
1924 г.
Мария Мальцева-Самойлович.
Для лозунгов из Москвы, расстояния не существует, как не существовало сферы искусства, которая бы в то время не служила агитационным целям нового государства. Братский союз Дракона и Медведя придуман не вчера и не в противовес окружающим обезьянам. И усиление работы по освещению этого союза происходит в определенные исторические моменты, как происходит в данный момент, как это происходило во время и после революции 1917 года.
Медленно отступающая армия Колчака, через Сибирь и Дальний Восток шла в Харбин и Тяньцзин, Пекин и Шанхай, ведя за собой русскую эмиграцию. Независимая Дальневосточная республика (ДВР) ненадолго стала ковчегом для творческой интеллигенции, бежавшей на Восток. Ее продвижение оказало мощное воздействие на литературную и художественную жизнь Сибири и Дальнего Востока, ставшими территорией активного культурного трансфера. Несмотря на то, что во время существования ДВР не было четкой границы между «красными» и «белыми» деятелями культуры, писатели, журналисты оставшиеся или вернувшиеся на родину вынуждены были скрывать свои публикации в «контрреволюционной» дальневосточной печати.
Качественно новая культура на Дальнем востоке испытала влияние авангарда и модерна, соединила в себе трагизм нового времени и эмиграции, гражданской войны и восточный колорит. Известное путешествие Давида Бурлюка и Владимира Гольцшмидта по Транссибирской магистрали, работа футуристов Сергея Третьякова и Николая Асеева в газетах и журналах Владивостока, прибытие профессиональных литераторов и журналистов из столиц и европейской части России привели к появлению на Дальнем Востоке новой культуры. Как естественное продолжение этого движения на Восток, появляется некое пространство культурного взаимодействия между СССР и Китаем, которое достигает своего пика в 1924-27 годах.
Именно это время было в Китае периодом активного подъёма национально — освободительного движения, перед началом Гражданской войны. В мае 1924 года устанавливаются дипломатические отношения между СССР и Китаем. В сентябре 1924 года в Советском Союзе проходит широкая кампания по поддержке китайского народа, лозунг которой известен до сих пор - «Руки прочь от Китая!». В советском информационном и культурном пространстве стали появляться произведения, посвященные Поднебесной. Публиковались стихи о Китае В. Маяковского, А. Жарова, И. Уткина, Демьяна Бедного, Н. Асеева, очерки Сергея Третьякова, Зинаиды Рихтер, Николая Костарева, Оскара Эрдберга, и др., рассказ Н. Тихонова о Сунь Ятсене, поэма Сакена Сейфуллина, книга Веры Юреневой "Мои записки о китайском театре"; был поставлен первый советский балет "Красный мак" Р. Глиэра, появился первый полнометражный мультфильм "Китай в огне", документальные кинофильмы "Великий перелет" и "Шанхайский дневник". Газеты почти ежедневно помещали карикатуры художников Моора, Б. Ефимова, Дени на врагов Китая, столичные зрители восторженно встречали подвиг китайца Син Би-у - главного героя пьесы "Бронепоезд 14 - 69".
Поэт Сергей Третьяков, знакомый нам по «ЛЕФу», в 1921 году, вернувшись из Китая в Москву, делает доклад в ИЗО коллегии Наркомпроса о китайских впечатлениях. Появилась задумка сюжета пьесы "Голубой экспресс". Действие должно было происходить в Китае и разворачиваться вокруг случая с захватом в плен китайцами поезда с европейцами. О пьесе, вспоминал С. Третьяков, "мы много мечтали в 1923 - 24 году с Сергеем Эйзенштейном, тогда режиссером пролеткультовского театра". В 1924 году переезжает в Пекин, где по приглашению преподает русскую литературу студентам русской секции Пекинского университета. Удивительно, учитывая, что столичные творческие союзы, в которых он состоял, мечтали о попрании той самой литературы, на обломках которой можно построить новое своё. Но в то время ориентироваться нужно было уметь быстро. Полтора года в Китае Третьяков посещал местные театры, изучал китайскую литературу. В итоге им были написаны поэма «Рычи, Китай!» и пьеса с одноименным названием, которая по его возвращении была поставлена в театре имени Мейерхольда.
Спектакль шел с аншлагом, пьеса была переведена на иностранные языки, в том числе английский, китайский и японский. Имея в виду первую постановку этой пьесы в Германии во Франкфурте-на-Майне в 1929 году, Фридрих Вольф отмечал "удивительно сильное впечатление", и считал, что наряду с другими произведениями советских драматургов "Рычи, Китай!" оказал "мощное влияние на развитие революционного театра Запада". Последнее представление ее в Китае состоялось в день образования КНР - 1 октября 1949 года. На протяжении многих лет пьеса советского писателя помогала китайскому народу в его борьбе против поработителей, была одним тем боевым культурным орудием, в котором, по словам Лу Синя, в ту пору так нуждался Китай. Сергей Третьяков понимал в пропаганде, поэтому хорошо осознавал важность работы с детско-подростковой аудиторией. Преимущественно эти произведения о Китае - «литература факта» и публицистические очерки. В 1927 году в Госиздате выходит агитационная поэма «Ли-Ян упрям». В том же году в журнале «Пионер» очерк «Пять китаев» - повесть, написанная по беседам автора со студентом Пекинского университета, «Детство Дэн Ши-хуа» (1928). В газете «Пионерская правда» выходит «Пекин (фрагмент книги очерков о современном Китае «Чжунго»)» (1928), статья «Как писать очерк» (1929), главы из повести под названием «Маленький Дэн (из биографии китайского студента) (1928).
Рикша.
У американцев толстая подошва.
Толстая подошва -
Ничего хорошего.
Если рикше подошвой в бок -
В горле клубок.
Американский сапог -
Слоновые бивни.
Жара - 50.
Плата - гривенник.
Скучно возить.
Трудно возить.
Сто фунтов пота спрятал в грязи.
Сто фунтов в банке у седока.
У рикши от бега болят бока.
Рикша молчит - хочет кушать.
Рикша слушает - у рикши уши.
Рикша тысяч народу свез
До ста.
Еще пару ног бы да хвост
Да ржать
Да кушать овес
А сдохнешь - под мост.
Просто.
Семьдесят тысяч в Пекине рикшей.
Грудью свистят к рыси привыкши.
Но -
Если голод...
Но если злоба.
Под горлом молот.
Рыгнет утроба.
Будет день их.
Рикша за поездку не спросит денег.
Крикнет рикша.
Рикша озлоблен.
Рикша на воздух кинет оглобли.
Чтоб крепче о камень хряснул затылок.
Чтоб кровь не застыла, кровь не застыла.
А если застонет -
Садану по зубью:
Лошадиным копытом своим добью.
Из поэмы «Рычи, Китай» Сергея Третьякова
5 сентября 1924 г. на совместном заседании президиума ВЦСПС и центральных комитетов профсоюзов было создано общество «Руки прочь от Китая». В 1925-м, по заказу общества при участии китайских студентов Коммунистического университета народов Востока и учёных-китаистов, коллектив Зенона Комиссаренко создает мультипликационный полнометражный фильм «Китай в огне». Эстетическую палитру фильма, посвященного истории страны и революционным событиям 20-х годов составили традиции китайской графики, бытового рисунка и советского плаката. В работе впервые применен альбомный метод в анимации.
Молодые советские художники с самого начала увидели большие возможности искусства рисованного фильма. Уже в первых своих работах они постарались придать молодому искусству действенность и целеустремленность. В противовес рекламным и развлекательным мультипликационным пустячкам, которые делались в русской кинематографии до Великой Октябрьской социалистической революции, советские художники-мультипликаторы выпустили свой первый мультипликационный фильм «Китай в огне» — политический памфлет, направленный против закабаления китайского народа мировым империализмом. – Иван Петрович Иванов-Вано
Мультфильм становится дебютной работой для будущих классиков мультипликации - Ивана Иванова-Вано, сестёр Брумберг, Ольги Ходатаевой, Владимира Сутеева. Свои первые мультфильмы Брумберг, Иванов-Вано, вместе с сокурсниками по ВХУТЕМАСу снимали на энтузиазме, при помощи самодельных станков. Эти работы отличал авангардистский стиль, основанный на школе конструктивизма.
Был снят и огромный по тем временам «Китай в огне» (1000 метров плёнки, что при тогдашней скорости проекции занимало более 50 минут экранного времени) — мировой рекордсмен по продолжительности среди мультфильмов. В работе над фильмом, использующим метод китайской графики, рядом с первопроходцами начали работать вхутемасовцы второго призыва. – Лариса Малюкова, кинокритик
Ссылка на мультфильм тут:
https://youtu.be/hYVDe_ixcA0?si=uuaSN6ahC8ippXqk
Режиссер «Китая в огне» Зенон Петрович Комиссаренко (1900-1981) в 1919 окончил ВХУТЕМАС, где учился у Малевича, Татлина и Кузнецова, в начале 20-х вернулся в Москву из Ташкента и работал художником-плакатистом. В 1924 организовал вместе с Ю. Меркуловым и Н. Ходатаевым при ГТК первую в СССР экспериментальную мастерскую мультипликации. По данным С. С. Гинзбурга, в 1925 на студии «Межрабпом-Русь» разработал и впервые применил «альбомный метод» рисованных фаз движения, тогда же участвовал в первой выставке киноплаката, где показал себя последователем изобразительных принципов А. М. Родченко. В 1928-33 работал на студии «Госвоенкино». В 1934 отошёл от кино, посвятив себя живописи, плакату и карикатуре. Автор фотомонтажного плаката «Из всех искусств, по-моему, самое важное для России – кино (В. И. Ленин). Кино – лицом к деревне. Кино – великий конкурент не только кабака, но и церкви» (совместно с Ю. А. Меркуловым, 1925).
Китайско-русское культурное общение работало всегда в две стороны. Идеологическое сближение СССР и Китайской Народной Республики в 50-ые и 60-ые года двадцатого века повлекло за собой популяризацию советского искусства в Китае. Говоря о влиянии русского искусства на Китай, мы обязаны вспомнить имя Константина Мефодиевича Максимова (1913-1984), создавшего сильнейшую школу китайской масляной живописи – стиль Су – и повлиявшего на китайское агитационное искусство периода Мао и вплоть до нач. 1980-х гг. В начале 50-х годов волна «Учиться у Советского Союза» в Китае коснулась и художественной среды. Ректор Центральной академии изобразительных искусств Цзян Фэн лично попросил президента Ассоциации художников СССР А. С. Герасимова выбрать специалиста, который бы смог возглавить курсы масляной живописи и проконсультировать китайских коллег по вопросам художественного образования. Советская сторона порекомендовала преподавателя Суриковского института Константина Максимова. К.М. Максимов приехал в Китай, когда ему было 42 года. Группа, в которой он преподавал, именовалась «группа Максимова».
Сейчас ее называют «колыбелью ректоров», потому что большинство ее студентов стали деканами и ректорами художественных вузов Китая. Известный художник Диан Фэн в приветственном выступлении на церемонии встречи Максимова произнес: «Приезд Максимова в Китай позволяет нам изучить советскую теорию изобразительного искусства и накопленный веками опыт художественного образования. Мы уверены, что под руководством Максимова поднимем уровень преподавания живописи в Китае и добьемся больших успехов в деле обучения и воспитания нового поколения китайских художников». Профессором и его учениками в Китае было написано много работ.
Они служат не только свидетельством взаимоотношений между художниками двух стран в 1950-х гг. прошлого века, но и представляют собой учебный материал по истории педагогики изобразительного искусства. Константин Мефодьевич Максимов по праву считается основателем современной реалистической китайской школы живописи европейского направления. Многие воспитанники Максимова, такие как Цзинь Шанъи, Чжань Цзяньцзюнь, Хоу Иминь, Фэн Фасы, Хэ Кундэ, в будущем стали известными художниками и добились больших вершин в области масляной живописи. Их имена вошли в историю искусства Китая вместе с множеством созданных ими картин. В Поднебесной Максимова до сих пор называют «русским Рембрандтом».
Владимир Маяковский
Прочь руки от Китая!
Война,
империализма дочь,
призраком
над миром витает.
Рычи, рабочий:
— Прочь
руки от Китая! —
Эй, Макдональд,
не морочь,
в лигах
речами тая.
Назад, дредноуты!
— Прочь
руки от Китая! —
В посольском квартале,
цари точь-в-точь,
расселись,
интригу сплетая.
Сметем паутину.
— Прочь
руки от Китая! —
Ку̀ли,
чем их кули́ волочь,
рикшами
их катая —
спину выпрями!
— Прочь
руки от Китая! —
Колонией
вас
хотят истолочь.
400 миллионов —
не стая.
Громче, китайцы:
— Прочь
руки от Китая! —
Пора
эту сво̀лочь своло́чь,
со стен
Китая
кидая.
— Пираты мира,
прочь
руки от Китая! —
Мы
всем рабам
рады помочь,
сражаясь,
уча
и питая.
Мы с вами, китайцы!
— Прочь
руки от Китая! —
Рабочий,
разбойничью ночь
громи,
ракетой кидая
горящий лозунг:
— Прочь
руки от Китая!
1924 г.
Мария Мальцева-Самойлович.
Названная в честь Фингер
Вероятно, не было среди художников русского авангарда другого человека с таким же непростым происхождением, как Вера Михайловна Ермолаева.
Ермолаева — это по отцу: отец — председатель земской управы в Петровском уезде Саратовской губернии; дед — участник войны 1812 года, род ведет историю от татарских помещиков на службе у первых Романовых.
По матери же — Унгерн-Унковская. И Унгерны, и Унковские — еще более древние дворянские роды; но если знаменитый по книгам Юзефовича и Пелевина барон Унгерн приходился художнице родственником все-таки довольно дальним, то председатель Санкт-Петербургской городской думы в 1908-1911 гг. Сергей Владимирович Унковский — судя по всему, ее родной дядя.
Что до отца, то Михаил Сергеевич Ермолаев политикой тоже интересовался, но официальной должностью не ограничивался. Покровительствовал народовольцам и дружил с сестрами Фигнер. Более того — дочку назвал, как раз, в честь старшей. С 1897 по 1901 издавал журнал «Жизнь — знаменитый, хоть и недолго просуществовавший легальный орган русского марксизма; тут печатались Ленин, Горький, Чехов, Бунин, да кто только ни печатался.
Вера родилась в 1893 году, через десять лет после своего старшего брата Константина Михайловича. Нам сегодня имя Константина Ермолаева ничего не говорит, но в сочинениях Ленина он не раз упоминается как товарищ Роман — впрочем, упоминается исключительно в полемическом контексте, потому что Константин «Роман» Ермолаев — один из лидеров меньшевиков, соратник Мартова и Бронштейна-Гарви. На Лондонском съезде 1907 года Ермолаев был избран кандидатом в ЦК РСДРП от меньшевиков, в 1912 г. был сослан царским правительством в Иркутск, а после Февраля вернулся в Петроград и был избран в состав ЦИК Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.
Одним словом, ясно, что Вера Михайловна росла в крайне наэлектризованной и политизированной атмосфере.
Ребенком она упала с лошади и сломала не то ногу, не то позвоночник, долго ходила с костылями, лечилась в Европе, куда в 1901 году от греха подальше уехала семья. После революции 1905 года семья вернулась в Петербург, где Вера поступила в гимназию кн. Оболенской, которую окончила в 1910-ом. Ну да, мир тесен: ту же гимназию двадцатью годами раньше окончила Надежда Константиновна Крупская, Вера училась здесь одновременно с дочками Столыпина, а в тот же год, когда Ермолаева гимназию окончила, в нее поступила Вера Слоним, которая еще через пятнадцать лет выйдет замуж за одного там молодого писателя и станет Верой Набоковой.
Что же до отца писателя, Владимира Дмитриевича Набокова, то 12 марта 1917 года в Михайловском театре он председательствует на митинге деятелей искусств, где присутствуют 1400 человек, выступают Горький, Маяковский, Мейерхольд, Зданевич, Пунин — разражается страшный скандал, левые художники выступают категорически против создания чего-то вроде министерства искусства в новом государстве и требуют созыва учредительного собрания деятелей искусств. Именно в противовес организованному Временным правительством Особому совещанию по делам искусств 21 марта содается федерация «Свобода искусству», при котором еще через несколько дней возникают сразу два художественных общества — «На революцию» и «Искусство.Революция» — причем Вера Ермолаева входит в состав бюро обеих обществ. (Кто там еще? Ну помимо упомянутых Маяковского и Мейерхольда — Шкловский, Брик, Татлин, Кузмин, много еще кто.)
К тому моменту 24-летняя Ермолаева успела поучиться в студии Берштейна и около года провести в Париже, где насмотрелась на всю самую современную живопись, она начинающий художник, есть интереснейшие ее масло и графика того времени, но не менее важно то, что она выросла в атмосфере политических споров, общественной деятельности — и в башне из слоновой кости она запираться явно не собирается.
«На революцию», «Искусство.Революция», воззвания, митинги, флаги и плакаты, рабочие демонстрации — потом, через пару месяцев, СДИ, Союз деятелей искусств, в который Ермолаева тоже входит. Никакого самоуправления художников не получилось, но годы были веселые. В голодном Петрограде 1918-го Ермолаева входит в артель «Сегодня», которая издает книги, в том числе с ее иллюстрациями: «Пионеры» Уолта Уитмена «Мышата» и «Сегодня» Натана Венгерова (будущего редактора «Ежа» и «Мурзилки»), проводит выставки и нечто вроде домашних спектаклей, которые называются «живыми журналами». В апреле 1919-ого по направлению отдела ИЗО Наркомпроса Ермолаева едет в Витебск, в только что организованную Шагалом школу преподавателем.
В ноябре в Витебск приедет Малевич, и для Ермолаевой начнется новая эпоха. Она работает над эскизами декораций и костюмов для постановки «Победы над Солнцем», преподает, учится и активно участвует в общественной жизни. Сначала в составе ПОСНОВИСа — «Последователей нового искусства», а потом УНОВИСа — «Утвердителей нового искусства».
В мастерской Ермолаевой изучают сезаннизм, кубизм и кубофутуризм; предполагается, что это необходимый шаг на пути к супрематизму. Малевич и Ермолаева явно находят общий язык; при этом, в отличие от того же Лисицкого, не говоря уж о Шагале, Ермолаева не пытается ни оспорить авторитет Малевича, ни строить свою собственную независимую школу.
Летом 1919-го к сестре приехал брат-меньшевик, уже больной тифом. Заболеть он успел то ли на территориях, занятых Колчаком, откуда чудом умудрился бежать, то ли уже в Петрограде, откуда приехал в Витебск отъедаться, — но так или иначе он не прожил и нескольких месяцев и умер на руках у сестры.
Весной 1920-го витебская школа будет преобразована в Витебские ГСХМ, и когда в июне Шагал уедет из Витебска, руководитель Отдела ИЗО Наркомпроса Штеренберг назначит Ермолаеву уполномоченной ГСХМ вместо Шагала. Помимо этого она избрана в ЦК УНОВИС — мы уже упоминали, что УНОВИС мыслил себя именно партией художников, на манер РСДРП, и да, «т. Ермолаева» тоже читает доклады, участвует в заседаниях, голосует за резолюции и вот это вот все.
Надо думать, Ермолаева проявила себя как хороший организатор и деятельный общественник. И дело не только в верности Малевичу или его личной симпатии к ней. Малевича уже не было в Витебске летом 1921-го, когда ВГСХМ были преобразованы в Витебский Художественно-практический институт и переподчинены местному Губпрофобру (что-то вроде РОНО) — но все-таки Ермолаева была назначена ректором нового вуза.
А что же Малевич? Малевич в Петрограде, и в августе 1922-го Ермолаева едет вслед за ним, как и многие другие его ученики. Причем если хоть что-то из коллекции музея витебской школы вообще оказалось спасено, то обязаны мы этим именно ей — перед отъездом Ермолаева написала запрос в Музей художественной культуры, и Петроградское управление научных и художественных учреждений дало ей полномочия на перевозку картин в Петроград.
В 1923 году Музей художественной культуры преобразуется в Государственный институт художественной культуры, ГИНХУК, Малевич становится его директором, а Ермолаева — руководителем лаборатории цвета.
В ГИНХУКе собрались едва ли не все ученики Малевича, большинство из них значительно младше Ермолаевой и именно что сформировались как художники под влиянием Учителя. Саму Ермолаеву даже с трудом можно назвать супрематисткой. Есть одна ее знаменитая супрематическая работа «Супрематический дизайн фасада здания» 1920 года (продана в 2018-ом на «Сотбис» за $351 тыс.), есть еще несколько супрематических эскизов и набросков, но куда больше — фигуративной графики и живописи.
Что ж, возможно для Малевича были ценны среди прочего как раз ее организаторские способности; вот она на знаменитой фотографии еще из Витебска, прямо рядом с Малевичем, среди других учеников — сразу понятно, кто тут готов сбежать пить пиво, а кто вот сейчас построит детишек и поведет их на обед.
После закрытия ГИНХУКА Ермолаева легко возвращается к фигуративной графике, к обычной работе художника, к книжным иллюстрациям, в основном, разумеется, детской книге. Кроме басен Крылова и собственных книжек-картинок («Собачки», «Кот Памфил»), она оформляет книги Хармса («Иван Иваныч Самовар»), Введенского («Много зверей», «Рыбаки»), Заболоцкого («Восток в огне»), а еще Асеева, Шварца и многих других. Рисует для журналов «Чиж» и «Еж». В 1933-ем ее старый знакомый Натан Венгров при содействии Горького организует Государственное издательство детской литературы, знаменитый Детгиз, и Ермолаева переходит на работу в него.
От Малевича Ермолаева отошла, однако привычка что-нибудь организовывать — штука посильнее «Фауста» Гете: в 1929-ом она основывает Группу живописно-пластического реализма. Группа — Стерлигов, Юдин, Суетин, Казанская, Лепорская, Коган и др. — собирается у нее дома, устраивает выставки и обсуждения.
Что произошло потом — по большому счету, не вполне понятно до сих пор.
Совершенно точно одно: 1 декабря 1934-го безработный член ВКП(б) Леонид Николаев в коридоре Смольного застрелил Кирова. Все остальное — все еще территория мифов, догадок и идеологических спекуляций.
Вопреки распространенному мифу, Николаев, вероятнее всего, действовал один, без всякой организации, просто как фанатик-одиночка. Но страна была перегрета и уже готова к новому витку гражданской войны. Громкое политическое убийство сорвало ее с петель. Заработали механизмы борьбы за власть и противостояния группировок.
Похоже, что кружок Ермолаевой пал жертвой этой борьбы и этого противостояния. 25 декабря была арестована и сама Ермолаева, и ее ученица Мария Казанская, и соратница по УНОВИСу Нина Коган, и художники Владимир Стерлигов, Лев Гальперин и Константин Рождественский.
Что там произошло? Правда ли, что советская власть тупо ненавидела всех художников авангарда и старалась от них избавиться? Но почему тогда были отпущены и Казанская, и Коган? Почему Стерлигов провел в лагере полтора года и был отпущен, а Ермолаева — расстреляна в том же лагере в 1937 году? Дворянское происхождение? Но ее друг и еще один ученик Малевича Суетин оставался художественным руководителем ЛФЗ до самой смерти в 1954-ом, хотя тоже был дворянин. Вопросов тут куда больше, чем ответов.
Думается, в обстановке 1934 года особенное значение могло иметь то, что ее брат был не кто-нибудь, а тот самый товарищ «Роман», соратник Мартова и Бронштейна, от которых один шаг до Троцкого и еще пол-шага — до Каменева с Зиновьевым. Но и это, в общем, не более чем догадка.
Увы, до тех пор, пока архивные документы по этому делу не изучены, мы так толком и не узнаем, что именно произошло.
Вера Фигнер, в честь которой председатель земской управы Ермолаев когда-то назвал дочь, умрет в Москве в 1942 году от пневмонии в возрасте 89 лет.
Вадим Левенталь.
Ермолаева — это по отцу: отец — председатель земской управы в Петровском уезде Саратовской губернии; дед — участник войны 1812 года, род ведет историю от татарских помещиков на службе у первых Романовых.
По матери же — Унгерн-Унковская. И Унгерны, и Унковские — еще более древние дворянские роды; но если знаменитый по книгам Юзефовича и Пелевина барон Унгерн приходился художнице родственником все-таки довольно дальним, то председатель Санкт-Петербургской городской думы в 1908-1911 гг. Сергей Владимирович Унковский — судя по всему, ее родной дядя.
Что до отца, то Михаил Сергеевич Ермолаев политикой тоже интересовался, но официальной должностью не ограничивался. Покровительствовал народовольцам и дружил с сестрами Фигнер. Более того — дочку назвал, как раз, в честь старшей. С 1897 по 1901 издавал журнал «Жизнь — знаменитый, хоть и недолго просуществовавший легальный орган русского марксизма; тут печатались Ленин, Горький, Чехов, Бунин, да кто только ни печатался.
Вера родилась в 1893 году, через десять лет после своего старшего брата Константина Михайловича. Нам сегодня имя Константина Ермолаева ничего не говорит, но в сочинениях Ленина он не раз упоминается как товарищ Роман — впрочем, упоминается исключительно в полемическом контексте, потому что Константин «Роман» Ермолаев — один из лидеров меньшевиков, соратник Мартова и Бронштейна-Гарви. На Лондонском съезде 1907 года Ермолаев был избран кандидатом в ЦК РСДРП от меньшевиков, в 1912 г. был сослан царским правительством в Иркутск, а после Февраля вернулся в Петроград и был избран в состав ЦИК Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.
Одним словом, ясно, что Вера Михайловна росла в крайне наэлектризованной и политизированной атмосфере.
Ребенком она упала с лошади и сломала не то ногу, не то позвоночник, долго ходила с костылями, лечилась в Европе, куда в 1901 году от греха подальше уехала семья. После революции 1905 года семья вернулась в Петербург, где Вера поступила в гимназию кн. Оболенской, которую окончила в 1910-ом. Ну да, мир тесен: ту же гимназию двадцатью годами раньше окончила Надежда Константиновна Крупская, Вера училась здесь одновременно с дочками Столыпина, а в тот же год, когда Ермолаева гимназию окончила, в нее поступила Вера Слоним, которая еще через пятнадцать лет выйдет замуж за одного там молодого писателя и станет Верой Набоковой.
Что же до отца писателя, Владимира Дмитриевича Набокова, то 12 марта 1917 года в Михайловском театре он председательствует на митинге деятелей искусств, где присутствуют 1400 человек, выступают Горький, Маяковский, Мейерхольд, Зданевич, Пунин — разражается страшный скандал, левые художники выступают категорически против создания чего-то вроде министерства искусства в новом государстве и требуют созыва учредительного собрания деятелей искусств. Именно в противовес организованному Временным правительством Особому совещанию по делам искусств 21 марта содается федерация «Свобода искусству», при котором еще через несколько дней возникают сразу два художественных общества — «На революцию» и «Искусство.Революция» — причем Вера Ермолаева входит в состав бюро обеих обществ. (Кто там еще? Ну помимо упомянутых Маяковского и Мейерхольда — Шкловский, Брик, Татлин, Кузмин, много еще кто.)
К тому моменту 24-летняя Ермолаева успела поучиться в студии Берштейна и около года провести в Париже, где насмотрелась на всю самую современную живопись, она начинающий художник, есть интереснейшие ее масло и графика того времени, но не менее важно то, что она выросла в атмосфере политических споров, общественной деятельности — и в башне из слоновой кости она запираться явно не собирается.
«На революцию», «Искусство.Революция», воззвания, митинги, флаги и плакаты, рабочие демонстрации — потом, через пару месяцев, СДИ, Союз деятелей искусств, в который Ермолаева тоже входит. Никакого самоуправления художников не получилось, но годы были веселые. В голодном Петрограде 1918-го Ермолаева входит в артель «Сегодня», которая издает книги, в том числе с ее иллюстрациями: «Пионеры» Уолта Уитмена «Мышата» и «Сегодня» Натана Венгерова (будущего редактора «Ежа» и «Мурзилки»), проводит выставки и нечто вроде домашних спектаклей, которые называются «живыми журналами». В апреле 1919-ого по направлению отдела ИЗО Наркомпроса Ермолаева едет в Витебск, в только что организованную Шагалом школу преподавателем.
В ноябре в Витебск приедет Малевич, и для Ермолаевой начнется новая эпоха. Она работает над эскизами декораций и костюмов для постановки «Победы над Солнцем», преподает, учится и активно участвует в общественной жизни. Сначала в составе ПОСНОВИСа — «Последователей нового искусства», а потом УНОВИСа — «Утвердителей нового искусства».
В мастерской Ермолаевой изучают сезаннизм, кубизм и кубофутуризм; предполагается, что это необходимый шаг на пути к супрематизму. Малевич и Ермолаева явно находят общий язык; при этом, в отличие от того же Лисицкого, не говоря уж о Шагале, Ермолаева не пытается ни оспорить авторитет Малевича, ни строить свою собственную независимую школу.
Летом 1919-го к сестре приехал брат-меньшевик, уже больной тифом. Заболеть он успел то ли на территориях, занятых Колчаком, откуда чудом умудрился бежать, то ли уже в Петрограде, откуда приехал в Витебск отъедаться, — но так или иначе он не прожил и нескольких месяцев и умер на руках у сестры.
Весной 1920-го витебская школа будет преобразована в Витебские ГСХМ, и когда в июне Шагал уедет из Витебска, руководитель Отдела ИЗО Наркомпроса Штеренберг назначит Ермолаеву уполномоченной ГСХМ вместо Шагала. Помимо этого она избрана в ЦК УНОВИС — мы уже упоминали, что УНОВИС мыслил себя именно партией художников, на манер РСДРП, и да, «т. Ермолаева» тоже читает доклады, участвует в заседаниях, голосует за резолюции и вот это вот все.
Надо думать, Ермолаева проявила себя как хороший организатор и деятельный общественник. И дело не только в верности Малевичу или его личной симпатии к ней. Малевича уже не было в Витебске летом 1921-го, когда ВГСХМ были преобразованы в Витебский Художественно-практический институт и переподчинены местному Губпрофобру (что-то вроде РОНО) — но все-таки Ермолаева была назначена ректором нового вуза.
А что же Малевич? Малевич в Петрограде, и в августе 1922-го Ермолаева едет вслед за ним, как и многие другие его ученики. Причем если хоть что-то из коллекции музея витебской школы вообще оказалось спасено, то обязаны мы этим именно ей — перед отъездом Ермолаева написала запрос в Музей художественной культуры, и Петроградское управление научных и художественных учреждений дало ей полномочия на перевозку картин в Петроград.
В 1923 году Музей художественной культуры преобразуется в Государственный институт художественной культуры, ГИНХУК, Малевич становится его директором, а Ермолаева — руководителем лаборатории цвета.
В ГИНХУКе собрались едва ли не все ученики Малевича, большинство из них значительно младше Ермолаевой и именно что сформировались как художники под влиянием Учителя. Саму Ермолаеву даже с трудом можно назвать супрематисткой. Есть одна ее знаменитая супрематическая работа «Супрематический дизайн фасада здания» 1920 года (продана в 2018-ом на «Сотбис» за $351 тыс.), есть еще несколько супрематических эскизов и набросков, но куда больше — фигуративной графики и живописи.
Что ж, возможно для Малевича были ценны среди прочего как раз ее организаторские способности; вот она на знаменитой фотографии еще из Витебска, прямо рядом с Малевичем, среди других учеников — сразу понятно, кто тут готов сбежать пить пиво, а кто вот сейчас построит детишек и поведет их на обед.
После закрытия ГИНХУКА Ермолаева легко возвращается к фигуративной графике, к обычной работе художника, к книжным иллюстрациям, в основном, разумеется, детской книге. Кроме басен Крылова и собственных книжек-картинок («Собачки», «Кот Памфил»), она оформляет книги Хармса («Иван Иваныч Самовар»), Введенского («Много зверей», «Рыбаки»), Заболоцкого («Восток в огне»), а еще Асеева, Шварца и многих других. Рисует для журналов «Чиж» и «Еж». В 1933-ем ее старый знакомый Натан Венгров при содействии Горького организует Государственное издательство детской литературы, знаменитый Детгиз, и Ермолаева переходит на работу в него.
От Малевича Ермолаева отошла, однако привычка что-нибудь организовывать — штука посильнее «Фауста» Гете: в 1929-ом она основывает Группу живописно-пластического реализма. Группа — Стерлигов, Юдин, Суетин, Казанская, Лепорская, Коган и др. — собирается у нее дома, устраивает выставки и обсуждения.
Что произошло потом — по большому счету, не вполне понятно до сих пор.
Совершенно точно одно: 1 декабря 1934-го безработный член ВКП(б) Леонид Николаев в коридоре Смольного застрелил Кирова. Все остальное — все еще территория мифов, догадок и идеологических спекуляций.
Вопреки распространенному мифу, Николаев, вероятнее всего, действовал один, без всякой организации, просто как фанатик-одиночка. Но страна была перегрета и уже готова к новому витку гражданской войны. Громкое политическое убийство сорвало ее с петель. Заработали механизмы борьбы за власть и противостояния группировок.
Похоже, что кружок Ермолаевой пал жертвой этой борьбы и этого противостояния. 25 декабря была арестована и сама Ермолаева, и ее ученица Мария Казанская, и соратница по УНОВИСу Нина Коган, и художники Владимир Стерлигов, Лев Гальперин и Константин Рождественский.
Что там произошло? Правда ли, что советская власть тупо ненавидела всех художников авангарда и старалась от них избавиться? Но почему тогда были отпущены и Казанская, и Коган? Почему Стерлигов провел в лагере полтора года и был отпущен, а Ермолаева — расстреляна в том же лагере в 1937 году? Дворянское происхождение? Но ее друг и еще один ученик Малевича Суетин оставался художественным руководителем ЛФЗ до самой смерти в 1954-ом, хотя тоже был дворянин. Вопросов тут куда больше, чем ответов.
Думается, в обстановке 1934 года особенное значение могло иметь то, что ее брат был не кто-нибудь, а тот самый товарищ «Роман», соратник Мартова и Бронштейна, от которых один шаг до Троцкого и еще пол-шага — до Каменева с Зиновьевым. Но и это, в общем, не более чем догадка.
Увы, до тех пор, пока архивные документы по этому делу не изучены, мы так толком и не узнаем, что именно произошло.
Вера Фигнер, в честь которой председатель земской управы Ермолаев когда-то назвал дочь, умрет в Москве в 1942 году от пневмонии в возрасте 89 лет.
Вадим Левенталь.
Знать врага в лицо
Во всё время съёмок «Семнадцати мгновений весны» Татьяна Лиознова ощущала за своей спиной мистическое незримое присутствие, она так потом об этом и говорила: «Незримо, всё время пока снимали, пока переворачивали горы архивной хроники и документов, за мной стоял простой и честный русский солдат. Соврать я не могла, мы все не могли соврать. Мы должны были показать нашего врага таким, каков он был — не в шутовском колпаке, не с окровавленными клыками. Наш враг был холодным и расчётливым убийцей, злобным чудовищем лишённым сострадания и человеческой морали. Опаснейший враг. И хоть сколько-нибудь умалить его и источаемую им смертельную опасность, означало предать память русского солдата».
Практически вся съёмочная группа побывала, и не единожды, в военных архивах — читали, смотрели, пропускали через себя. И вспоминали позже, что не просто лишались от увиденного сна, нет — впадали в некое внутреннее неистовство, когда кажется что это из под тебя уходит земля, что это на тебя летят бомбы, что это тебя увечат и пытают в фашистских застенках, что это на твоих глазах сжигают детей.
Лиознова в пропаганду умела. У неё к немцам был личный счёт, её отец погиб в ополчении в самом начале войны, многие родственники не вернулись с фронта, она знала и помнила как это — получать похоронки. В 41-ом ей было семнадцать. Она родилась 20-го июля 1924-го.
Лиознова в пропаганде понимала, как понимал каждый советский, каждый, чьего дома коснулась война, каждый, по чьей земле и судьбе прошёл фашистский сапог. Думаю, она бы их убивала, немцев и прочих — безжалостно, как и завещал Эренбург. Между прицелом оптической винтовки и прицелом кинокамеры не такая уж и большая разница, если то, что снято кинокамерой будет бить точно и в цель.
В 1965-ом на экраны СССР вышел двухсерийный документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Вернее, как вышел — не вышел. Консультант фильма, советский разведчик, коминтерновец, писатель и журналист Эрнст Генри (Семён Ростовский) помог ему выйти. Дело было слишком очевидным — «возможные параллели тоталитаризма» гитлеровской Германии и Советского Союза не просто пугали цензоров, приводили в ужас всякого, кто наделён был властными полномочиями. Фильм «морозили», вроде и да, вроде и нет. Генри пропихнул его всеми правдами и неправдами на Лейпцигский фестиваль в ноябре 65-го, там его увидел и похвалил первый секретарь ЦК СЕПГ ГДР Вальтер Ульбрихт, это и дало фильму возможность вернуться в СССР условно разрешённым. Немцы помогли. Перекованные восточные немцы. Вот же...
Вы скажете: «Этого не может быть!»
Вы скажете: «Это бред какой-то!»
Никакого бреда. Кроме того, зло в фильме Ромма, с его же закадровым голосом, хоть и ужасно, но в ужасности своей не персонифицировано и даже обезличено, что ли. Как бы это объяснить... Весь ад — в обыденности, в том, что люди творившие величайшие злодеяния в истории человечества, запросто выбирались на пикники, носили фраки, пили шампанское, курили сигары, слушали классическую музыку (определённых композиторов), воспитывали собственных детей, любили собственных жён и вообще — как бы дико это не звучало — в определённые моменты времени производили впечатление самых обычных представителей человечества, пусть и облечённых властью.
В этом ад. В том, чтобы показать — вот сейчас он съел пироженку и мило улыбнулся, а в голове его «Генеральный план OST», в голове его доходная часть с набивания матрасов волосами унтерменшей, в голове его «онемечивание территорий с удалением нежелательного коренного населения в малопригодные для выживания районы». Не для проживания — для выживания.
Ромм всё это и показал, но по своему воспринимал миссию развенчания фашизма. Зло иронизировал над Гитлером, касаемо самых простых физиологических проявлений: «Куда же деть фюреру руки? А! Эффектно сложил ниже пояса...» Повторял стоп-кадры, пускал назад плёнку, акцентируя внимание на наиболее нелицеприятных кадрах хроники, ракурсах бонз Рейха. А надо бы было... Годы спустя, когда СССР рухнет и критики всех мастей попытаются уравнять и Сталина с Гитлером и Третий Рейх с СССР, они, те критики, будут тыкать всем и каждому: «Вот же Ромм показал! Вот же шествия! А у нас — демонстрации! Вот же фанатизм! И у нас фанатизм!»
Особенно пеняли в светлые «годы новой постсоветской реальности» Ромму (попутно навешивая на него, что, вот мол — он сам всё и хотел так представить — везде сплошной тоталитаризм) за упоминание в фильме Роберта Лея — рейхсляйтера, обегруппенфюрера СА, руководителя Германского трудового фронта и ближайшего соратника фюрера, счастливо удавившегося в тюрьме у союзников 25-го октября 45-го. Недоглядели тогда союзники. Выдали полотенце. Из него находчивый Лей (химик, докторская степень, диссертация по искусственному каучуку) и изготовил в меру надёжную верёвку. Прямо в тюремной камере. Как говорится, куй железо пока горячо.
Лей не желал «участвовать» в Нюрнбергском процессе над военными преступниками. Лей утверждал что он ничего не знал и кричал что больше не может «испытывать чувство непрерывного стыда». Геринг сказал о нём: «Это хорошо, что он повесился. Он бы всех нас опозорил в суде». Геринг не повесился, Герингу пронесли в камеру яд. Снова не доглядели союзники. М-да...
В фильме «Обыкновенный фашизм», Михаил Ромм произносит простецкую цитату Лея: «В четыре года мы даём ребёнку в руки флажок, и с этой минуты, сам того не ведая он поступает к нам в обработку, которая продолжается до самой его могилы».
И тут... Октябрята, пионеры, как и прочие примеры, угодили в либеральные тиски — вместе с флажками, значками, «когда был Ленин маленький», речёвками, лагерями и прочими кострами.
За такую критику надо бы...
Лиознова всё это наперёд понимала.
«Как это, позвольте, понимала?»
«Она же жила в СССР?»
Вы удивлены? И зря. Это Лиознова была настоящей железной леди, а вовсе не Маргарет Тэтчер, месившая почём зря английских шахтёров. Это Лиознова, снявшая «три тополя на Плющихе», взяла, да и развернула свой «про жизнь простую» ледокол и врубилась в толщу такой темы, что никому другому была не по зубам. Фильмов, героических и серьёзных, о советских разведчиках хватало и до неё. Не было только фильма который бы показал с кем воистину тем героическим разведчикам приходилось сражаться. Лиознова, напомним, перевернувшая горы архивных документов, каким-то шестым-десятым чувством поняла — это всё хроника, она чудовищна, даже мозг отказывается её по временам воспринимать. Только важнее другое — съёмка изнутри логова, где первородное зло расхаживает себе в домашнем халате и ведёт себя «с товарищами по службе» безупречно, и безжалостно «к врагам Рейха».
Русский солдат ждал.
Терпения русскому солдату не занимать.
Быть может, «Семнадцать мгновений весны», самый мощный, самый глубокий по степени сноса головы, самый зубодробительный проект советского антифашистского агитпропа.
«Смотрите, какие они. Видите? Пьют крестьянскую водку. Аристократический коньяк. Милы. Надёжны как скала. Готовы написать за друзей ручательное письмо. В победу свою верят свято, но за закрытыми дверями — уже нет. При том — убивают и пытают до последнего. Мир отравляют миазмами своими до последнего. А потом — на кораблик и в Латинскую Америку. На виселицу — только дураки. А ещё могут убежать в смерть. Ампула за щекой и всё такое».
Мюллер, сыгранный Броневым. Готовый неспешно отрезать по кускам от тела живого врага, или «товарища по партии», при том, в белой рубашке, при том, с полной отстранённостью от какой-либо эмоции, ведь свою работу надо делать хорошо. Палач.
Гиммлер, сыгранный Прокоповичем. Эффективный, собранный, по первому подозрению давящий безжалостным сапогом германского солдата (сотрудника гестапо) своих и чужих — без разбора. Неврастеничный, глубоко внутри. Весь нацеленный выжить любой ценой. Прочее не имеет значения. Палач.
Борман, сыгранный Визбором.
Шелленберг, сыгранный Табаковым.
Если что, в рабочем столе Вальтера Шелленберга, в боковых его тумбах, были установлены встроенные пулемёты. Вальтер Шеллеберг хорошо знал цену человеческому слову и товарищеской взаимовыручке. Вальтер Шелленберг успел написать воспоминания. Он явно «любил свою работу и делал её честно и хорошо».
Мы смотрим серию за серией, мы созерцаем нордического Штирлица, мы зависаем в долгих разговорах и размышлениях, в закадровом, абсолютно магическом голосе Копеляна и постепенно начинаем воспринимать и верхушку Рейха и собирательного «немца» как того самого врага, опаснейшего и коварнейшего, что нанесёт с превеликим удовольствием и удар в спину впереди идущего, и удар в горло спящего рядом.
Инфернальное зло. В улыбающемся и острящем Мюллере, в равновесном и безучастном Бормане, в холодном и неприветливом Кальтенбруннере, в вальяжном и приветливом Шелленберге. Но и ещё того страшнее — в ледяном до исступления и настолько же просчитанном Вольфе, в союзниках. Да, да. В наших дорогих, обожаемых, любимых союзниках. Инфернальное зло, не считающееся с гекатомбами жертв, в облике Аллена Даллеса и его подопечных.
И вот, досмотрев до конца, внимательно выловив разбросанные Лиозновой эпизоды — Мюллера с закатанными рукавами в подвале гестапо, разбитое до неузнаваемости лицо водителя Бормана, Штирлица, оставленного Борманом для размышлений всё в том же подвале гестапо и там же, но чуть позже, перекусывающего бутербродами с бодрым и благорасположенным Мюллером, мы понимаем (а эпизодов там хватает) — это не совсем люди. Это совсем не люди. Это — нелюди.
«Партайгеноссе, один из ваших водителей...»
«Я знаю!»
Расходный, на мыло, материал. Человеки. Таких ещё много есть. Не жалко. Никаких. Своих, тоже не жалко.
Медленное, при том внутренне взвинченное, часами и метрономом, действие. Чёрно-белое великолепие погребального шествия. Эсесовская форма. Вскинутые руки. Отвратительная агония, тело Третьего Рейха пожираемое омерзительнейшей агонией. Что там ноги!.. Давно отрезаны и сгнили — гангрена войны. Что там брюхо!.. Кишки наружу и волочатся по земле от самого Курска. Но, «голова варит» (разговор «страхового агента с Кэтрин Кин), хоть и поражена размягчением мозга. Это удивительное, ни с чем не сравнимое отмирание органов, при полном сохранении функций в очагах полуразложившегося живого мертвеца.
Вот он, фашизм.
Вот его оскал.
Его истинная сущность.
Конечно, раскрашивать такой фильм было совершеннейшим безумием. Никогда не смотрите его в цвете. Он не для того снят, чтобы радовать глаз.
Все эти легенды... Улицы в СССР пустели, преступность падала, влюблённые мирились, вся Страна Советов прилипала к телевизорам, а Брежнев не единожды порывался наградить полковника Исаева, присвоив ему звание Героя Советского Союза. И что? Так не было? Так было. Да. И было ещё и не так.
Эпос. Каждая великая империя достойна своего эпоса. Красная Империя, примеров которой нет в истории, достойна более других — потому как она такая одна. И верный её идеалам Макс Отто фон Штирлиц — полковник Максим Максимович Исаев с карающим мечом в руках — один из наилучших её символов.
Если бы мегатонны производимого ныне мусорного видео-контента были заменены на пару-тройку подобных «Семнадцати мгновеньям весны» сериалов, мы бы увидели сильно другую картину — в оценке обществом наших «заокеанских партнёров и добрых друзей».
Впрочем, фильм Татьяны Лиозновой работает до сих пор и так, сам по себе, из толщи дней. Есть чему поучиться. Есть о чём задуматься.
«Сейчас меня занимает больше всего проблема, как можно при помощи физической химии приостановить процесс оглупления масс. Трудно стало работать. Столько развелось идиотов, говорящих правильные слова...»
Это говорит Штирлиц.
Или, сама Лиознова.
Ах, да!..
Это же всё советская пропаганда...
Практически вся съёмочная группа побывала, и не единожды, в военных архивах — читали, смотрели, пропускали через себя. И вспоминали позже, что не просто лишались от увиденного сна, нет — впадали в некое внутреннее неистовство, когда кажется что это из под тебя уходит земля, что это на тебя летят бомбы, что это тебя увечат и пытают в фашистских застенках, что это на твоих глазах сжигают детей.
Лиознова в пропаганду умела. У неё к немцам был личный счёт, её отец погиб в ополчении в самом начале войны, многие родственники не вернулись с фронта, она знала и помнила как это — получать похоронки. В 41-ом ей было семнадцать. Она родилась 20-го июля 1924-го.
Лиознова в пропаганде понимала, как понимал каждый советский, каждый, чьего дома коснулась война, каждый, по чьей земле и судьбе прошёл фашистский сапог. Думаю, она бы их убивала, немцев и прочих — безжалостно, как и завещал Эренбург. Между прицелом оптической винтовки и прицелом кинокамеры не такая уж и большая разница, если то, что снято кинокамерой будет бить точно и в цель.
В 1965-ом на экраны СССР вышел двухсерийный документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Вернее, как вышел — не вышел. Консультант фильма, советский разведчик, коминтерновец, писатель и журналист Эрнст Генри (Семён Ростовский) помог ему выйти. Дело было слишком очевидным — «возможные параллели тоталитаризма» гитлеровской Германии и Советского Союза не просто пугали цензоров, приводили в ужас всякого, кто наделён был властными полномочиями. Фильм «морозили», вроде и да, вроде и нет. Генри пропихнул его всеми правдами и неправдами на Лейпцигский фестиваль в ноябре 65-го, там его увидел и похвалил первый секретарь ЦК СЕПГ ГДР Вальтер Ульбрихт, это и дало фильму возможность вернуться в СССР условно разрешённым. Немцы помогли. Перекованные восточные немцы. Вот же...
Вы скажете: «Этого не может быть!»
Вы скажете: «Это бред какой-то!»
Никакого бреда. Кроме того, зло в фильме Ромма, с его же закадровым голосом, хоть и ужасно, но в ужасности своей не персонифицировано и даже обезличено, что ли. Как бы это объяснить... Весь ад — в обыденности, в том, что люди творившие величайшие злодеяния в истории человечества, запросто выбирались на пикники, носили фраки, пили шампанское, курили сигары, слушали классическую музыку (определённых композиторов), воспитывали собственных детей, любили собственных жён и вообще — как бы дико это не звучало — в определённые моменты времени производили впечатление самых обычных представителей человечества, пусть и облечённых властью.
В этом ад. В том, чтобы показать — вот сейчас он съел пироженку и мило улыбнулся, а в голове его «Генеральный план OST», в голове его доходная часть с набивания матрасов волосами унтерменшей, в голове его «онемечивание территорий с удалением нежелательного коренного населения в малопригодные для выживания районы». Не для проживания — для выживания.
Ромм всё это и показал, но по своему воспринимал миссию развенчания фашизма. Зло иронизировал над Гитлером, касаемо самых простых физиологических проявлений: «Куда же деть фюреру руки? А! Эффектно сложил ниже пояса...» Повторял стоп-кадры, пускал назад плёнку, акцентируя внимание на наиболее нелицеприятных кадрах хроники, ракурсах бонз Рейха. А надо бы было... Годы спустя, когда СССР рухнет и критики всех мастей попытаются уравнять и Сталина с Гитлером и Третий Рейх с СССР, они, те критики, будут тыкать всем и каждому: «Вот же Ромм показал! Вот же шествия! А у нас — демонстрации! Вот же фанатизм! И у нас фанатизм!»
Особенно пеняли в светлые «годы новой постсоветской реальности» Ромму (попутно навешивая на него, что, вот мол — он сам всё и хотел так представить — везде сплошной тоталитаризм) за упоминание в фильме Роберта Лея — рейхсляйтера, обегруппенфюрера СА, руководителя Германского трудового фронта и ближайшего соратника фюрера, счастливо удавившегося в тюрьме у союзников 25-го октября 45-го. Недоглядели тогда союзники. Выдали полотенце. Из него находчивый Лей (химик, докторская степень, диссертация по искусственному каучуку) и изготовил в меру надёжную верёвку. Прямо в тюремной камере. Как говорится, куй железо пока горячо.
Лей не желал «участвовать» в Нюрнбергском процессе над военными преступниками. Лей утверждал что он ничего не знал и кричал что больше не может «испытывать чувство непрерывного стыда». Геринг сказал о нём: «Это хорошо, что он повесился. Он бы всех нас опозорил в суде». Геринг не повесился, Герингу пронесли в камеру яд. Снова не доглядели союзники. М-да...
В фильме «Обыкновенный фашизм», Михаил Ромм произносит простецкую цитату Лея: «В четыре года мы даём ребёнку в руки флажок, и с этой минуты, сам того не ведая он поступает к нам в обработку, которая продолжается до самой его могилы».
И тут... Октябрята, пионеры, как и прочие примеры, угодили в либеральные тиски — вместе с флажками, значками, «когда был Ленин маленький», речёвками, лагерями и прочими кострами.
За такую критику надо бы...
Лиознова всё это наперёд понимала.
«Как это, позвольте, понимала?»
«Она же жила в СССР?»
Вы удивлены? И зря. Это Лиознова была настоящей железной леди, а вовсе не Маргарет Тэтчер, месившая почём зря английских шахтёров. Это Лиознова, снявшая «три тополя на Плющихе», взяла, да и развернула свой «про жизнь простую» ледокол и врубилась в толщу такой темы, что никому другому была не по зубам. Фильмов, героических и серьёзных, о советских разведчиках хватало и до неё. Не было только фильма который бы показал с кем воистину тем героическим разведчикам приходилось сражаться. Лиознова, напомним, перевернувшая горы архивных документов, каким-то шестым-десятым чувством поняла — это всё хроника, она чудовищна, даже мозг отказывается её по временам воспринимать. Только важнее другое — съёмка изнутри логова, где первородное зло расхаживает себе в домашнем халате и ведёт себя «с товарищами по службе» безупречно, и безжалостно «к врагам Рейха».
Русский солдат ждал.
Терпения русскому солдату не занимать.
Быть может, «Семнадцать мгновений весны», самый мощный, самый глубокий по степени сноса головы, самый зубодробительный проект советского антифашистского агитпропа.
«Смотрите, какие они. Видите? Пьют крестьянскую водку. Аристократический коньяк. Милы. Надёжны как скала. Готовы написать за друзей ручательное письмо. В победу свою верят свято, но за закрытыми дверями — уже нет. При том — убивают и пытают до последнего. Мир отравляют миазмами своими до последнего. А потом — на кораблик и в Латинскую Америку. На виселицу — только дураки. А ещё могут убежать в смерть. Ампула за щекой и всё такое».
Мюллер, сыгранный Броневым. Готовый неспешно отрезать по кускам от тела живого врага, или «товарища по партии», при том, в белой рубашке, при том, с полной отстранённостью от какой-либо эмоции, ведь свою работу надо делать хорошо. Палач.
Гиммлер, сыгранный Прокоповичем. Эффективный, собранный, по первому подозрению давящий безжалостным сапогом германского солдата (сотрудника гестапо) своих и чужих — без разбора. Неврастеничный, глубоко внутри. Весь нацеленный выжить любой ценой. Прочее не имеет значения. Палач.
Борман, сыгранный Визбором.
Шелленберг, сыгранный Табаковым.
Если что, в рабочем столе Вальтера Шелленберга, в боковых его тумбах, были установлены встроенные пулемёты. Вальтер Шеллеберг хорошо знал цену человеческому слову и товарищеской взаимовыручке. Вальтер Шелленберг успел написать воспоминания. Он явно «любил свою работу и делал её честно и хорошо».
Мы смотрим серию за серией, мы созерцаем нордического Штирлица, мы зависаем в долгих разговорах и размышлениях, в закадровом, абсолютно магическом голосе Копеляна и постепенно начинаем воспринимать и верхушку Рейха и собирательного «немца» как того самого врага, опаснейшего и коварнейшего, что нанесёт с превеликим удовольствием и удар в спину впереди идущего, и удар в горло спящего рядом.
Инфернальное зло. В улыбающемся и острящем Мюллере, в равновесном и безучастном Бормане, в холодном и неприветливом Кальтенбруннере, в вальяжном и приветливом Шелленберге. Но и ещё того страшнее — в ледяном до исступления и настолько же просчитанном Вольфе, в союзниках. Да, да. В наших дорогих, обожаемых, любимых союзниках. Инфернальное зло, не считающееся с гекатомбами жертв, в облике Аллена Даллеса и его подопечных.
И вот, досмотрев до конца, внимательно выловив разбросанные Лиозновой эпизоды — Мюллера с закатанными рукавами в подвале гестапо, разбитое до неузнаваемости лицо водителя Бормана, Штирлица, оставленного Борманом для размышлений всё в том же подвале гестапо и там же, но чуть позже, перекусывающего бутербродами с бодрым и благорасположенным Мюллером, мы понимаем (а эпизодов там хватает) — это не совсем люди. Это совсем не люди. Это — нелюди.
«Партайгеноссе, один из ваших водителей...»
«Я знаю!»
Расходный, на мыло, материал. Человеки. Таких ещё много есть. Не жалко. Никаких. Своих, тоже не жалко.
Медленное, при том внутренне взвинченное, часами и метрономом, действие. Чёрно-белое великолепие погребального шествия. Эсесовская форма. Вскинутые руки. Отвратительная агония, тело Третьего Рейха пожираемое омерзительнейшей агонией. Что там ноги!.. Давно отрезаны и сгнили — гангрена войны. Что там брюхо!.. Кишки наружу и волочатся по земле от самого Курска. Но, «голова варит» (разговор «страхового агента с Кэтрин Кин), хоть и поражена размягчением мозга. Это удивительное, ни с чем не сравнимое отмирание органов, при полном сохранении функций в очагах полуразложившегося живого мертвеца.
Вот он, фашизм.
Вот его оскал.
Его истинная сущность.
Конечно, раскрашивать такой фильм было совершеннейшим безумием. Никогда не смотрите его в цвете. Он не для того снят, чтобы радовать глаз.
Все эти легенды... Улицы в СССР пустели, преступность падала, влюблённые мирились, вся Страна Советов прилипала к телевизорам, а Брежнев не единожды порывался наградить полковника Исаева, присвоив ему звание Героя Советского Союза. И что? Так не было? Так было. Да. И было ещё и не так.
Эпос. Каждая великая империя достойна своего эпоса. Красная Империя, примеров которой нет в истории, достойна более других — потому как она такая одна. И верный её идеалам Макс Отто фон Штирлиц — полковник Максим Максимович Исаев с карающим мечом в руках — один из наилучших её символов.
Если бы мегатонны производимого ныне мусорного видео-контента были заменены на пару-тройку подобных «Семнадцати мгновеньям весны» сериалов, мы бы увидели сильно другую картину — в оценке обществом наших «заокеанских партнёров и добрых друзей».
Впрочем, фильм Татьяны Лиозновой работает до сих пор и так, сам по себе, из толщи дней. Есть чему поучиться. Есть о чём задуматься.
«Сейчас меня занимает больше всего проблема, как можно при помощи физической химии приостановить процесс оглупления масс. Трудно стало работать. Столько развелось идиотов, говорящих правильные слова...»
Это говорит Штирлиц.
Или, сама Лиознова.
Ах, да!..
Это же всё советская пропаганда...
Бумажные агенты влияния
Не без удовлетворения наблюдаю, что буквально на глазах происходит переосмысление наследия советского пропагандистского плаката. За год прохождения нашего проекта «Искусство пропаганды» вдруг музеи обратили внимание на свои собрания «пропагандистского искусства» и теперь просто так не достучишься с просьбой « а не могли бы вы…». Нынче слово «пропаганда» никого не пугает, потому что все-таки нам всем удалось изменить отношение к творческому наследию прекрасных русских и советских художников, работавших на ниве агитации.
И музеи готовят свои собственные экспозиции по «праву первой ночи», уже не оборачиваясь на окрики либеральных авторов, которым достаточно успешно в былые годы удавалось подавить любые попытки показать аудитории какую-нибудь Нину Ватолину с ее «детско-сталинским» циклом и тем более – плакаты самых тяжких лет Отечественной войны, с ее бескомпромиссным призывом «Убей немца». Как это – «Убей немца»? А что скажут немцы? Вдруг обидятся?
И это прекрасные перемены в общественном восприятии. Есть у процесса и оборотная сторона – музеи во многом теперь обязаны предоставлять услуги сторонним организациям только за деньги- что должно , конечно, финансово поддержать госпредприятия, но слегка ограничивают маневр любого стороннего исследователя и популяризатора. Или просто блокируют любой интерес к привлечению внимания широкой публики к феномену.
Но когда обобщенная либеральная удавка на шее искусства советской пропаганды слегка ослабла (во многом благодаря СВО и последующему очищению природной среды) проявились уже другие подводные камни совсем с другой стороны: например, новое поколение ,занимающееся IT-платформами, неосмысленно воспринимает на всякий случай некоторые нормативные акты, касаемо демонстрации вражеской символики и тд. И да – под эти ограничения попадают и фотографии с парада Победы на Красной площади и огромное количество плакатов и карикатур времен Великой войны. И понятно, что новое поколение новоявленных цензоров на каком-нибудь «рутубе» «во избежание нарушений» начинает блокировать и банить карикатуры Бориса Ефимова. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что можно, конечно, замазать свастоны на рукаве у карикатурного гнусного Геринга, можно даже заблюрить усы Гитлера , как trademark нацизма, но тогда мы скоро получим поколение, которое даже не будет понимать – а с кем же и против чего боролись деды и прадеды. То есть, есть шанс просто поучаствовать в общемировом процессе переписывания истории. В которой, судя по Голливуду, скоро останется только один победитель нацизма – доблестные солдаты США, высадившиеся на Омаха-Бич в Нормандии.
Касаемо ориентации на условную «кока-колу», после одной из наших публикаций новое поколение пользователей вдруг открыло для себя, что сериал «Друзья» (США) постоянно демонстрирует в кадре интерьеров советские пропагандистские плакаты (в-частности плакат "Чтобы строить надо знать" Лебединского и Шухмана 1958 года). В свое время популярность этого сериала сделала советский пропагандистский плакат одним из самых востребованных предметов на местных американских аукционах.
И тут мы приходим к вопросу о потрясающем влиянии советского агитплаката на мировую массовую культуру. Нравится нам это или нет.
Как пишет теоретик искусства М В Александрова: «Сегодня оригинальные издания советских плакатов прошли закономерный путь от статуса макулатуры к статусу антиквариата. Вместе с тем советский плакат возвращается в современную массовую культуру в иной ипостаси – вневременного артефакта, не только и не столько аппелирующего к культурному коду, сколько ориентированного восприятие известного визуального образа, допускающего отстраненность по отношению к породившему его идеологическому контексту».
Или как утверждает молодой московский автор Даниил Мизин: «В чем была функция советской арт-пропаганды? если тот же соцреализм создавал образ искомого внешнего мира, то агит-проп воплощает идеальное внутреннее переживание. Любой агитплакат — по сути своей, инструкция к восприятию. берется исторический персонаж/ событие/ период/ эпоха, очищается от нелинейностей и наслоений, усиливается грамотной работой с композицией и архетипами, тиражируется без затухания ауры. На выходе — эталонная контент-единица ХХ века. не «политизированное искусство», но «политическое искусство».
Крайне внимательно на феномен советского агитплаката взирали и наши идейные оппоненты. Теоретик коммуникации М. Маклюэн утверждает, что «русским достаточно было адаптировать свои традиции восточной иконы и построения образа к новым электрическим средствам коммуникации, чтобы быть агрессивно эффективными в современном мире информации». Сравнение с иконописными канонами тут особенно интересно, потому что именно агитплакат использует универсальные образы, простые для непосвященного зрителя и обретающие глубину по мере погружения в историко-культурный и ментальный контекст их создания. Западных исследователей поражает масштаб плакатного жанра в жизнь советского общества. В 1930-е годы средний тираж плаката составлял 30 тысяч экземпляров, в середине 1980-х ежегодное количество выпущенных в СССР плакатов приближалось к 350 миллионам штук. Плакат не только стал неотъемлемой частью повседневной жизни советского человека, он стал уверенной ассоциацией с понятием «советский образ жизни». И, благодаря миллионным тиражам, еще и материальным наследием советской эпохи.
Другие западные исследователи выстраивают генезис искусства советской пропаганды от русского модерна (и правильно делают). Вот, что пишет немецкий Spiegel по поводу выставки советского агитплаката в Гамбурге:
«Русский модернизм предполагал, что искусство является центральной инстанцией власти и действия в обществе, т.е. что оно не только косвенно влияет на него, например, "делает картины", но и непосредственно конструирует новую реальность. Отсюда и название "конструктивизм", впервые употребленное около 1913 года, под которым стало известно одно из центральных течений русского авангарда.
Стремление и убежденность в возможности радикального преобразования существующей реальности разделяли и участники русской революции, среди которых были многочисленны и заметны такие ранние представители конструктивизма, как Александр Родченко, Валентина Кулагина и Эль Лисицкий. Хотя художественный переворот на несколько лет опередил политический и социальный, это не ставит под сомнение внутреннюю связь между ними.
Если оставить в стороне личное переплетение художественной и социальной революций в России, то радикальное различие между западным и русским авангардом может поначалу удивить. Ведь для обоих характерен отказ от имитации реальности и поворот к абстракции, постоянная интенсификация формальных решений как выражение теоретико-утопической художественной программы.
На Западе, однако, эта программа характеризуется философски обоснованной релятивизацией понятия реальности и оценкой произведения искусства как автономного существования. Однако эта художественная автономия имеет свою цену. Ведь те, кто хочет, чтобы искусство понималось как самостоятельная сфера, одновременно лишают его возможности прямого вмешательства в социальную реальность. В качестве художественного поля действия остается лишь опосредованное - психическое и интеллектуальное - воздействие на членов общества, поэтому можно говорить и об "эстетике воздействия". Она направлена, например, при радикальном изображении последствий войны, на эмоции зрителей, как в картинах Отто Дикса, или, как в эпическом театре Бертольта Брехта, на их разум.
Русский авангард рассматривал эту эстетику эффекта как изживание устаревшей концепции искусства. Конструктивизм противопоставил ей "эстетику реальности", целью которой было сделать реальность во всей ее полноте предметом художественного действия и создать ее заново. Художественный продукт должен был уже не только воздействовать на общество. Сама "художественная вещь" должна была изменить жизнь человека непосредственно своим существованием, поскольку, как писал в 1922 году в программном эссе русский теоретик искусства Алексей Ган, ее цель - "не изображать действительность, не изображать ее, не толковать ее, а строить ее в действительности".
Автор «Шпигеля» старается не углубляться в теории товарища Гана. На самом деле автор очень жестко формулировал итоги предыдущего – дореволюционного искусства и еще более жестко ставил задачи нового.
В своем программном труде он прямо припечатывает былое: «Прошлые культуры, т. е. культуры власти и духа изображало искусство. „Прекрасное“ и „нетленное“ оно своими изобразительными средствами обслуживало религию, философию и всю так называемую „духовную“ культуру прошлого. Искусство спекулятивно-материализовало „духовность“, иллюстрируя священную историю, божественные тайны, мировые загадки, абстрактные скорби и радости, умозрительные истины философии и прочее ребячество взрослых людей, нормы поведения которых определялись экономическими условиями общества той или иной исторической данности.»
И дает установку на будущее, которое в том числе и осуществилось в агитационных материалах:
«Пролетарский октябрь дал черноземную почву для зерен левого искусства. Лучшие и талантливые его производители получили власть. Четыре года небольшие кадры по числу, но значительные по качеству, руководили в стране искусством, перестраивая школы и мобилизуя силы. Но и в этой счастливой атмосфере не удалось прочно установить новые формы художественных выражений, т. к. левые группы не нашли в своей среде социально грамотных революционеров. Индивидуально-профессиональные завоевания в области своего мастерства они поставили над задачами пролетарской революции. Это было главной причиной их падения.
Но революция растет и углубляется, а с ней растут и просвещаются новаторы левого искусства.
Интеллектуально-материальное производство как раз и ставит перед собой проблему: какими средствами, как создать и воспитать кадр работников в области художественного труда, чтобы действительно осилить и овладеть теми очередными задачами, которые словно из земли встают перед нами при каждой прямой или кривой революционного бега.
Формально часть мастеров левого искусства обладает исключительными свойствами и достаточными средствами, чтобы приступить к делу. Ей не хватает организующего начала.
Конструктивизм пытается это осуществить. Идеологическую часть он неразрывно соединяет с частью формальной.
Мастера интеллектуально-материального производства в сфере художественного труда коллективно встают на путь коммунистического просвещения.
Научный коммунизм — первый и главный предмет их занятий. Советский строй и его практика — единственная школа конструктивизма. Теория исторического материализма, через которую конструктивисты усваивают историю вообще и основные законы и ход развития капиталистического общества, равно служит им и методом изучения истории искусства. Последнее, как и все общественные явления для конструктивиста — продукт человеческой деятельности обусловленный теми техническими и экономическими условиями, в которых оно возникало и развивалось. Но имея непосредственное и прямое отношение к нему, как производственники, они в процессе общего изучения впервые создают и науку по истории его формального развития.»
До русских авторов никто не формулировал настоль явственного внедрения, агрессивного влияния искусства на трансформацию самого общества.
Так что, казалось бы, такая очевидная и привычная для нас вещь как агитплакат требует все больше и больше погружения в тему. Более детального изучения всех аспектов его возникновения и влияния на окружающую действительность и медиа – как отражения этой действительности. Даже сейчас, спустя более чем сто лет.
Игорь Мальцев, руководитель проекта Арт-Проп.
И музеи готовят свои собственные экспозиции по «праву первой ночи», уже не оборачиваясь на окрики либеральных авторов, которым достаточно успешно в былые годы удавалось подавить любые попытки показать аудитории какую-нибудь Нину Ватолину с ее «детско-сталинским» циклом и тем более – плакаты самых тяжких лет Отечественной войны, с ее бескомпромиссным призывом «Убей немца». Как это – «Убей немца»? А что скажут немцы? Вдруг обидятся?
И это прекрасные перемены в общественном восприятии. Есть у процесса и оборотная сторона – музеи во многом теперь обязаны предоставлять услуги сторонним организациям только за деньги- что должно , конечно, финансово поддержать госпредприятия, но слегка ограничивают маневр любого стороннего исследователя и популяризатора. Или просто блокируют любой интерес к привлечению внимания широкой публики к феномену.
Но когда обобщенная либеральная удавка на шее искусства советской пропаганды слегка ослабла (во многом благодаря СВО и последующему очищению природной среды) проявились уже другие подводные камни совсем с другой стороны: например, новое поколение ,занимающееся IT-платформами, неосмысленно воспринимает на всякий случай некоторые нормативные акты, касаемо демонстрации вражеской символики и тд. И да – под эти ограничения попадают и фотографии с парада Победы на Красной площади и огромное количество плакатов и карикатур времен Великой войны. И понятно, что новое поколение новоявленных цензоров на каком-нибудь «рутубе» «во избежание нарушений» начинает блокировать и банить карикатуры Бориса Ефимова. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что можно, конечно, замазать свастоны на рукаве у карикатурного гнусного Геринга, можно даже заблюрить усы Гитлера , как trademark нацизма, но тогда мы скоро получим поколение, которое даже не будет понимать – а с кем же и против чего боролись деды и прадеды. То есть, есть шанс просто поучаствовать в общемировом процессе переписывания истории. В которой, судя по Голливуду, скоро останется только один победитель нацизма – доблестные солдаты США, высадившиеся на Омаха-Бич в Нормандии.
Касаемо ориентации на условную «кока-колу», после одной из наших публикаций новое поколение пользователей вдруг открыло для себя, что сериал «Друзья» (США) постоянно демонстрирует в кадре интерьеров советские пропагандистские плакаты (в-частности плакат "Чтобы строить надо знать" Лебединского и Шухмана 1958 года). В свое время популярность этого сериала сделала советский пропагандистский плакат одним из самых востребованных предметов на местных американских аукционах.
И тут мы приходим к вопросу о потрясающем влиянии советского агитплаката на мировую массовую культуру. Нравится нам это или нет.
Как пишет теоретик искусства М В Александрова: «Сегодня оригинальные издания советских плакатов прошли закономерный путь от статуса макулатуры к статусу антиквариата. Вместе с тем советский плакат возвращается в современную массовую культуру в иной ипостаси – вневременного артефакта, не только и не столько аппелирующего к культурному коду, сколько ориентированного восприятие известного визуального образа, допускающего отстраненность по отношению к породившему его идеологическому контексту».
Или как утверждает молодой московский автор Даниил Мизин: «В чем была функция советской арт-пропаганды? если тот же соцреализм создавал образ искомого внешнего мира, то агит-проп воплощает идеальное внутреннее переживание. Любой агитплакат — по сути своей, инструкция к восприятию. берется исторический персонаж/ событие/ период/ эпоха, очищается от нелинейностей и наслоений, усиливается грамотной работой с композицией и архетипами, тиражируется без затухания ауры. На выходе — эталонная контент-единица ХХ века. не «политизированное искусство», но «политическое искусство».
Крайне внимательно на феномен советского агитплаката взирали и наши идейные оппоненты. Теоретик коммуникации М. Маклюэн утверждает, что «русским достаточно было адаптировать свои традиции восточной иконы и построения образа к новым электрическим средствам коммуникации, чтобы быть агрессивно эффективными в современном мире информации». Сравнение с иконописными канонами тут особенно интересно, потому что именно агитплакат использует универсальные образы, простые для непосвященного зрителя и обретающие глубину по мере погружения в историко-культурный и ментальный контекст их создания. Западных исследователей поражает масштаб плакатного жанра в жизнь советского общества. В 1930-е годы средний тираж плаката составлял 30 тысяч экземпляров, в середине 1980-х ежегодное количество выпущенных в СССР плакатов приближалось к 350 миллионам штук. Плакат не только стал неотъемлемой частью повседневной жизни советского человека, он стал уверенной ассоциацией с понятием «советский образ жизни». И, благодаря миллионным тиражам, еще и материальным наследием советской эпохи.
Другие западные исследователи выстраивают генезис искусства советской пропаганды от русского модерна (и правильно делают). Вот, что пишет немецкий Spiegel по поводу выставки советского агитплаката в Гамбурге:
«Русский модернизм предполагал, что искусство является центральной инстанцией власти и действия в обществе, т.е. что оно не только косвенно влияет на него, например, "делает картины", но и непосредственно конструирует новую реальность. Отсюда и название "конструктивизм", впервые употребленное около 1913 года, под которым стало известно одно из центральных течений русского авангарда.
Стремление и убежденность в возможности радикального преобразования существующей реальности разделяли и участники русской революции, среди которых были многочисленны и заметны такие ранние представители конструктивизма, как Александр Родченко, Валентина Кулагина и Эль Лисицкий. Хотя художественный переворот на несколько лет опередил политический и социальный, это не ставит под сомнение внутреннюю связь между ними.
Если оставить в стороне личное переплетение художественной и социальной революций в России, то радикальное различие между западным и русским авангардом может поначалу удивить. Ведь для обоих характерен отказ от имитации реальности и поворот к абстракции, постоянная интенсификация формальных решений как выражение теоретико-утопической художественной программы.
На Западе, однако, эта программа характеризуется философски обоснованной релятивизацией понятия реальности и оценкой произведения искусства как автономного существования. Однако эта художественная автономия имеет свою цену. Ведь те, кто хочет, чтобы искусство понималось как самостоятельная сфера, одновременно лишают его возможности прямого вмешательства в социальную реальность. В качестве художественного поля действия остается лишь опосредованное - психическое и интеллектуальное - воздействие на членов общества, поэтому можно говорить и об "эстетике воздействия". Она направлена, например, при радикальном изображении последствий войны, на эмоции зрителей, как в картинах Отто Дикса, или, как в эпическом театре Бертольта Брехта, на их разум.
Русский авангард рассматривал эту эстетику эффекта как изживание устаревшей концепции искусства. Конструктивизм противопоставил ей "эстетику реальности", целью которой было сделать реальность во всей ее полноте предметом художественного действия и создать ее заново. Художественный продукт должен был уже не только воздействовать на общество. Сама "художественная вещь" должна была изменить жизнь человека непосредственно своим существованием, поскольку, как писал в 1922 году в программном эссе русский теоретик искусства Алексей Ган, ее цель - "не изображать действительность, не изображать ее, не толковать ее, а строить ее в действительности".
Автор «Шпигеля» старается не углубляться в теории товарища Гана. На самом деле автор очень жестко формулировал итоги предыдущего – дореволюционного искусства и еще более жестко ставил задачи нового.
В своем программном труде он прямо припечатывает былое: «Прошлые культуры, т. е. культуры власти и духа изображало искусство. „Прекрасное“ и „нетленное“ оно своими изобразительными средствами обслуживало религию, философию и всю так называемую „духовную“ культуру прошлого. Искусство спекулятивно-материализовало „духовность“, иллюстрируя священную историю, божественные тайны, мировые загадки, абстрактные скорби и радости, умозрительные истины философии и прочее ребячество взрослых людей, нормы поведения которых определялись экономическими условиями общества той или иной исторической данности.»
И дает установку на будущее, которое в том числе и осуществилось в агитационных материалах:
«Пролетарский октябрь дал черноземную почву для зерен левого искусства. Лучшие и талантливые его производители получили власть. Четыре года небольшие кадры по числу, но значительные по качеству, руководили в стране искусством, перестраивая школы и мобилизуя силы. Но и в этой счастливой атмосфере не удалось прочно установить новые формы художественных выражений, т. к. левые группы не нашли в своей среде социально грамотных революционеров. Индивидуально-профессиональные завоевания в области своего мастерства они поставили над задачами пролетарской революции. Это было главной причиной их падения.
Но революция растет и углубляется, а с ней растут и просвещаются новаторы левого искусства.
Интеллектуально-материальное производство как раз и ставит перед собой проблему: какими средствами, как создать и воспитать кадр работников в области художественного труда, чтобы действительно осилить и овладеть теми очередными задачами, которые словно из земли встают перед нами при каждой прямой или кривой революционного бега.
Формально часть мастеров левого искусства обладает исключительными свойствами и достаточными средствами, чтобы приступить к делу. Ей не хватает организующего начала.
Конструктивизм пытается это осуществить. Идеологическую часть он неразрывно соединяет с частью формальной.
Мастера интеллектуально-материального производства в сфере художественного труда коллективно встают на путь коммунистического просвещения.
Научный коммунизм — первый и главный предмет их занятий. Советский строй и его практика — единственная школа конструктивизма. Теория исторического материализма, через которую конструктивисты усваивают историю вообще и основные законы и ход развития капиталистического общества, равно служит им и методом изучения истории искусства. Последнее, как и все общественные явления для конструктивиста — продукт человеческой деятельности обусловленный теми техническими и экономическими условиями, в которых оно возникало и развивалось. Но имея непосредственное и прямое отношение к нему, как производственники, они в процессе общего изучения впервые создают и науку по истории его формального развития.»
До русских авторов никто не формулировал настоль явственного внедрения, агрессивного влияния искусства на трансформацию самого общества.
Так что, казалось бы, такая очевидная и привычная для нас вещь как агитплакат требует все больше и больше погружения в тему. Более детального изучения всех аспектов его возникновения и влияния на окружающую действительность и медиа – как отражения этой действительности. Даже сейчас, спустя более чем сто лет.
Игорь Мальцев, руководитель проекта Арт-Проп.
Боевое крыло
В Советском Союзе было великое множество городов. В каждом городе был свой парк. В каждом парке — аллея пионеров-героев. А если и не в каждом, то в каждом втором, это уж точно. И это был, к величайшему сожалению так и не сумевший набрать максимальную внутреннюю силу, мощнейший проект красного агитпропа основанный на великой и горькой правде жизни — если дети верят в дело отцов — они в той вере своей идут до конца и платят за веру ту самую полную меру.
Они не стали полярниками — те пионеры-герои. Не стали лётчиками. Не возглавили крупнейшие комсомольские стройки. Не поднимали целину. Не летали в космос. Не жили в благословенные времена брежневского «застоя». Они и вообще — почти что не жили.
Дети — святые.
Ангелы в красных галстуках.
Без красных галстуков — многие из них и в пионеры вступить не успели.
Сколько сломано копий в «праведных и благородных ристалищах»: «Их надо канонизировать, они праведники! Но, их же нельзя канонизировать, они же не крещёные! Пионерия — героический эпос! Пионеры — от лукавого и нечистого и это всё советская пропаганда!»
Безумцы.
Все мы, в той, или иной степени, безумцы...
Дети — от лукавого?
Советская пропаганда не имела права говорить о подвигах детей?
На самом деле, мы знаем очень немного. Из того что «вколотил» нам в головы красный агитпроп — «поверхностный», ясное дело, куда ему, тому агитпропу большевистскому за ходом истории поспеть, когда дети, десятки тысяч (!) советских детей, те самые «растиражированные в СССР» подвиги совершали — как воздухом дышали. Они выросли в Красной империи! И когда грянула Великая Отечественная, вся их жизнь, весь огонь их сердец были подчинены одному — спасению Родины, на которую вероломно (а вот к этому слову мы ещё вернёмся) напала таких размеров всеевропейская фашистская гадина, что и представить нельзя!..
Но, разве же это ложь?
Разве же этих детей не было и заместо них умирали боевые киборги НКВД?
Нам не забыть никогда — шесть Героев Советского Союза — Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Шура Чекалин, Боря Цариков. Так их называли, немного по детски, чтобы подчеркнуть малый их возраст, беззащитность перед лицом войны и смерти. Теперь давайте скажем вслух и поименуем их по другому, как на воинской поверке — Леонид Голиков, Марат Казей, Валентин Котик, Зинаида Портнова, Александр Чекалин, Борис Цариков. А ещё скажем — это лишь первые из первых, равные из равных. Повторимся — их были многие тысячи, десятки тысяч тех детей-воинов, пионеров и октябрят и беспартийных. Они любили свой дом, своих родителей, своих братьев и сестёр. Они ели простую еду, жили простую жизнь, думали о простых вещах — нам, из дня сегодняшнего, до той простоты не дотянуться ни за какие кренделя небесные — нет таковского в нас пороху. В нас — по большей части отринувших «кровавое наследие» собственного Древнего Рима —СССР.
Те дети, те прославленные на весь Советский Союз, а чаще прочего, безвестные герои, оставшиеся в памяти лишь знавших их лично — они не понимали, отказывались понимать и «принимать», почему и с какой стати должны отдать свой хлеб, свою и близких своих жизнь, своё счастье и своё небо— наглому, озверевшему от крови и безнаказанности врагу.
У войны нет детей.
У войны — солдаты.
Они умирали не за славу. Рождённые и выросшие в СССР. Выносили нечеловеческие страдания не за ордена. Знавшие одно время — время Советской Власти. Они были... За Родину. И именно от того и живы сегодня. Пусть и, десятилетие за десятилетием, истираемы (зачастую и со временем всё более и более сознательно) их имена. Наша память столь коротка... В пятидесятых о них говорили с благоговейным трепетом. В шестидесятых, с огромным почтением. В семидесятых, с уважением. В восьмидесятых полезли уже и про них прибаутки, примерно как про Штирлица. Но если Штирлиц, при всём к «МаксимМаксимычу» уважении, оставался персонажем собирательным, то эти мальчишки и девчонки с портретов в парковых аллеях городов СССР, были самыми, что ни на есть настоящими.
Пора бы, от прибауток отказавшись, взглянуть на историю детского, более чем осознанного, подвига по-новому. Пора бы воздать им должное. Не галочками — пантеоном памяти.
Если весь подвиг десятилетней пионерки Джемми Горячкиной, спасшей 31-го июля 1942-го наших тяжелораненых бойцов в застрявшем на переезде Расшеватский грузовике уложился в минуты, практически в мгновение, разве не достоин он канонизации? Хоть бы и в наших сердцах?
Немцы рвались на Кубань, Красная Армия отступала. В том грузовике, битком набитом ранеными, была и Дженни с мамой. На переезде машина заглохла намертво, а издалека на них мчался товарняк. И тихая девочка, в обычной жизни застенчивая и молчаливая, выскочила из кабины, сорвала красный галстук и побежала навстречу товарняку — галстуком подавая сигнал машинисту. Она кричала, она махала галстуком, под ноги она не смотрела. Они вообще никогда не смотрели себе под ноги, советские пионеры-герои. Товарняк остановился в метрах от грузовика, Дженни погибла под колёсами поезда, спася сорок с лихом душ.
Минуты. И вся жизнь. На глазах у мамы...
«Будь готов! Всегда готов!» Готовность выковывается годами, а значит... Значит, Дженни верила. Повесть о Дженни в 1974-ом написала поэтесса Светлана Гершанова. Многие ли из нас ту повесть, пусть и «для среднего школьного возраста», читали?
Если подвиг одиннадцатилетнего Муси Пинкензона, заигравшего на скрипке в момент массового расстрела мирного населения станицы Усть-Лабинской «Интернационал» уложился в минуты, практически в мгновение, разве не достоин он канонизации? Хотя бы и в наших сердцах?
Отец Муси, хирург Владимир Пинкензон, с немцами сотрудничать отказался и вся семья была арестована. В день массового расстрела, в ноябре 1942-го, Муся шёл ко рвам вместе со всеми и со скрипкой в руках. Надо сказать, Советская Родина дала Мусе путёвку в жизнь, на скрипке он играл с пяти лет и о нём говорили не иначе как о будущем виртуозе. А потом была война. Родителей эсесовцы убили на глазах Муси — детей немцы оставили «на потом» – так им было «интереснее». И пионер-герой Муся Пинкензон обратился с просьбой «сыграть перед смертью». Офицер милостиво разрешил. Муся заиграл «Интернационал». И люди обречённые на смерть — запели. И жизнь его кончилась. Или, только началась? Ведь у праведников нет ни сегодня, ни завтра — перед ними вечность.
Какое нужно мужество и какая вера, чтобы совершить подобное?
Вот и давайте разбираться. Как и что у нас с пионерами-героями вышло. И почему советский героический эпос, он же и героическая советская пропаганда, день за днём и год за годом превратились в «ветхий завет»: «Было когда-то такое... Ну, давно было... Наверно, все они были герои... Точно не знаем...»
Мы ничего не знаем точно.
Тем и пользуются наши «добрые друзья».
Чтобы не быть голословными, давайте-ка прямо сейчас откроем в википедии страничку Люды Герасименко, десятилетней пионерки из Минска, дочери известного подпольщика Назара Герасименко. В начале октября 1942-го немцы арестовали всю семью Герасименко. Три месяца пыток и допросов. Никто не сломался. Всех расстреляли. И Люсю... Она была связной, дежурной на конспиративной квартире, много всего знала. Не сказала ни единого слова. Страшно... Страшно даже думать о том, что делали с ней немцы. Казалось бы, в посмертии она заслужила высшие воинские почести и нашу благодарную память? Разве не так? Быть может, кому-то режут глаз и слух «все эти высокопарные» слова?
Напомню. Мы смотрим википедию, страничку пионера-героя Люси Герасименко. Где и читаем напротив места смерти: «Минск, Генеральный округ Белоруссия, Рейхскомиссариат Остланд». И ниже написано: «Страна — СССР». Понятно, что кругом у нас враги и это не форма речи. Понятно, что сволочей недобитых по всем углам, видимо-невидимо. Понятно... Но... Это уже совсем запредельный ад. Не так ли, братья и сёстры?
Думаете это единственный пример? «Закралась техническая ошибочка»? «Товарищ Сталин, всё будет исправлено в кратчайшие сроки»? При товарище Сталине и правда, исправили бы в кратчайшие сроки.
Белорусский партизан, пионер-герой, одиннадцатилетний Тихон Баран. Мать немцы угнали в Германию, сестёр приютили соседи, отец Тихона, со старшими братьями ушёл в партизаны. Тихон был связным отряда — маленький, неприметный. В ночь на 22-ое января 1944-го немцы окружили родную деревню Тихона (и он попал в ту облаву), согнали всех жителей, деревню сожгли, 957 человек, включая и родных сестёр Тихона, расстреляли у него на глазах. Его оставили в живых и потребовали чтобы он провёл немцев через болота к партизанам. Тихон провёл — в непроходимую топь. И немцы его убили, когда поняли что им конец. Двести с лихом немцев, этих «удивительных сверх-людей», надёжно упокоились в болотах Белоруссии.
Но... На страничке Тихона в википедии, напротив места смерти, читаем: «Около деревни Байки, Рейхскомиссариат Остланд, нацистская Германия (ныне Пружанский район, Брестская область, Белоруссия). И тянется рука к дубине народной войны...
У вас не тянется?
Крепкие нервы?
Владимир Щербацевич, четырнадцатилетний белорусский подпольщик, пионер-герой из группы Кирилла Ивановича Трусова, спасавшей командиров и политработников Красной Армии. Группу сдал предатель... Нашёлся один...
После адовых пыток, 26-го октября 1941-го, двенадцать подпольщиков, среди них Владимир Щербацевич и его мать, были повешены немцами в разных районах Минска, группами по трое (вечная «германская изобретательность»). Просто для сведения — «трудолюбивых немецких рук» на всех не хватало и казнь вершили каратели 2-го литовского батальона вспомогательной полицейской службы под командованием майора Антанаса Импулявичуса, даже и на плёнку снимали. Мрази прямоходящие.
Так вот. Одну из этих фотографий, где подпольщики ещё живы и стоят в окружении «доблестных солдат вермахта», видим мы и в википедии, а напротив места смерти, читаем «до боли знакомое»: «Минск, Генеральный округ Белоруссия, Рейхскомиссариат Остланд».
Думаете, это все примеры?
Перво-наперво — великие цивилизации, без эпоса существовать, длиться в истории не могут. Сие есть правило наижелезнейшее и номер один. Эпос всегда опирается на реальные факты, он от ветра и деревьев качающихся не растёт. Срок жизни Красной Империи был очень недолог, это если в целом. А, скажем, к середине тридцатых и вовсе исчислялся всего-то менее чем двумя десятилетиями. СССР был великой молодой страной которая если на кого и могла опереться, то только на собственных атлантов. И было сказано, было растворено в воздухе которым они дышали: «Нет ничего превыше Родины. Нет ничего превыше долга. Не единоличной жизнью своей, но общим делом — только так победим, только так сохраним Отечество!»
Поэтому атланты шли и побеждали. И поэтому когда про атлантов пишут, что место их смерти, их гибели героической — «Рейхскомиссариат Остланд» — наступает внутреннее остервенение. Озверелое. До предела.
К слову: Джемми Горячкина, Люся Герасименко, Муся Пинкензон, Тихон Баран, Владимир Щербацевич — государственных наград после смерти не обрели. Нет у них ни орденов ни медалей. О том и речь, очень немногих из тех детей-атлантов нашла награда. Но... Они живы. Живее многих, как бы эти слова кого не коробили, ведь не Лениным единым, но и им тоже — они в него верили. В Родину свою непобедимую верили. И в светлое будущее, которого так и не увидели, но в которое шагнули, чтобы остаться там уже навсегда.
В гости к богу не бывает опозданий...
Особенно, если дети...
Советский агтипроп не вытянул, не мог вытянуть рассказ о каждом. Да и те о ком рассказано было, со временем превратились в портреты в аллеях, а были — живыми людьми. Вот об этом — следующий текст.
Разговор большой.
Так просто его не закончить.
Сергей Цветаев.
Они не стали полярниками — те пионеры-герои. Не стали лётчиками. Не возглавили крупнейшие комсомольские стройки. Не поднимали целину. Не летали в космос. Не жили в благословенные времена брежневского «застоя». Они и вообще — почти что не жили.
Дети — святые.
Ангелы в красных галстуках.
Без красных галстуков — многие из них и в пионеры вступить не успели.
Сколько сломано копий в «праведных и благородных ристалищах»: «Их надо канонизировать, они праведники! Но, их же нельзя канонизировать, они же не крещёные! Пионерия — героический эпос! Пионеры — от лукавого и нечистого и это всё советская пропаганда!»
Безумцы.
Все мы, в той, или иной степени, безумцы...
Дети — от лукавого?
Советская пропаганда не имела права говорить о подвигах детей?
На самом деле, мы знаем очень немного. Из того что «вколотил» нам в головы красный агитпроп — «поверхностный», ясное дело, куда ему, тому агитпропу большевистскому за ходом истории поспеть, когда дети, десятки тысяч (!) советских детей, те самые «растиражированные в СССР» подвиги совершали — как воздухом дышали. Они выросли в Красной империи! И когда грянула Великая Отечественная, вся их жизнь, весь огонь их сердец были подчинены одному — спасению Родины, на которую вероломно (а вот к этому слову мы ещё вернёмся) напала таких размеров всеевропейская фашистская гадина, что и представить нельзя!..
Но, разве же это ложь?
Разве же этих детей не было и заместо них умирали боевые киборги НКВД?
Нам не забыть никогда — шесть Героев Советского Союза — Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Шура Чекалин, Боря Цариков. Так их называли, немного по детски, чтобы подчеркнуть малый их возраст, беззащитность перед лицом войны и смерти. Теперь давайте скажем вслух и поименуем их по другому, как на воинской поверке — Леонид Голиков, Марат Казей, Валентин Котик, Зинаида Портнова, Александр Чекалин, Борис Цариков. А ещё скажем — это лишь первые из первых, равные из равных. Повторимся — их были многие тысячи, десятки тысяч тех детей-воинов, пионеров и октябрят и беспартийных. Они любили свой дом, своих родителей, своих братьев и сестёр. Они ели простую еду, жили простую жизнь, думали о простых вещах — нам, из дня сегодняшнего, до той простоты не дотянуться ни за какие кренделя небесные — нет таковского в нас пороху. В нас — по большей части отринувших «кровавое наследие» собственного Древнего Рима —СССР.
Те дети, те прославленные на весь Советский Союз, а чаще прочего, безвестные герои, оставшиеся в памяти лишь знавших их лично — они не понимали, отказывались понимать и «принимать», почему и с какой стати должны отдать свой хлеб, свою и близких своих жизнь, своё счастье и своё небо— наглому, озверевшему от крови и безнаказанности врагу.
У войны нет детей.
У войны — солдаты.
Они умирали не за славу. Рождённые и выросшие в СССР. Выносили нечеловеческие страдания не за ордена. Знавшие одно время — время Советской Власти. Они были... За Родину. И именно от того и живы сегодня. Пусть и, десятилетие за десятилетием, истираемы (зачастую и со временем всё более и более сознательно) их имена. Наша память столь коротка... В пятидесятых о них говорили с благоговейным трепетом. В шестидесятых, с огромным почтением. В семидесятых, с уважением. В восьмидесятых полезли уже и про них прибаутки, примерно как про Штирлица. Но если Штирлиц, при всём к «МаксимМаксимычу» уважении, оставался персонажем собирательным, то эти мальчишки и девчонки с портретов в парковых аллеях городов СССР, были самыми, что ни на есть настоящими.
Пора бы, от прибауток отказавшись, взглянуть на историю детского, более чем осознанного, подвига по-новому. Пора бы воздать им должное. Не галочками — пантеоном памяти.
Если весь подвиг десятилетней пионерки Джемми Горячкиной, спасшей 31-го июля 1942-го наших тяжелораненых бойцов в застрявшем на переезде Расшеватский грузовике уложился в минуты, практически в мгновение, разве не достоин он канонизации? Хоть бы и в наших сердцах?
Немцы рвались на Кубань, Красная Армия отступала. В том грузовике, битком набитом ранеными, была и Дженни с мамой. На переезде машина заглохла намертво, а издалека на них мчался товарняк. И тихая девочка, в обычной жизни застенчивая и молчаливая, выскочила из кабины, сорвала красный галстук и побежала навстречу товарняку — галстуком подавая сигнал машинисту. Она кричала, она махала галстуком, под ноги она не смотрела. Они вообще никогда не смотрели себе под ноги, советские пионеры-герои. Товарняк остановился в метрах от грузовика, Дженни погибла под колёсами поезда, спася сорок с лихом душ.
Минуты. И вся жизнь. На глазах у мамы...
«Будь готов! Всегда готов!» Готовность выковывается годами, а значит... Значит, Дженни верила. Повесть о Дженни в 1974-ом написала поэтесса Светлана Гершанова. Многие ли из нас ту повесть, пусть и «для среднего школьного возраста», читали?
Если подвиг одиннадцатилетнего Муси Пинкензона, заигравшего на скрипке в момент массового расстрела мирного населения станицы Усть-Лабинской «Интернационал» уложился в минуты, практически в мгновение, разве не достоин он канонизации? Хотя бы и в наших сердцах?
Отец Муси, хирург Владимир Пинкензон, с немцами сотрудничать отказался и вся семья была арестована. В день массового расстрела, в ноябре 1942-го, Муся шёл ко рвам вместе со всеми и со скрипкой в руках. Надо сказать, Советская Родина дала Мусе путёвку в жизнь, на скрипке он играл с пяти лет и о нём говорили не иначе как о будущем виртуозе. А потом была война. Родителей эсесовцы убили на глазах Муси — детей немцы оставили «на потом» – так им было «интереснее». И пионер-герой Муся Пинкензон обратился с просьбой «сыграть перед смертью». Офицер милостиво разрешил. Муся заиграл «Интернационал». И люди обречённые на смерть — запели. И жизнь его кончилась. Или, только началась? Ведь у праведников нет ни сегодня, ни завтра — перед ними вечность.
Какое нужно мужество и какая вера, чтобы совершить подобное?
Вот и давайте разбираться. Как и что у нас с пионерами-героями вышло. И почему советский героический эпос, он же и героическая советская пропаганда, день за днём и год за годом превратились в «ветхий завет»: «Было когда-то такое... Ну, давно было... Наверно, все они были герои... Точно не знаем...»
Мы ничего не знаем точно.
Тем и пользуются наши «добрые друзья».
Чтобы не быть голословными, давайте-ка прямо сейчас откроем в википедии страничку Люды Герасименко, десятилетней пионерки из Минска, дочери известного подпольщика Назара Герасименко. В начале октября 1942-го немцы арестовали всю семью Герасименко. Три месяца пыток и допросов. Никто не сломался. Всех расстреляли. И Люсю... Она была связной, дежурной на конспиративной квартире, много всего знала. Не сказала ни единого слова. Страшно... Страшно даже думать о том, что делали с ней немцы. Казалось бы, в посмертии она заслужила высшие воинские почести и нашу благодарную память? Разве не так? Быть может, кому-то режут глаз и слух «все эти высокопарные» слова?
Напомню. Мы смотрим википедию, страничку пионера-героя Люси Герасименко. Где и читаем напротив места смерти: «Минск, Генеральный округ Белоруссия, Рейхскомиссариат Остланд». И ниже написано: «Страна — СССР». Понятно, что кругом у нас враги и это не форма речи. Понятно, что сволочей недобитых по всем углам, видимо-невидимо. Понятно... Но... Это уже совсем запредельный ад. Не так ли, братья и сёстры?
Думаете это единственный пример? «Закралась техническая ошибочка»? «Товарищ Сталин, всё будет исправлено в кратчайшие сроки»? При товарище Сталине и правда, исправили бы в кратчайшие сроки.
Белорусский партизан, пионер-герой, одиннадцатилетний Тихон Баран. Мать немцы угнали в Германию, сестёр приютили соседи, отец Тихона, со старшими братьями ушёл в партизаны. Тихон был связным отряда — маленький, неприметный. В ночь на 22-ое января 1944-го немцы окружили родную деревню Тихона (и он попал в ту облаву), согнали всех жителей, деревню сожгли, 957 человек, включая и родных сестёр Тихона, расстреляли у него на глазах. Его оставили в живых и потребовали чтобы он провёл немцев через болота к партизанам. Тихон провёл — в непроходимую топь. И немцы его убили, когда поняли что им конец. Двести с лихом немцев, этих «удивительных сверх-людей», надёжно упокоились в болотах Белоруссии.
Но... На страничке Тихона в википедии, напротив места смерти, читаем: «Около деревни Байки, Рейхскомиссариат Остланд, нацистская Германия (ныне Пружанский район, Брестская область, Белоруссия). И тянется рука к дубине народной войны...
У вас не тянется?
Крепкие нервы?
Владимир Щербацевич, четырнадцатилетний белорусский подпольщик, пионер-герой из группы Кирилла Ивановича Трусова, спасавшей командиров и политработников Красной Армии. Группу сдал предатель... Нашёлся один...
После адовых пыток, 26-го октября 1941-го, двенадцать подпольщиков, среди них Владимир Щербацевич и его мать, были повешены немцами в разных районах Минска, группами по трое (вечная «германская изобретательность»). Просто для сведения — «трудолюбивых немецких рук» на всех не хватало и казнь вершили каратели 2-го литовского батальона вспомогательной полицейской службы под командованием майора Антанаса Импулявичуса, даже и на плёнку снимали. Мрази прямоходящие.
Так вот. Одну из этих фотографий, где подпольщики ещё живы и стоят в окружении «доблестных солдат вермахта», видим мы и в википедии, а напротив места смерти, читаем «до боли знакомое»: «Минск, Генеральный округ Белоруссия, Рейхскомиссариат Остланд».
Думаете, это все примеры?
Перво-наперво — великие цивилизации, без эпоса существовать, длиться в истории не могут. Сие есть правило наижелезнейшее и номер один. Эпос всегда опирается на реальные факты, он от ветра и деревьев качающихся не растёт. Срок жизни Красной Империи был очень недолог, это если в целом. А, скажем, к середине тридцатых и вовсе исчислялся всего-то менее чем двумя десятилетиями. СССР был великой молодой страной которая если на кого и могла опереться, то только на собственных атлантов. И было сказано, было растворено в воздухе которым они дышали: «Нет ничего превыше Родины. Нет ничего превыше долга. Не единоличной жизнью своей, но общим делом — только так победим, только так сохраним Отечество!»
Поэтому атланты шли и побеждали. И поэтому когда про атлантов пишут, что место их смерти, их гибели героической — «Рейхскомиссариат Остланд» — наступает внутреннее остервенение. Озверелое. До предела.
К слову: Джемми Горячкина, Люся Герасименко, Муся Пинкензон, Тихон Баран, Владимир Щербацевич — государственных наград после смерти не обрели. Нет у них ни орденов ни медалей. О том и речь, очень немногих из тех детей-атлантов нашла награда. Но... Они живы. Живее многих, как бы эти слова кого не коробили, ведь не Лениным единым, но и им тоже — они в него верили. В Родину свою непобедимую верили. И в светлое будущее, которого так и не увидели, но в которое шагнули, чтобы остаться там уже навсегда.
В гости к богу не бывает опозданий...
Особенно, если дети...
Советский агтипроп не вытянул, не мог вытянуть рассказ о каждом. Да и те о ком рассказано было, со временем превратились в портреты в аллеях, а были — живыми людьми. Вот об этом — следующий текст.
Разговор большой.
Так просто его не закончить.
Сергей Цветаев.
Пропаганда Детства
С большой буквы, потому как речь у нас пойдёт о детской литературе в СССР, а значит, о Высокой Детской Литературе. Которая тоже и безусловно являлась образцом «жесточайшей тоталитарной пропаганды советского строя» — только вот дети так от чего-то не думали. Странно, правда?
Хочется сказать поборникам всего антисоветского: «Баранкин, будь человеком!»
Конечно — языком сказок и басен, былин и легенд, мыслящая часть общества во все времена доносила до читающей (или хотя бы внемлющей) части то, что сказать во всеуслышание было попросту нельзя. Или, можно, но с печальными последствиями. Поправимся — боже упаси нас рассказывать, будто вся детская литература Красной Империи была глубоко иносказательной, до ужаса политизированной (шиворот-навыворот) и необычайно двусмысленной. Совсем не так и где уж тут политика и двойное дно, скажем, в такой вот простейшей фразе-вопросе: «Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются?» И если это «недружественный выпад» от мистера О. Генри, то нам-то что делать, обнаружив таковой на странице достопочтенного и заверенного Главлитом советского издания в оригинальном переводе Нины Дарузес? Нина Дарузес это величина.
Вот он идёт себе уверенным шагом, а за ним летят пчёлы, те самые, что делают мёд. Настоящий. И всё это «жжж» более, чем неспроста. А что это за сомнительная надпись между Винни-Пухом и пчёлками? «Издательство «Дом» Советского детского фонда имени В.И. Ленина». Определённо, это провокация! Зато теперь мы в точности знаем как он выглядит — кровавый коммунистический режим! Как медведь с опилками в голове за которым летят пчёлы — только в таком варианте получается что мишка-то настоящий — потому как в умственных способностях пчёл (пусть и нарисованных) сомневаться не приходится.
Цензура. Тиски. Отсутствие воздуха. Нечем дышать. Затхлая атмосфера тотального соцреализма. Искусство на поводу у партии. Что-то забыли? Забыли — разговоры об эмиграции в советскую детскую литературу тех писателей и тех художников что во взрослой советской литературе и рта не могли открыть. Вот теперь картина у нас полная.
Чушь это всё.
Несусветная.
Если ты делаешь что-то для детей, скажем, пишешь или рисуешь, то ты и делаешь это именно что для детей. Иначе, если в каждое словечко и в каждый штришок кукиш «лично товарищу Сталину», а может кому и ещё заворачивать, получится не детская литература, а прессованные бытовые отходы, или попросту говоря... Вы поняли. Детей не обманешь. Конфету, это да, выманить можно, а вот обмануть по крупному — увольте. Они ж как барометры. Вот было ясно, было всё прекрасно, и раз — туча, буря, вырванные ураганом клочья волос по закоулкам и полный творческий провал именуемый фиаско: «Дядя Петя, ты дурак?» Определённо, и не только дурак, а ещё и... Редкостная сволочь.
Теперь так — в советской детской литературе дураков и сволочей не было. Может, где-то и не дотягивали — кто не без греха, но в целом — это была Высокая Литература — большевики, начиная с Горького и Луначарского, костьми ложились, но для детей готовы были на всё. Не только в культуре, но об этом отдельно.
Есть бриллианты такой чистоты и такой огранки, такой массы и такой невысчитываемой стоимости — что пусть нам весь мир позавидует. Правда, если мы сами те бриллианты на свалку истории не выкинем... С нами такое случается.
Два Бориса, один — Заходер, а другой — Диодоров, подарили советской детворе не просто смешного мишку-поэта, они подарили целый мир той самой небывалой справедливости, того самого неслыханного братства о которых так долго говорили вы сами знаете кто. На излёте СССР, в 1986-ом, Борис Диодоров закончил пятилетний труд — 200 с лишним иллюстраций к 240-страничной книге Алана Милна в пересказе Бориса Заходера «Винни-Пух и все-все-все». Такого триумфа наповал разящей сатиры(и иронии), душевной доброты и красоты запредельной по нашему скромному мнению мир не видывал. На тех страницах оживало сообщество весьма прогрессивных, не боящихся трудностей личностей и каждая из них была безусловной звездой первой величины.
Вам не смешно?
А когда вы последний на памяти раз перечитывали ЭТОГО Винни-Пуха?
Если никогда, то время ваше пришло.
Знаете, это как посмотреть в волшебный камень предсказывающий не то будущее, не то прошлое. «А так всё и получится?» «Когда-нибудь, непременно...»
Для пущей затравки — англичане текст пересказа Заходера перевели на свой английский обратно и всё потому, что смешно и пронзительно до невозможности, а ещё потому, что: «Особенно разбрасываться сотами не приходиться...» И то верно — мёд (даже и англичанам) с неба сам в руки-лапы не падает.
Такой там мир описан, не то чтобы в нём непрерывно сыпалась с неба сахарная пудра, или наличествовали кисельные берега, совсем нет. Просто все живут в достатке, не бедствуют и не голодают. У каждого свой домик и от каждого требуется что-то полезное по его способностям, а получает он вроде как и по труду, а если начистоту — то прям по потребностям. Не шикуют, это дело понятное, но и в серости не прозябают. Поют себе песни, книжки умные читают (кто умеет), сочиняют стихи (кто способен), ходят друг другу в гости, а ещё — совершают время от времени подвиги. Да, да — самые настоящие подвиги. Когда физические, когда душевные. И никто при том не ропщет (хандра и нытьё не в счёт — с кем не бывает).
Так что же это за мир такой? Это мир медведя с опилками в голове и его прекрасного друга Кристофера Робина? Или это мир развитого социализма плавно и неуклонно переходящего в коммунизм? Что это вообще такое и почему так хочется там оказаться — пролезть, протиснуться сквозь игольное ушко божественных рисунков-видений Бориса Диодорова и изящнейших словесных конструкций-мыслей Бориса Заходера? Что это вообще такое?.. Скажите уже, пожалуйста...
Счастье.
Такое дело чаще прочего называют Счастьем. С большой буквы.
Заходер перевёл книжку Милна в конце пятидесятых, она постепенно обрела своего читателя и набрала популярность, и, конечно, космическое ускорение ей придал Фёдор Хитрук — тремя своими мультфильмами, но это было — как увидеть тот мир в окне, а через книжку — как прямо в нём оказаться.
Книга своё взяла, была разобрана на цитаты и физиками и лириками, а вот мультфильм Хитрука Заходеру не понравился. Не легла ему на душу «говорящая бочка с ногами». Впрочем, это ведь дело каждого — каким именно представлять себе поэта и мечтателя. Александр Сергеевич наш — из арапов был, а Солнце поэзии русской. Жизнь полна всяческих сюрпризов.
«Что касается текста, мы поняли.
А про рисунки ещё раз можно?»
Нужно. Диодоров принимался за Винни-Пуха трижды. Один раз вместе с Геннадием Калиновским (ему принадлежит множество гениальных иллюстраций того времени и в частности — мистическая, гравюрная «Алиса» опять же в пересказе Заходера — за неё Калиновский получил в 1980/82-ом премию и диплом имени Ивана Фёдорова). Третья попытка и стала для Диодорова истинной вершиной творчества — в 1986-ом он был награждён за иллюстрации к книге «Винни-Пух и все-все-все» дипломом имени Ивана Фёдорова.
Комиссия фёдоровского конкурса была по меньшей потрясена — Диодоров прошёл весь заходеровский текст насквозь, вдоль и поперёк. Титул, шмуцтитул, название каждой главы и её окончание, рукописные отрывки текста со стихами медведя-поэта, всевозможные пошаговые действия (почти мультфильм!) главного героя и главное — огромные главные иллюстрации до предела насыщенные деталями, создающие глубину и перспективу, практическую, ощутимую ткань сопереживания тексту.
Диодоров вспоминал что рисовал мир медвежонка-поэта с мира собственного детства — запечатлённого в душе навсегда, настоящего, всамделишного: «Когда работал над Винни-Пухом, то делал это для внучки, ей было четыре года. По этой книге она и читать потом научилась. А рисовал я в «Винне-Пухе» свое детство: Григорчиково, шалаши, лес, игры наши…»
Игры наши...
Когда началась война Борису Диодорову не было и семи лет — он ноябрьский (здравствует до сих пор — чему мы искренне рады). Он прекрасно помнит как в полях за деревней (семья туда из Москвы уезжала на лето) разместилась зенитная батарея, кавалеристы. Помнит как вместе с отцом рыл землянку, укрываться от налётов и как он в той земляке наводил красоту: «Землянку я украсил ветками, корой, сделал плетёночки из ивняка и орешника вдоль стен, половички нашел какие-то. В любых условиях можно все устроить так, чтобы житьё было красивое…»
К осени Диодоровы вернулись в Москву. Что он помнит о том военном детстве? Только хорошее, как бы мы не были тому удивлены: «По вечерам — затемнение, сидели при коптилке! Читали какую-нибудь книжку вслух. А днем аэростаты вели по улицам — какое величественное зрелище! — и мы старались подержаться за тросы. Помогали взрослым тушить зажигалки на крышах. Бегали в кино смотреть фронтовые киносборники. На ночь уходили в метро, там были настилы дощатые на шпалах, мешочек вещевой кладешь под голову и спишь себе. Там был свет, можно читать. Я брал с собой толстую книгу Григория Адамова «Тайна двух океанов»; любил рисовать к этой книге, всякие там схватки с осьминогами. В метро все были заняты своим делом, не помню, чтобы какая-то паника была. Ходили туда как на работу. Только дедушка у нас никогда не ходил ни в метро, ни в землянку, которую вырыли во дворе. Он презирал всякую суету...»
Это дед и привил внуку любовь к книгам, почтение к печатному слову, к книжной иллюстрации. Так и получилось, так и получается в жизни — свет повсюду, если умеешь его увидеть и Борис Диодоров умел. Никогда не соглашался на халтуру, делал и переделывал каждую из работ по «сто раз отринув негодное». И выходит, вроде и «Винни-Пух и все-все-все», а вроде и книга бытия — нет в ней места стяжательству, злобе, зависти, бессмысленному соперничеству. Все в ней братья, все во одном лесу (стране) живут, всем всего хватает.
Про Заходера.
В конце 1939-го он вместе с друзьями-студентами Литинститута (был зачислен в поэтический семинар Павла Антокольского) ушёл добровольцем на советско-финскую. В 1940-ом вернулся, а 22-го июня 1941-го снова ушёл добровольцем на фронт. Карельский, Юго-Западный, освобождение Львова. Попутно стихи для газеты «Огонь по врагу». В 1946-ом демобилизовался и снова вернулся в Москву, в Литинститут. Повидал, выходит, всякого, а свет в душе не растерял и передал по наследству детям — всем детям Советского Союза, за который и воевал. Помните диодоровские слова про «житьё красивое»? Оно не из роскоши — оно из душевного опыта берётся.
Заходер, к слову, и «Мэри Поппинс» перевёл, и «Питер Пэн» на его счету. И тут вы скажете: «А где же советские произведения? Всё только на западных выезжали?» Советских — великое множество! Как там принято говорить на Западе? Минуточку!
Советские — это миры Николая Носова и Юрия Коваля. Это героические эпосы Виктора Драгунского и Владислава Крапивина. Это космические одиссеи Кира Булычёва и Братьев Стругацких. Это волшебные приключения Александра Волкова и Евгения Шварца. Это могучее наследие, мощный фундамент для многих и многих тех, кто ничем не отличается от нас, взрослых, разве что размером ботинок.
Размером ботинок...
А на книжных полках всё больше «чертовщина какая-то, честное слово!»
Ну, за то советского поубавилось, может и дышать кому легче стало...
А начат наш разговор с переводных текстов, потому как они для восприятия сложнее всего и именно в них, в том как они сделаны, как перенесены на неродную почву и проявлено высшее мастерство книжного советского дела — для детей.
Фёдор Хитрук, если что, тоже фронтовиком был. Командовал взводом радиоперехвата. После войны ещё два года военным переводчиком в Берлине служил, в 1947-ом вернулся на родной «Союзмультфильм». Всякого повидал. Наверно поэтому его Винни-Пух никогда не унывает и радостно вопит по случаю и без свои замечательные пыхтелки, сопелки, вопилки. «Житьё красивое» у того Винни-Пуха, вполне себе советское житьё. За совесть, за идею, за гуманизм. А если кто сомневается — так возьмите и пересмотрите.
Вот он идёт, прямо на вас, Винни-Пух из СССР, прямиком из детского фонда имени Ленина. Мысли его ясны, глаза честны и вот ещё что — нет у него никаких в голове опилок. Это кой у кого другого в голове опилки, может и есть, но только не у него.
Прав был всемогущий Главлит — хорошая книжка получилась, пропагандистская — надо брать.
Хочется сказать поборникам всего антисоветского: «Баранкин, будь человеком!»
Конечно — языком сказок и басен, былин и легенд, мыслящая часть общества во все времена доносила до читающей (или хотя бы внемлющей) части то, что сказать во всеуслышание было попросту нельзя. Или, можно, но с печальными последствиями. Поправимся — боже упаси нас рассказывать, будто вся детская литература Красной Империи была глубоко иносказательной, до ужаса политизированной (шиворот-навыворот) и необычайно двусмысленной. Совсем не так и где уж тут политика и двойное дно, скажем, в такой вот простейшей фразе-вопросе: «Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются?» И если это «недружественный выпад» от мистера О. Генри, то нам-то что делать, обнаружив таковой на странице достопочтенного и заверенного Главлитом советского издания в оригинальном переводе Нины Дарузес? Нина Дарузес это величина.
Вот он идёт себе уверенным шагом, а за ним летят пчёлы, те самые, что делают мёд. Настоящий. И всё это «жжж» более, чем неспроста. А что это за сомнительная надпись между Винни-Пухом и пчёлками? «Издательство «Дом» Советского детского фонда имени В.И. Ленина». Определённо, это провокация! Зато теперь мы в точности знаем как он выглядит — кровавый коммунистический режим! Как медведь с опилками в голове за которым летят пчёлы — только в таком варианте получается что мишка-то настоящий — потому как в умственных способностях пчёл (пусть и нарисованных) сомневаться не приходится.
Цензура. Тиски. Отсутствие воздуха. Нечем дышать. Затхлая атмосфера тотального соцреализма. Искусство на поводу у партии. Что-то забыли? Забыли — разговоры об эмиграции в советскую детскую литературу тех писателей и тех художников что во взрослой советской литературе и рта не могли открыть. Вот теперь картина у нас полная.
Чушь это всё.
Несусветная.
Если ты делаешь что-то для детей, скажем, пишешь или рисуешь, то ты и делаешь это именно что для детей. Иначе, если в каждое словечко и в каждый штришок кукиш «лично товарищу Сталину», а может кому и ещё заворачивать, получится не детская литература, а прессованные бытовые отходы, или попросту говоря... Вы поняли. Детей не обманешь. Конфету, это да, выманить можно, а вот обмануть по крупному — увольте. Они ж как барометры. Вот было ясно, было всё прекрасно, и раз — туча, буря, вырванные ураганом клочья волос по закоулкам и полный творческий провал именуемый фиаско: «Дядя Петя, ты дурак?» Определённо, и не только дурак, а ещё и... Редкостная сволочь.
Теперь так — в советской детской литературе дураков и сволочей не было. Может, где-то и не дотягивали — кто не без греха, но в целом — это была Высокая Литература — большевики, начиная с Горького и Луначарского, костьми ложились, но для детей готовы были на всё. Не только в культуре, но об этом отдельно.
Есть бриллианты такой чистоты и такой огранки, такой массы и такой невысчитываемой стоимости — что пусть нам весь мир позавидует. Правда, если мы сами те бриллианты на свалку истории не выкинем... С нами такое случается.
Два Бориса, один — Заходер, а другой — Диодоров, подарили советской детворе не просто смешного мишку-поэта, они подарили целый мир той самой небывалой справедливости, того самого неслыханного братства о которых так долго говорили вы сами знаете кто. На излёте СССР, в 1986-ом, Борис Диодоров закончил пятилетний труд — 200 с лишним иллюстраций к 240-страничной книге Алана Милна в пересказе Бориса Заходера «Винни-Пух и все-все-все». Такого триумфа наповал разящей сатиры(и иронии), душевной доброты и красоты запредельной по нашему скромному мнению мир не видывал. На тех страницах оживало сообщество весьма прогрессивных, не боящихся трудностей личностей и каждая из них была безусловной звездой первой величины.
Вам не смешно?
А когда вы последний на памяти раз перечитывали ЭТОГО Винни-Пуха?
Если никогда, то время ваше пришло.
Знаете, это как посмотреть в волшебный камень предсказывающий не то будущее, не то прошлое. «А так всё и получится?» «Когда-нибудь, непременно...»
Для пущей затравки — англичане текст пересказа Заходера перевели на свой английский обратно и всё потому, что смешно и пронзительно до невозможности, а ещё потому, что: «Особенно разбрасываться сотами не приходиться...» И то верно — мёд (даже и англичанам) с неба сам в руки-лапы не падает.
Такой там мир описан, не то чтобы в нём непрерывно сыпалась с неба сахарная пудра, или наличествовали кисельные берега, совсем нет. Просто все живут в достатке, не бедствуют и не голодают. У каждого свой домик и от каждого требуется что-то полезное по его способностям, а получает он вроде как и по труду, а если начистоту — то прям по потребностям. Не шикуют, это дело понятное, но и в серости не прозябают. Поют себе песни, книжки умные читают (кто умеет), сочиняют стихи (кто способен), ходят друг другу в гости, а ещё — совершают время от времени подвиги. Да, да — самые настоящие подвиги. Когда физические, когда душевные. И никто при том не ропщет (хандра и нытьё не в счёт — с кем не бывает).
Так что же это за мир такой? Это мир медведя с опилками в голове и его прекрасного друга Кристофера Робина? Или это мир развитого социализма плавно и неуклонно переходящего в коммунизм? Что это вообще такое и почему так хочется там оказаться — пролезть, протиснуться сквозь игольное ушко божественных рисунков-видений Бориса Диодорова и изящнейших словесных конструкций-мыслей Бориса Заходера? Что это вообще такое?.. Скажите уже, пожалуйста...
Счастье.
Такое дело чаще прочего называют Счастьем. С большой буквы.
Заходер перевёл книжку Милна в конце пятидесятых, она постепенно обрела своего читателя и набрала популярность, и, конечно, космическое ускорение ей придал Фёдор Хитрук — тремя своими мультфильмами, но это было — как увидеть тот мир в окне, а через книжку — как прямо в нём оказаться.
Книга своё взяла, была разобрана на цитаты и физиками и лириками, а вот мультфильм Хитрука Заходеру не понравился. Не легла ему на душу «говорящая бочка с ногами». Впрочем, это ведь дело каждого — каким именно представлять себе поэта и мечтателя. Александр Сергеевич наш — из арапов был, а Солнце поэзии русской. Жизнь полна всяческих сюрпризов.
«Что касается текста, мы поняли.
А про рисунки ещё раз можно?»
Нужно. Диодоров принимался за Винни-Пуха трижды. Один раз вместе с Геннадием Калиновским (ему принадлежит множество гениальных иллюстраций того времени и в частности — мистическая, гравюрная «Алиса» опять же в пересказе Заходера — за неё Калиновский получил в 1980/82-ом премию и диплом имени Ивана Фёдорова). Третья попытка и стала для Диодорова истинной вершиной творчества — в 1986-ом он был награждён за иллюстрации к книге «Винни-Пух и все-все-все» дипломом имени Ивана Фёдорова.
Комиссия фёдоровского конкурса была по меньшей потрясена — Диодоров прошёл весь заходеровский текст насквозь, вдоль и поперёк. Титул, шмуцтитул, название каждой главы и её окончание, рукописные отрывки текста со стихами медведя-поэта, всевозможные пошаговые действия (почти мультфильм!) главного героя и главное — огромные главные иллюстрации до предела насыщенные деталями, создающие глубину и перспективу, практическую, ощутимую ткань сопереживания тексту.
Диодоров вспоминал что рисовал мир медвежонка-поэта с мира собственного детства — запечатлённого в душе навсегда, настоящего, всамделишного: «Когда работал над Винни-Пухом, то делал это для внучки, ей было четыре года. По этой книге она и читать потом научилась. А рисовал я в «Винне-Пухе» свое детство: Григорчиково, шалаши, лес, игры наши…»
Игры наши...
Когда началась война Борису Диодорову не было и семи лет — он ноябрьский (здравствует до сих пор — чему мы искренне рады). Он прекрасно помнит как в полях за деревней (семья туда из Москвы уезжала на лето) разместилась зенитная батарея, кавалеристы. Помнит как вместе с отцом рыл землянку, укрываться от налётов и как он в той земляке наводил красоту: «Землянку я украсил ветками, корой, сделал плетёночки из ивняка и орешника вдоль стен, половички нашел какие-то. В любых условиях можно все устроить так, чтобы житьё было красивое…»
К осени Диодоровы вернулись в Москву. Что он помнит о том военном детстве? Только хорошее, как бы мы не были тому удивлены: «По вечерам — затемнение, сидели при коптилке! Читали какую-нибудь книжку вслух. А днем аэростаты вели по улицам — какое величественное зрелище! — и мы старались подержаться за тросы. Помогали взрослым тушить зажигалки на крышах. Бегали в кино смотреть фронтовые киносборники. На ночь уходили в метро, там были настилы дощатые на шпалах, мешочек вещевой кладешь под голову и спишь себе. Там был свет, можно читать. Я брал с собой толстую книгу Григория Адамова «Тайна двух океанов»; любил рисовать к этой книге, всякие там схватки с осьминогами. В метро все были заняты своим делом, не помню, чтобы какая-то паника была. Ходили туда как на работу. Только дедушка у нас никогда не ходил ни в метро, ни в землянку, которую вырыли во дворе. Он презирал всякую суету...»
Это дед и привил внуку любовь к книгам, почтение к печатному слову, к книжной иллюстрации. Так и получилось, так и получается в жизни — свет повсюду, если умеешь его увидеть и Борис Диодоров умел. Никогда не соглашался на халтуру, делал и переделывал каждую из работ по «сто раз отринув негодное». И выходит, вроде и «Винни-Пух и все-все-все», а вроде и книга бытия — нет в ней места стяжательству, злобе, зависти, бессмысленному соперничеству. Все в ней братья, все во одном лесу (стране) живут, всем всего хватает.
Про Заходера.
В конце 1939-го он вместе с друзьями-студентами Литинститута (был зачислен в поэтический семинар Павла Антокольского) ушёл добровольцем на советско-финскую. В 1940-ом вернулся, а 22-го июня 1941-го снова ушёл добровольцем на фронт. Карельский, Юго-Западный, освобождение Львова. Попутно стихи для газеты «Огонь по врагу». В 1946-ом демобилизовался и снова вернулся в Москву, в Литинститут. Повидал, выходит, всякого, а свет в душе не растерял и передал по наследству детям — всем детям Советского Союза, за который и воевал. Помните диодоровские слова про «житьё красивое»? Оно не из роскоши — оно из душевного опыта берётся.
Заходер, к слову, и «Мэри Поппинс» перевёл, и «Питер Пэн» на его счету. И тут вы скажете: «А где же советские произведения? Всё только на западных выезжали?» Советских — великое множество! Как там принято говорить на Западе? Минуточку!
Советские — это миры Николая Носова и Юрия Коваля. Это героические эпосы Виктора Драгунского и Владислава Крапивина. Это космические одиссеи Кира Булычёва и Братьев Стругацких. Это волшебные приключения Александра Волкова и Евгения Шварца. Это могучее наследие, мощный фундамент для многих и многих тех, кто ничем не отличается от нас, взрослых, разве что размером ботинок.
Размером ботинок...
А на книжных полках всё больше «чертовщина какая-то, честное слово!»
Ну, за то советского поубавилось, может и дышать кому легче стало...
А начат наш разговор с переводных текстов, потому как они для восприятия сложнее всего и именно в них, в том как они сделаны, как перенесены на неродную почву и проявлено высшее мастерство книжного советского дела — для детей.
Фёдор Хитрук, если что, тоже фронтовиком был. Командовал взводом радиоперехвата. После войны ещё два года военным переводчиком в Берлине служил, в 1947-ом вернулся на родной «Союзмультфильм». Всякого повидал. Наверно поэтому его Винни-Пух никогда не унывает и радостно вопит по случаю и без свои замечательные пыхтелки, сопелки, вопилки. «Житьё красивое» у того Винни-Пуха, вполне себе советское житьё. За совесть, за идею, за гуманизм. А если кто сомневается — так возьмите и пересмотрите.
Вот он идёт, прямо на вас, Винни-Пух из СССР, прямиком из детского фонда имени Ленина. Мысли его ясны, глаза честны и вот ещё что — нет у него никаких в голове опилок. Это кой у кого другого в голове опилки, может и есть, но только не у него.
Прав был всемогущий Главлит — хорошая книжка получилась, пропагандистская — надо брать.
Литиздат ПУРа
Первые литографии, ознаменовавшие послеоктябрьский период развития русского плаката, были выпущены издательством Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Р. К. К. и К. депутатов в 1918 году. С осени 1918 года возникли фронты Красной армии, начался подъем внутренней контрреволюции. Нащупав в литографии средство, способное организовать массовое сознание, революция не могла не использовать его в своей борьбе. Потребности, выраставшие вместе с организационным ростом республики, заставили реконструировать и расширить издательские аппараты нового советского государства. Издательство ВЦИК было поглощено Государственным Издательством, с центральным управлением в Москве. Издательство Ленинградского Совета преобразовалось в Ленинградское Отделение Государственного Издательства. Всероссийское бюро военных комиссаров реорганизовалось в Политическое Управление Реввоенсовета республики (ПУР), именно там возник литературно-издательский отдел целью которого было обслуживание Красной армии. На фронтах стали возникать филиалы Литиздата Пура — редакционно-издательские отделы фронтов и армий. Российское телеграфное агентство (Роста), раскинувшее сеть своих отделений в крупнейших центрах республики, также одной из своих основных задач поставило агитацию и пропаганду. Тем же целям служило центральное агентство по распределению произведений печати ВЦИК (Центропечать) с региональными отделениями. Позднее, в 1920 году, вся агитационно-пропагандистская работа была подчинена объединяющему руководству Главного политико-просветительного комитета (Главполитпросвет).
Уже к 1919 году новая республика была покрыта сетью издательских аппаратов. Главнейшая задача их заключалась в организации сознания трудящихся масс для противостояния врагам. Поскольку центральная роль в этой борьбе принадлежала Красной армии — видное место в истории печатной агитации и пропаганды было обеспечено за Литиздатом Пура. Литиздат Пура и стал основным продолжателем плакатной работы, основы которой были заложены издательством ВЦИК. Совместными усилиями перечисленных выше организаций за годы войны был создан русский революционный плакат.
С 1 июня 1919 г. в составе ПУР начал функционировать Литературно-издательский отдел (Литиздат), послуживший основой современного Государственного Военного издательства (Воениздата) - «для объединения и планомерной организации литературно-издательского дела, имеющего целью снабжение Красной Армии литературой».
Права как самостоятельного издательства были закреплены приказом РВСР от 25 октября 1919 года. Литиздат работал под контролем Госиздата и по общему плану, распоряжался выделенными типографиями и литографиями, бумагой и другими материалами. После выхода приказа РВСР выполнение заказов Литиздата было поручено типографиям — бывшие братьев Евдокимовых, И. Д. Сытина, К. И. Чероковой и некоторых других.
«Технические условия, в которых развивался революционный плакат, менее всего благоприятствовали его созданию. Этого не следует забывать при оценке результатов работы, производившейся в обстановке свирепого голода и жесточайшей хозяйственной разрухи. В эпоху военного коммунизма были взяты на учет каждый клочок бумаги, карандаш, плиточка краски. Это значит, что материалы исчезли из обращения; получить что-либо нередко оказывалось трудным до чрезвычайности. В зимние долгие месяцы, когда города, лишенные топлива, промерзали так, что вода исчезала из кранов и застывала краска в тюбиках, нужен был исключительный порыв, чтобы в таких условиях не бросить начатого дела. Эти обстоятельства, преодоленные в стадии подготовки рисунка, выступали на сцену, когда оригинал направлялся в литографию. У литографов, работавших в температуре, нередко доходившей до 6—8°, распухали пальцы от прикосновений к холодному литографскому камню, покрывалась трещинами кож на руках, делались неподвижными суставы, — и работа падала из рук. - В.Полонский «Русский революционный плакат». 1925 год
Дела пошли быстрее с ноября 1919 года, когда появилась возможность использовать и типографию - бывшую А. С. Суворина - в Нижнем Новгороде, сохранившую высокие мощности. Здесь печатали главным образом учебные пособия для красноармейцев. Возглавлял Литиздат известный критик и публицист Вячеслав Павлович Полонский (1886—1932).
В составе Литиздата были образованы три редакции — военно-политическая, военно-техническая и военно-педагогическая. В военно-политической работали маститые военные и партийные деятели — Р. П. Катаян, В. А. Антонов-Овсеенко, М. С. Ольминский, П. М. Керженцев. В первые месяцы после организации эта редакция выпустила много военно-агитационных материалов — листовок, плакатов, лубочных картин. Ставшие уже классическими плакаты художников В. Н. Дени, Д. С. Моора, H. Н. Когоута, Б. Е. Ефимова, М. М. Черемныха, А. П. Апсита, Н. Кочергина, порой сопровождались стихами Демьяна Бедного и В. И. Лебедева-Кумача. В 1922 году художнику Д. С. Моору в специальном приказе Реввоенсовета Республики была объявлена благодарность за «героическую работу по роду его оружия: карандаша и кисти». Особенно любил народ листовки с текстами Демьяна Бедного - «Большая штука — наука (частушки Западного фронта)», «Манифест барона фон-Врангеля», «Обманутым братьям в белогвардейские окопы». За литературную деятельность в годы гражданской войны Демьян Бедный награжден орденом Красного Знамени. Множество авторов плакатов того времени остались безымянными
За первый год с 1 июня 1919 по 1 июня 1920 Литиздат выпустил порядка 60 плакатов тиражом от 25 до 100 тысяч экземпляров каждый и 59 листовок тиражом 100—500 тысяч экземпляров. В том числе и для агитпоездов. Книги и брошюры агитпропаганды для армии выпускал агитационно-пропагандистский отдел Госиздата, поэтому в списке изданий Литиздата за 1919 год такая литература почти отсутствовала. В 1919 году началось издание серии «Библиотека красноармейца», в которую вошли четыре брошюры, в том числе «За что воюют рабочие и крестьяне» Г. Горского и «Как Советская власть заботится о красноармейцах и их семьях» С. А. Гарина. В 1920 году стартовала польская кампания, в связи с этим выросла потребность в военной агитационно-пропагандистской литературе. Литиздат самостоятельно от Госиздата приступает к ее выпуску - С. С. Кислянского «Фронт и тыл в борьбе с польскими белогвардейцами», М. П. Павлович «Война с польскими панами». Для Западного фронта на четырех языках (русском, польском, белорусском, укр-ском) тиражом 75— 100 тысяч экземпляров выходит книга Тадеуша Радванского «Правда о войне Польши с Советской Россией». Хитом среди красноармейцов становится «Спутник красноармейца», изданный тиражом 250 тысяч. Этот справочник содержал в себе текст Конституции РСФСР, программу РКП (б), биографии отцов основателей и активных деятелей международного революционного движения, статьи о задачах Красной Армии, уставные требования, табель-календарь исторических событий и полезная информация.
Не только Литиздат Пура, созданный для военной агитации, но и гражданские издательства работу вели под боевым углом зрения. Необходимо подчеркнуть, что милитарный, воинственный дух, пронизывая нашу прессу, агитацию и пропаганду, вздымался из глубоких недр коллективного сознания, продиктован был инстинктом классового и национального самосохранения. По содержанию и внешнему виду многие плакаты, выпущенные Государственным Издательством, Роста, Главполитпросветом и другими не военными учреждениями, мало чем отличались от военных плакатов, хотя задачи этих издательств, охватывавшие все потребности созидавшегося быта, были неизмеримо шире задач, поставленных Литиздату Пура. - В.Полонский, там же
Так же Литиздат взял на себя ответственность по ликвидации безграмотности и повышению уровня образования среди воинов Красной армии. В виде книг и брошюр выходили программы для красноармейских школ 1, 2 и 3-й ступени по родному языку, истории, обществоведению и природоведению. Воевать вечно было невозможно, зрела необходимость подготовить солдат и командиров к миру, в первую очередь к труду. Демобилизованные должны были стать живой пропагандой советского образа жизни в деревне, организаторами кооперативов, инициаторами введения современных методов работы в сельском хозяйстве.
На городских фабриках и заводах вчерашние бойцы должны были оперативно перестроиться для работы на самых сложных участках. В связи с этим, военно-политическая редакция Литиздата с 1920 года. начинает выпуск книг, посвященных экономике и хозяйственной политике новой страны: «Как Советская власть хочет облегчить положение крестьян» С. С. Кислянского , «О войне трудящихся с разрухой», «Организация народного хозяйства РСФСР, ВСНХ и профсоюзы» В. А. Трифонова, и прочие
Военно-техническая редакция Литиздата по сравнению с другими отделами провисала по объемам работы. Это были в основном краткие руководства, такие как «Действия в горах», «Памятка орудийному начальнику легкой артиллерии». И если в 1919 году выпускаемая литература составляла 10 процентов от всего объема Литиздата, то второй половине 1920 объем увеличился до трети. Это было связано с наступлением периода систематической и основательной военной подготовки рядовых и командующего состава. Ответом на развитие авиации стало создание в 1918 году Издательства Воздушного Флота,в 1920 оно было переименовано в «Авиаиздательство», что официально закреплено приказом РВСР в сентябре 1920 года. Оно также подчинялось Литиздату ПУР по редакционным и финансовые вопросам, по административным отвечало перед начальником Главного управления Рабоче-крестьянского Воздушного флота.
Всего за полтора года с 1 июня 1919 года по 1 января 1921 Литературно-издательский отдел ПУР выпустил около 30 миллионов экземпляров разных изданий: свыше 6 миллионов книг и брошюр, порядка 13 миллионов листовок и призывов, до 6 миллионов плакатов и лубочных картин, 300 тысяч военно-научных таблиц, 1,5 миллиона открытых писем, свыше 3 миллионов - газет и журналов.
Темы плакатов, изданных Литиздатом Пура (по списку, составленному руководителем В.Полонским в 1925 году): 1) посвященные обороне Москвы, 2) Петрограда, 3) Тулы, 4) Урала; 5) направленные против Деникина, 6) Юденича, 7) Врангеля, 8) Колчака, 9) Польши; 10) плакаты, обращенные к польским солдатам — на польском языке, 11) к украинцам — на украинском, 12) к народам Кавказа — на кавказских языках; 13) плакаты, направленные на борьбу с дезертирством, 14) борющиеся с трудовым разгильдяйством, 15) рисующие зверства белых, 16) раскрывающие вожделения белогвардейцев, 17) разоблачающие хищничество Антанты, 16) поясняющие необходимость отвоевания занятых белыми территорий; 19) плакаты, посвященные международному единению пролетариев, 20) первомайскому празднику, 21) годовщине Октябрьской революции, 22) движению женщин-работниц, 23) движению молодежи; 24) направленные против церкви, 25) призывающие сдавать оружие, 26) пропагандирующие идеи всеобщего военного обучения, 27) предостерегающие против шпионов, 26) зовущие к борьбе с нечистоплотностью, 29) взывающие о помощи больным и раненым красноармейцам, 30) вербующие добровольцев, 31) приглашающие рабочих идти в кавалерию. Наконец, когда наряду с военными заботами возникали вопросы подъема хозяйства и развития просвещения, на улицу выбрасывались плакаты: 32) с трудовыми лозунгами, 33) посвященные борьбе с неграмотностью, 34) сохранению и улучшению транспорта, 35) финансовым нуждам страны, 36) культурно-просветительным и хозяйственным потребностям деревни, и много других.
Мария Мальцева-Самойлович.
Уже к 1919 году новая республика была покрыта сетью издательских аппаратов. Главнейшая задача их заключалась в организации сознания трудящихся масс для противостояния врагам. Поскольку центральная роль в этой борьбе принадлежала Красной армии — видное место в истории печатной агитации и пропаганды было обеспечено за Литиздатом Пура. Литиздат Пура и стал основным продолжателем плакатной работы, основы которой были заложены издательством ВЦИК. Совместными усилиями перечисленных выше организаций за годы войны был создан русский революционный плакат.
С 1 июня 1919 г. в составе ПУР начал функционировать Литературно-издательский отдел (Литиздат), послуживший основой современного Государственного Военного издательства (Воениздата) - «для объединения и планомерной организации литературно-издательского дела, имеющего целью снабжение Красной Армии литературой».
Права как самостоятельного издательства были закреплены приказом РВСР от 25 октября 1919 года. Литиздат работал под контролем Госиздата и по общему плану, распоряжался выделенными типографиями и литографиями, бумагой и другими материалами. После выхода приказа РВСР выполнение заказов Литиздата было поручено типографиям — бывшие братьев Евдокимовых, И. Д. Сытина, К. И. Чероковой и некоторых других.
«Технические условия, в которых развивался революционный плакат, менее всего благоприятствовали его созданию. Этого не следует забывать при оценке результатов работы, производившейся в обстановке свирепого голода и жесточайшей хозяйственной разрухи. В эпоху военного коммунизма были взяты на учет каждый клочок бумаги, карандаш, плиточка краски. Это значит, что материалы исчезли из обращения; получить что-либо нередко оказывалось трудным до чрезвычайности. В зимние долгие месяцы, когда города, лишенные топлива, промерзали так, что вода исчезала из кранов и застывала краска в тюбиках, нужен был исключительный порыв, чтобы в таких условиях не бросить начатого дела. Эти обстоятельства, преодоленные в стадии подготовки рисунка, выступали на сцену, когда оригинал направлялся в литографию. У литографов, работавших в температуре, нередко доходившей до 6—8°, распухали пальцы от прикосновений к холодному литографскому камню, покрывалась трещинами кож на руках, делались неподвижными суставы, — и работа падала из рук. - В.Полонский «Русский революционный плакат». 1925 год
Дела пошли быстрее с ноября 1919 года, когда появилась возможность использовать и типографию - бывшую А. С. Суворина - в Нижнем Новгороде, сохранившую высокие мощности. Здесь печатали главным образом учебные пособия для красноармейцев. Возглавлял Литиздат известный критик и публицист Вячеслав Павлович Полонский (1886—1932).
В составе Литиздата были образованы три редакции — военно-политическая, военно-техническая и военно-педагогическая. В военно-политической работали маститые военные и партийные деятели — Р. П. Катаян, В. А. Антонов-Овсеенко, М. С. Ольминский, П. М. Керженцев. В первые месяцы после организации эта редакция выпустила много военно-агитационных материалов — листовок, плакатов, лубочных картин. Ставшие уже классическими плакаты художников В. Н. Дени, Д. С. Моора, H. Н. Когоута, Б. Е. Ефимова, М. М. Черемныха, А. П. Апсита, Н. Кочергина, порой сопровождались стихами Демьяна Бедного и В. И. Лебедева-Кумача. В 1922 году художнику Д. С. Моору в специальном приказе Реввоенсовета Республики была объявлена благодарность за «героическую работу по роду его оружия: карандаша и кисти». Особенно любил народ листовки с текстами Демьяна Бедного - «Большая штука — наука (частушки Западного фронта)», «Манифест барона фон-Врангеля», «Обманутым братьям в белогвардейские окопы». За литературную деятельность в годы гражданской войны Демьян Бедный награжден орденом Красного Знамени. Множество авторов плакатов того времени остались безымянными
За первый год с 1 июня 1919 по 1 июня 1920 Литиздат выпустил порядка 60 плакатов тиражом от 25 до 100 тысяч экземпляров каждый и 59 листовок тиражом 100—500 тысяч экземпляров. В том числе и для агитпоездов. Книги и брошюры агитпропаганды для армии выпускал агитационно-пропагандистский отдел Госиздата, поэтому в списке изданий Литиздата за 1919 год такая литература почти отсутствовала. В 1919 году началось издание серии «Библиотека красноармейца», в которую вошли четыре брошюры, в том числе «За что воюют рабочие и крестьяне» Г. Горского и «Как Советская власть заботится о красноармейцах и их семьях» С. А. Гарина. В 1920 году стартовала польская кампания, в связи с этим выросла потребность в военной агитационно-пропагандистской литературе. Литиздат самостоятельно от Госиздата приступает к ее выпуску - С. С. Кислянского «Фронт и тыл в борьбе с польскими белогвардейцами», М. П. Павлович «Война с польскими панами». Для Западного фронта на четырех языках (русском, польском, белорусском, укр-ском) тиражом 75— 100 тысяч экземпляров выходит книга Тадеуша Радванского «Правда о войне Польши с Советской Россией». Хитом среди красноармейцов становится «Спутник красноармейца», изданный тиражом 250 тысяч. Этот справочник содержал в себе текст Конституции РСФСР, программу РКП (б), биографии отцов основателей и активных деятелей международного революционного движения, статьи о задачах Красной Армии, уставные требования, табель-календарь исторических событий и полезная информация.
Не только Литиздат Пура, созданный для военной агитации, но и гражданские издательства работу вели под боевым углом зрения. Необходимо подчеркнуть, что милитарный, воинственный дух, пронизывая нашу прессу, агитацию и пропаганду, вздымался из глубоких недр коллективного сознания, продиктован был инстинктом классового и национального самосохранения. По содержанию и внешнему виду многие плакаты, выпущенные Государственным Издательством, Роста, Главполитпросветом и другими не военными учреждениями, мало чем отличались от военных плакатов, хотя задачи этих издательств, охватывавшие все потребности созидавшегося быта, были неизмеримо шире задач, поставленных Литиздату Пура. - В.Полонский, там же
Так же Литиздат взял на себя ответственность по ликвидации безграмотности и повышению уровня образования среди воинов Красной армии. В виде книг и брошюр выходили программы для красноармейских школ 1, 2 и 3-й ступени по родному языку, истории, обществоведению и природоведению. Воевать вечно было невозможно, зрела необходимость подготовить солдат и командиров к миру, в первую очередь к труду. Демобилизованные должны были стать живой пропагандой советского образа жизни в деревне, организаторами кооперативов, инициаторами введения современных методов работы в сельском хозяйстве.
На городских фабриках и заводах вчерашние бойцы должны были оперативно перестроиться для работы на самых сложных участках. В связи с этим, военно-политическая редакция Литиздата с 1920 года. начинает выпуск книг, посвященных экономике и хозяйственной политике новой страны: «Как Советская власть хочет облегчить положение крестьян» С. С. Кислянского , «О войне трудящихся с разрухой», «Организация народного хозяйства РСФСР, ВСНХ и профсоюзы» В. А. Трифонова, и прочие
Военно-техническая редакция Литиздата по сравнению с другими отделами провисала по объемам работы. Это были в основном краткие руководства, такие как «Действия в горах», «Памятка орудийному начальнику легкой артиллерии». И если в 1919 году выпускаемая литература составляла 10 процентов от всего объема Литиздата, то второй половине 1920 объем увеличился до трети. Это было связано с наступлением периода систематической и основательной военной подготовки рядовых и командующего состава. Ответом на развитие авиации стало создание в 1918 году Издательства Воздушного Флота,в 1920 оно было переименовано в «Авиаиздательство», что официально закреплено приказом РВСР в сентябре 1920 года. Оно также подчинялось Литиздату ПУР по редакционным и финансовые вопросам, по административным отвечало перед начальником Главного управления Рабоче-крестьянского Воздушного флота.
Всего за полтора года с 1 июня 1919 года по 1 января 1921 Литературно-издательский отдел ПУР выпустил около 30 миллионов экземпляров разных изданий: свыше 6 миллионов книг и брошюр, порядка 13 миллионов листовок и призывов, до 6 миллионов плакатов и лубочных картин, 300 тысяч военно-научных таблиц, 1,5 миллиона открытых писем, свыше 3 миллионов - газет и журналов.
Темы плакатов, изданных Литиздатом Пура (по списку, составленному руководителем В.Полонским в 1925 году): 1) посвященные обороне Москвы, 2) Петрограда, 3) Тулы, 4) Урала; 5) направленные против Деникина, 6) Юденича, 7) Врангеля, 8) Колчака, 9) Польши; 10) плакаты, обращенные к польским солдатам — на польском языке, 11) к украинцам — на украинском, 12) к народам Кавказа — на кавказских языках; 13) плакаты, направленные на борьбу с дезертирством, 14) борющиеся с трудовым разгильдяйством, 15) рисующие зверства белых, 16) раскрывающие вожделения белогвардейцев, 17) разоблачающие хищничество Антанты, 16) поясняющие необходимость отвоевания занятых белыми территорий; 19) плакаты, посвященные международному единению пролетариев, 20) первомайскому празднику, 21) годовщине Октябрьской революции, 22) движению женщин-работниц, 23) движению молодежи; 24) направленные против церкви, 25) призывающие сдавать оружие, 26) пропагандирующие идеи всеобщего военного обучения, 27) предостерегающие против шпионов, 26) зовущие к борьбе с нечистоплотностью, 29) взывающие о помощи больным и раненым красноармейцам, 30) вербующие добровольцев, 31) приглашающие рабочих идти в кавалерию. Наконец, когда наряду с военными заботами возникали вопросы подъема хозяйства и развития просвещения, на улицу выбрасывались плакаты: 32) с трудовыми лозунгами, 33) посвященные борьбе с неграмотностью, 34) сохранению и улучшению транспорта, 35) финансовым нуждам страны, 36) культурно-просветительным и хозяйственным потребностям деревни, и много других.
Мария Мальцева-Самойлович.
От МОЛПОСНОВИС до УНОВИС
«Ниспровержение старого мира искусств да будет высечено на ваших ладонях» - такие слова можно было найти в манифесте витебского объединения УНОВИС. Общее настроение по отмене классического мира искусства отражало веяния, связанные с построением нового мира, нового государства, новых людей. Марк Захарович Шагал в 1918 году решил тоже построить новый мир — Народное художественное училище, в котором искусству мог бы учиться каждый. Мечтал Шагал и о Музее современного искусства. Вернувшийся из Парижа, мастер стал уполномоченным по делам искусств Витебской губернии, появились соответствующие ресурсы и возможности для создания «нечто совершенного иного».
Под новое учебное заведение власти выделяют двухэтажный особняк на улице Бухаринская, дом 10. Не думал в 1912 году известный банкир и купец 1-ой гильдии Израиль Вульфович Вишняк, когда подавал в Витебскую городскую управу прошение о разрешении построить «каменный дом и надворные службы во 2-ой части г. Витебска по Воскресенской улице», что это здание станет известно на весь мир, как центр искусства, поменявший ход самого искусства. 28 января 1919 года состоялось официальное открытие ВНХУ. Кстати, среди документов ГАВО хранятся подробные описи имущества Витебского народного художественного училища (1922 и 1923 гг.), по которым понятно, что даже за 5 лет после национализации огромное количество личного имущества Израиля Вишняка сохранялось: «Шкаф карельской березы с зеркалом, английские коридорные часы, в шкафу красного дерева, картина «Сосны». В начале осени 1921 года семья Вишняка просит предоставить в доме по ул. Бухаринской, 10 «угол (но вместительный и с ванной)», но администрация отказывает в этой просьбе. В новой стране все для искусства.
28 января 1919 года состоялось официальное открытие учебного заведения. «На улице Бухарина было очень шумно, празднично, необычно… Открывали Витебское народное художественное училище, помню, сам Шагал, Добужинский, Ксения Богуславская, кто-то еще», — воспоминание ученика школы и охранника Марка Шагала Валентина Антощенко-Оленева.
В ВНХУ были утверждены мастерские скульптуры, живописи, подготовительная мастерская, мастерская архитектуры, печати и графики, прикладных искусств. «Мы можем себе позволить роскошь „играть с огнем“, и в наших стенах представлены и функционируют свободно руководства и мастерские всех направлений от левого до „правых“ включительно», — писал Марк Шагал в журнале «Школа и революция». В мае 1919 года он приглашает в школу архитектора Лазаря Лисицкого, который в свою очередь, буквально вытаскивает в Витебск Казимира Малевича, находящегося в то время в крайне затруднительной финансовой ситуации. Витебск, в отличие от столиц не так страдал от голода и отсутствия необходимых продуктов питания. Развернув крылья, Казимир Северинович в январе 1920 года создает первое творческое объединение в рамках училища - МОЛПОСНОВИС - «Молодые последователи нового искусства». Через несколько дней, когда к группе примкнули преподаватели, коллектив поменял название на ПОСНОВИС — «Последователи нового искусства». Их первым пробным шаром, который стал переломным моментом в жизни училища, стала футуристическая опера «Победа над солнцем» в Латышском театре Витебска и «Супрематический балет». Уже 14 февраля происходит создание УНОВИСа. Они называют себя Утвердителями нового искусства. Кто они? Казимир Малевич, Вера Ермолаева, Лазарь Хидекель, Илья Чашник, Давид Якерсон, Николай Суетин, Эль Лисицкий, Евгения Магарил, Лев Юдин, Нина Коган, и другие художники. Их эмблемой становится черный квадрат, который носят на рукаве. Казимир Малевич, у которого через неделю рождается дочь, называет ее Уной. В честь УНОВИСа.
«Нужна ли мудрость нашей современности тому, кто пробьет синий абажур и сорвется навсегда в вечно новом пути? …Нужны ли сальные лучи прошлого, когда на голове ношу лампы электричества и телескопы? …Вместо того, чтобы собирать всякое старье, необходимо образовать лаборатории мирового строительного аппарата, и из его осей выйдут художники живых форм, а не мертвых изображений предметности… Пусть консерваторы едут с мертвым багажом в провинции с блудливыми амурами прошлых развратных домов Рубенсов и Греков. А мы повезем двутавровые балки, электричество и огни цветов». - Казимир Малевич, «О музее»
Приход в мир машин и нового экономического порядка по мнению Малевича приводит к сдвигу в сознании человека, влечет социальные изменения, и в связи с таким рывком, происходит трансформация понятия «художник», который выходит за рамки живописи и становится изобретателем, техническим творцом. Малевич отрицает копирование вещей, что приводит к беспредметности супрематизма как системы нового порядка. Эстетика уступает место экономии изображения, в следствии чего этот образ высвобождает и содержит энергию. Легко сказать, но за вложенное государством было не так просто откреститься словами — технические творцы должны были создавать максимально полезные для общества произведения. В 1919 и 1920 годах УНОВИСу было поручено оформить Витебск к новым революционным праздникам. В 1918 году Шагал уже оформлял свой Витебск в характерной для него более поэтической манере. УНОВИС захватил супрематизмом все — фасады зданий, транспорт, включая пароходы и трамваи, вывески, знамена, плакаты трибуны.
«Странный провинциальный город. Как многие города Западного края — из красного кирпича. Закоптелого и унылого. Но этот город особенно странный. Здесь главные улицы покрыты белой краской по красным кирпичам. А по белому фону разбежались зеленые круги. Оранжевые квадраты. Синие прямоугольники… Супрематические конфетти, разбросанные по улицам ошарашенного города» - воспоминание Сергея Эйзенштейна от посещения Витебска в 1920 году
В июне 1920 года выходит первый номер альманаха «УНОВИС №1», в котором напечатана декларация объединения. Супрематические конфетти кружат голову, к маю 1920 года в мастерской Марка Захаровича Шагала остается несколько человек, по возвращению из Москвы с купленными им работами для Музея современного искусства, мастер видит на двери своей мастерской имя другого мастера — Малевича. Шагал покидает Витебск навсегда.
Многие молодые художники, да что там, все мечтают о том, как они завоюют Москву. Но не все могут себе позволить въехать в столицу в личном вагоне. УНОВИС в июне 1920 появилось на Первой Всероссийской конференции учащих и учащихся искусству, приехав на супрематическом вагоне, оформленном Николаем Суетиным. В октябре того же года молодые и задорные супрематисты расшевелили Смоленск, где проходила областная конференция. Особенно зацепила народ трибуна в стиле супрематизма, разработанная Ильей Чашником. Там же находятся сторонники движения — Катажина Кобро и Владислав Стржеминский, и в Смоленске открывается филиал УНОВИСа. Такие филиалы были открыты в Перми, Саратове, Оренбурге, Одессе. Налаживается связь с Германией. Напечатана книжка с супрематическими рисунками Малевича, литографии с работами мастерских, во время выставок объединения идет активное разъяснение своих идей самими художниками, паровоз с вагонами двигался, набирая обороты, и, казалось, ничего не может его остановить.
«Итак, зная, какие основные моменты преследует партия, ставлю вопрос: нужна ли партия в искусстве, там, где оно должно быть свободным, творящим и созидающим; должно ли оно быть связано известными законами партии, партийной дисциплиной и тем самым потерять необходимую ей свободу. — Да! — В настоящий хаотический момент в искусстве, когда рушатся все атрибуты старого, сгнившего академизма, когда хотят предоставить художникам одно лишь полотно да памятники, когда есть класс художников, желающих воскресить весь этот сгнивший, никому не нужный хлам, когда хотят новый наш смысл, наши мысли о сооружениях нового мира втиснуть в рамки уходящего и давно ушедшего мира; в этот революционный момент нам всем, жаждущим действительного раскрепощения искусства… необходимо организоваться в партию» - Моисей Кунин, «УНОВИС №2», январь 1921
В те годы настроения и движения менялись так часто, что настал тот час, когда изменилась и политика в отношении «левого» искусства. Владимир Ильич Ленин выступил с «Положением об управлении высшими учебными заведениями», упразднившее автономию высшей школы страны, за ней произошла реорганизация Наркомпроса и авангард стал намеренно задвигаться в дальний угол. И Малевич со своей «Партией супрематистов», в которую трансформировался УНОВИС, оказался не совсем желанным гостем на этом празднике новой жизни.
Третья выставка УНОВИС состоялась в 1922 году в Витебске. И в том же году проходит первый выпуск ВНХУ (за три года школа четыре раза поменяет свое название) . Дипломантами становятся 11 человек, из которых бОльшая часть — последователи супрематизма. В 1922 году Малевич пишет Лисицкому в Берлин из Витебска о голоде и скорбях, посетивших провинцию. Поэтому Казимир Северинович начинает движение в Петроград. За ним последуют и преподаватели, и ученики мастера. УНОВИС вливается в коллектив Института художественной культуры — ГИНХУК. Далее будут архитектурные серьезные работы Лазаря Хидекеля, и вроде бы несерьезные работы в «Чиже» и «Еже» Веры Ермолаевой, растрелянной в 1937 году, проуны Эль Лисицкого и его ранняя смерть в 1941 от туберкулеза, дизайн и фарфор Ильи Чашника, скончавшегося от перитонита в 1929, архитектоны и вся жизнь, отданная Ленинградскому Фарфоровому заводу Николая Суетина. С их отъездом с берегов Западной Двины, таких молодых, верных своему учителю и новому искусству нового времени, закончится краткий миг, когда перемещающаяся по своим законам столица мирового искусства воцарилась в Витебске. Городе, небо которого воспоет на весь мир Шагал, в котором Казимир Малевич старательно вглядывался в космос через телескоп, купленный непостижимым образом среди разрухи и голода.
«Малевич умел внушить неограниченную веру в себя. Ученики боготворили его, как Наполеона — армия». - Николай Пунин, художественный критик, историк русского искусства.
Судьба Витебского музея современного искусства трагична так же, как и судьбы большинства членов УНОВИСа. Фонды разворованы, переданы в другие музеи, от всей коллекции художников, которых во всем мире почитают как русских авангардистов, преподавателей и учеников Витебского народного художественного училища осталось одно единственное произведение. А здание покинувшего город в 1920 году одновременно с Марком Шагалом, Израиля Вишняка в целости и сохранности занимает Музей ВНХУ. А улица Бухаринская теперь носит имя летавшего в небе над ней Шагала.
Мария Мальцева-Самойлович.
Под новое учебное заведение власти выделяют двухэтажный особняк на улице Бухаринская, дом 10. Не думал в 1912 году известный банкир и купец 1-ой гильдии Израиль Вульфович Вишняк, когда подавал в Витебскую городскую управу прошение о разрешении построить «каменный дом и надворные службы во 2-ой части г. Витебска по Воскресенской улице», что это здание станет известно на весь мир, как центр искусства, поменявший ход самого искусства. 28 января 1919 года состоялось официальное открытие ВНХУ. Кстати, среди документов ГАВО хранятся подробные описи имущества Витебского народного художественного училища (1922 и 1923 гг.), по которым понятно, что даже за 5 лет после национализации огромное количество личного имущества Израиля Вишняка сохранялось: «Шкаф карельской березы с зеркалом, английские коридорные часы, в шкафу красного дерева, картина «Сосны». В начале осени 1921 года семья Вишняка просит предоставить в доме по ул. Бухаринской, 10 «угол (но вместительный и с ванной)», но администрация отказывает в этой просьбе. В новой стране все для искусства.
28 января 1919 года состоялось официальное открытие учебного заведения. «На улице Бухарина было очень шумно, празднично, необычно… Открывали Витебское народное художественное училище, помню, сам Шагал, Добужинский, Ксения Богуславская, кто-то еще», — воспоминание ученика школы и охранника Марка Шагала Валентина Антощенко-Оленева.
В ВНХУ были утверждены мастерские скульптуры, живописи, подготовительная мастерская, мастерская архитектуры, печати и графики, прикладных искусств. «Мы можем себе позволить роскошь „играть с огнем“, и в наших стенах представлены и функционируют свободно руководства и мастерские всех направлений от левого до „правых“ включительно», — писал Марк Шагал в журнале «Школа и революция». В мае 1919 года он приглашает в школу архитектора Лазаря Лисицкого, который в свою очередь, буквально вытаскивает в Витебск Казимира Малевича, находящегося в то время в крайне затруднительной финансовой ситуации. Витебск, в отличие от столиц не так страдал от голода и отсутствия необходимых продуктов питания. Развернув крылья, Казимир Северинович в январе 1920 года создает первое творческое объединение в рамках училища - МОЛПОСНОВИС - «Молодые последователи нового искусства». Через несколько дней, когда к группе примкнули преподаватели, коллектив поменял название на ПОСНОВИС — «Последователи нового искусства». Их первым пробным шаром, который стал переломным моментом в жизни училища, стала футуристическая опера «Победа над солнцем» в Латышском театре Витебска и «Супрематический балет». Уже 14 февраля происходит создание УНОВИСа. Они называют себя Утвердителями нового искусства. Кто они? Казимир Малевич, Вера Ермолаева, Лазарь Хидекель, Илья Чашник, Давид Якерсон, Николай Суетин, Эль Лисицкий, Евгения Магарил, Лев Юдин, Нина Коган, и другие художники. Их эмблемой становится черный квадрат, который носят на рукаве. Казимир Малевич, у которого через неделю рождается дочь, называет ее Уной. В честь УНОВИСа.
«Нужна ли мудрость нашей современности тому, кто пробьет синий абажур и сорвется навсегда в вечно новом пути? …Нужны ли сальные лучи прошлого, когда на голове ношу лампы электричества и телескопы? …Вместо того, чтобы собирать всякое старье, необходимо образовать лаборатории мирового строительного аппарата, и из его осей выйдут художники живых форм, а не мертвых изображений предметности… Пусть консерваторы едут с мертвым багажом в провинции с блудливыми амурами прошлых развратных домов Рубенсов и Греков. А мы повезем двутавровые балки, электричество и огни цветов». - Казимир Малевич, «О музее»
Приход в мир машин и нового экономического порядка по мнению Малевича приводит к сдвигу в сознании человека, влечет социальные изменения, и в связи с таким рывком, происходит трансформация понятия «художник», который выходит за рамки живописи и становится изобретателем, техническим творцом. Малевич отрицает копирование вещей, что приводит к беспредметности супрематизма как системы нового порядка. Эстетика уступает место экономии изображения, в следствии чего этот образ высвобождает и содержит энергию. Легко сказать, но за вложенное государством было не так просто откреститься словами — технические творцы должны были создавать максимально полезные для общества произведения. В 1919 и 1920 годах УНОВИСу было поручено оформить Витебск к новым революционным праздникам. В 1918 году Шагал уже оформлял свой Витебск в характерной для него более поэтической манере. УНОВИС захватил супрематизмом все — фасады зданий, транспорт, включая пароходы и трамваи, вывески, знамена, плакаты трибуны.
«Странный провинциальный город. Как многие города Западного края — из красного кирпича. Закоптелого и унылого. Но этот город особенно странный. Здесь главные улицы покрыты белой краской по красным кирпичам. А по белому фону разбежались зеленые круги. Оранжевые квадраты. Синие прямоугольники… Супрематические конфетти, разбросанные по улицам ошарашенного города» - воспоминание Сергея Эйзенштейна от посещения Витебска в 1920 году
В июне 1920 года выходит первый номер альманаха «УНОВИС №1», в котором напечатана декларация объединения. Супрематические конфетти кружат голову, к маю 1920 года в мастерской Марка Захаровича Шагала остается несколько человек, по возвращению из Москвы с купленными им работами для Музея современного искусства, мастер видит на двери своей мастерской имя другого мастера — Малевича. Шагал покидает Витебск навсегда.
Многие молодые художники, да что там, все мечтают о том, как они завоюют Москву. Но не все могут себе позволить въехать в столицу в личном вагоне. УНОВИС в июне 1920 появилось на Первой Всероссийской конференции учащих и учащихся искусству, приехав на супрематическом вагоне, оформленном Николаем Суетиным. В октябре того же года молодые и задорные супрематисты расшевелили Смоленск, где проходила областная конференция. Особенно зацепила народ трибуна в стиле супрематизма, разработанная Ильей Чашником. Там же находятся сторонники движения — Катажина Кобро и Владислав Стржеминский, и в Смоленске открывается филиал УНОВИСа. Такие филиалы были открыты в Перми, Саратове, Оренбурге, Одессе. Налаживается связь с Германией. Напечатана книжка с супрематическими рисунками Малевича, литографии с работами мастерских, во время выставок объединения идет активное разъяснение своих идей самими художниками, паровоз с вагонами двигался, набирая обороты, и, казалось, ничего не может его остановить.
«Итак, зная, какие основные моменты преследует партия, ставлю вопрос: нужна ли партия в искусстве, там, где оно должно быть свободным, творящим и созидающим; должно ли оно быть связано известными законами партии, партийной дисциплиной и тем самым потерять необходимую ей свободу. — Да! — В настоящий хаотический момент в искусстве, когда рушатся все атрибуты старого, сгнившего академизма, когда хотят предоставить художникам одно лишь полотно да памятники, когда есть класс художников, желающих воскресить весь этот сгнивший, никому не нужный хлам, когда хотят новый наш смысл, наши мысли о сооружениях нового мира втиснуть в рамки уходящего и давно ушедшего мира; в этот революционный момент нам всем, жаждущим действительного раскрепощения искусства… необходимо организоваться в партию» - Моисей Кунин, «УНОВИС №2», январь 1921
В те годы настроения и движения менялись так часто, что настал тот час, когда изменилась и политика в отношении «левого» искусства. Владимир Ильич Ленин выступил с «Положением об управлении высшими учебными заведениями», упразднившее автономию высшей школы страны, за ней произошла реорганизация Наркомпроса и авангард стал намеренно задвигаться в дальний угол. И Малевич со своей «Партией супрематистов», в которую трансформировался УНОВИС, оказался не совсем желанным гостем на этом празднике новой жизни.
Третья выставка УНОВИС состоялась в 1922 году в Витебске. И в том же году проходит первый выпуск ВНХУ (за три года школа четыре раза поменяет свое название) . Дипломантами становятся 11 человек, из которых бОльшая часть — последователи супрематизма. В 1922 году Малевич пишет Лисицкому в Берлин из Витебска о голоде и скорбях, посетивших провинцию. Поэтому Казимир Северинович начинает движение в Петроград. За ним последуют и преподаватели, и ученики мастера. УНОВИС вливается в коллектив Института художественной культуры — ГИНХУК. Далее будут архитектурные серьезные работы Лазаря Хидекеля, и вроде бы несерьезные работы в «Чиже» и «Еже» Веры Ермолаевой, растрелянной в 1937 году, проуны Эль Лисицкого и его ранняя смерть в 1941 от туберкулеза, дизайн и фарфор Ильи Чашника, скончавшегося от перитонита в 1929, архитектоны и вся жизнь, отданная Ленинградскому Фарфоровому заводу Николая Суетина. С их отъездом с берегов Западной Двины, таких молодых, верных своему учителю и новому искусству нового времени, закончится краткий миг, когда перемещающаяся по своим законам столица мирового искусства воцарилась в Витебске. Городе, небо которого воспоет на весь мир Шагал, в котором Казимир Малевич старательно вглядывался в космос через телескоп, купленный непостижимым образом среди разрухи и голода.
«Малевич умел внушить неограниченную веру в себя. Ученики боготворили его, как Наполеона — армия». - Николай Пунин, художественный критик, историк русского искусства.
Судьба Витебского музея современного искусства трагична так же, как и судьбы большинства членов УНОВИСа. Фонды разворованы, переданы в другие музеи, от всей коллекции художников, которых во всем мире почитают как русских авангардистов, преподавателей и учеников Витебского народного художественного училища осталось одно единственное произведение. А здание покинувшего город в 1920 году одновременно с Марком Шагалом, Израиля Вишняка в целости и сохранности занимает Музей ВНХУ. А улица Бухаринская теперь носит имя летавшего в небе над ней Шагала.
Мария Мальцева-Самойлович.
Кино революции: 1918
Иду по историческому центру Саратова. Вот здесь начинала свой певческий путь в церковном хоре Лидия Русланова. Вот здесь жил художник Павел Кузнецов. А вот здесь…
На светло-зеленом фасаде бывшей Нижне-Волжской студии кинохроники, естественно, не пережившей перестройку, – знакомые с детства и тем более неожиданные в наши дни слова. «Из всех искусств для нас важнейшим является кино. В.И. Ленин».
Не единственное ли это место в России, где сохранилась максима, некогда украшавшая едва ли ни все залы кинотеатров, домов культуры и фабричных клубов. Максима, которой советские кинематографисты пользовались как идеологической дубинкой, выбивая себе все новые и новые преференции, превратившие их к брежневской эпохе в исключительно привилегированную касту, «творческий класс».
Другое дело: отчеканил ли Ильич в 1922-ом году эту формулу или нет, науке неизвестно. Знакома она нам лишь со слов наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского, обнародованных, в книге пионера истории советского кино Григория Болтянского «Ленин и кино» (1925).
С одной стороны, у Луначарского были свои, скажем так, корыстные интересы в перераспределении финансовых средств, раз уж Ленин так сказал, в сторону кинематографа. И сам он был плодовитым, хотя и ужасным, сценаристом. И юная жена его Наталья Розенель блистала на советском экране 1920-х.
С другой стороны, изложенные Луначарским в письме к Болтянскому обстоятельства, при которых Ленин восславил кино, настолько бытовые и отчасти комичные, что не поверить им нельзя. Грубо говоря, нарком пришел к Ленину просить денег «для широкой постановки кинопроизводства».
Владимир Ильич наркома не то, чтобы «послал», но вроде того.
«Владимир Ильич сказал мне, что постарается сделать что-нибудь для увеличения средств фотокиноотдела, но что у него есть внутреннее убеждение в большой доходности этого дела, если оно будет только правильно поставлено».
«Владимир Ильич сказал мне, что производство новых фильм, проникнутых коммунистическими идеями, отражающих советскую действительность, надо начинать с хроники, что, по его мнению, время производства таких фильм, может быть, еще не пришло.
“Если вы будете иметь хорошую хронику, серьезные и просветительные картины, то не важно, что для привлечения публики пойдет при этом какая–нибудь бесполезная лента, более или менее обычного типа. Конечно, цензура все–таки нужна. Ленты контрреволюционные и безнравственные не должны иметь место”.
К этому Владимир Ильич прибавил:
“По мере того как вы станете на ноги, благодаря правильному хозяйству, а может быть, и получите при общем улучшении положения страны известную ссуду на это дело, вы должны будете развернуть производство шире, а в особенности продвинуть здоровое кино в массы в городе, а еще более того в деревне”.
Затем, улыбаясь, Владимир, Ильич прибавил:
“Вы у нас слывете покровителем искусства, так вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино”.
На этом, помнится, беседа наша прекратилась».
Говоря о кино, Ленин, конечно же, имел в виду, прежде всего, кино хроникальное, научно-просветительское. Что-нибудь о плане электрификации, добыче сапропеля или, не знаю, спирта из опилок. Большевики были последовательными наследниками Просвещения. Но, если понимать кинематограф как целостность, то Ленин, формулируя его «важнейшесть», был безусловным гением. Таким же гением, как отцы-основатели Голливуда.
Советская Россия столкнулась с теми же проблемами, что США десятью годами раньше. В Америку прибывало рекордное, немыслимое количество иммигрантов, которых страна просто не успевала переварить. Итальянцы, китайцы, финны, японцы, поляки, ашкенази, и прочая, прочая, прочая. Единственным языком, понятным для них всех, был язык кино, благодаря тому, что кино было немым. И именно Голливуд сплавил все эти этнические общины в американскую нацию.
Точно так же единственным доступным всем языком в практически неграмотной России был язык кино (и цирка: недаром же Владимир Маяковский писал революционные цирковые ревю). Именно кино превращало народы СССР в, как говорилось в «брежневской Конституции» 1977-го года, «новую историческую общность – советский народ».
Луначарскому противоречит в своих незаконченных мемуарах автор первого советского фильма «Уплотнение», о котором речь впереди, Александр Пантелеев. По его версии, Ленину было наплевать на кино. И только Надежда Константиновна Крупская убедила его в колоссальной общественной значимости этого балаганного развлечения.
Отчего же нет? Крупская, судя по всему, была умнейшим человеком, отвечавшим, в частности, за шифровальное дело нелегалов-большевиков. Суровый, аналитический ум.
В свете этого удивительно ли или нет, что молодая Советская власть обратила внимание на кинематограф далеко не в первую, если не в последнюю очередь. Скажем, уже 12 апреля 1918-го года был издан декрет Совета Народных Комиссаров (СНК) «О памятниках Республики», санкционировавший «ленинский план монументальной пропаганды»: установку памятников великим деятелям прошлого. Причем доклад Луначарского об этом плане был заслушан на заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) лишь накануне: поразительная скорость принятия решений.
А вот декрет о национализации кинопроизводства СНК принял лишь 27 августа 1919-го года: эта дата с тех пор отмечается как День Советского (ныне – российского) кино. Велико искушение заявить, что мы первыми обобществили важнейшее из искусств, как первыми совершили в годы революции сексуальную революцию или первыми отправились в космос.
Увы. Первыми были венгры. Еще в июне 1919-го Бела Кун, фактический глава продержавшейся всего три месяца Венгерской Советской Республики и будущий (1920) «красный диктатор» Крыма национализировал вполне себе крепкую, но провинциальную, мещанскую кинематографию. И случилось чудо. Эти три месяца стали эпохой расцвета венгерского кино. Достаточно сказать, что все венгерские кинематографисты, составившие позднее славу Голливуда – Майкл Кертиц («Касабланка»), Чарльз Видор («Гильда»), Александр Корда («Багдадский вор»), Бела «Дракула» Лугоши – были не только активными участниками краткого венгерского киноренессанса, но и «красными» кинокомиссарами.
При этом ленинский декрет о национализации был вполне вегетарианским. Допускалось существование и частного кинопроизводства.
Более того. Еще весной 1918-го года «инициативная пятерка» кинематографистов, включавшая, среди прочих, великого актера и режиссера Владимира Гардина, вознамерилась явочным порядком даже не национализировать, а «муниципализировать» кинопроизводство. Пятерку возглавлял большевик Витольд Ахрамович-Ашмарин, сценарист, мистик и, само собой, морфинист. В 1930-ом году его самоубийство станет одной из страшных сенсаций «года великого перелома».
Момент был выбран «пятеркой» идеальный. Как раз в это время шел процесс, названный советской историографией «красногвардейской атакой на капитал». Пролетариат столь же явочным порядком присваивал контроль – а затем и руководство - промышленным производством. Но «атака» Ахрамовича-Ашмарина вызвала гневную реакцию сверху: безобразие, произвол, самоуправство. Кино осталось островком частного предпринимательства.
Историк Виктор Листов в замечательной книге «Россия. Революция. Кинематограф» полагает, что у большевиков весной 1918-го года было и так слишком много проблем, чтобы вешать себе на шею убыточную отрасль.
Да, еще в дни Октябрьской революции в Смольном выдавали мандаты операторам, снимавшим ключевые моменты исторической ночи. Да, еще в мае 1918-го был создан Петроградский Кинокомитет – прообраз всех грядущих советских органов управления «важнейшим из искусств». Дело в том, что, когда в марте 1918-го органы Советской власти переехали в Москву, Луначарский добился для своего наркомата привилегии базироваться в Петрограде. Дескать, Москва - недостаточно культурный город. Впрочем, свой Кинокомитет во главе с большевиком Николаем Преображенским существовал и в Москве. А Петроградский возглавлял Дмитрий Лещенко. Большевик, химик и фотограф, это он сделал историческую фотку Ленина в гриме «рабочего Иванова» для поддельных документов, по которым Ильич скрывался от «ищеек Временного правительства».
Чем занимались эти первые органы управления кинематографом? Черт знает чем. «Черт» - в буквальном смысле слова. Валерию Брюсову был заказан сценарий «оккультной кинодрамы» «Карма», Андрею Белому – адаптация его романа «Петербург». Рабы и рабыни любви к кинематографу еще не смотались в белый Крым (исход наступит ближе к концу 1918-го, когда есть в столицах станет нечего), и работали, как привыкли при проклятом царизме.
Оцените сами названия фильмов. В 1918-ом году на экраны выходят, в частности, «Тень лорда Шильмотта» (о лорде-морфинисте) и «Горничная Дженни» Якова Протазанова. Фильм Чеслава Сабинского «Трагедия лорда Вильмута» и «Белое и черное» Александра Разумного о парижском миллионере, у которого обнаружился двойник-апаш.
Они, вообще, там нормальные? На дворе – еще раз – тысяча девятьсот восемнадцатый год. Как писал Александр Межиров, «Эшелоны. Тифозная мгла. // Интервентская пуля, летящая в лоб, - // И не встать под огнем у шестого кола. // Полк // Шинели // На проволоку побросал, - // Но стучит под шинельным сукном пулемет. // И тогда // еле слышно // сказал // комиссар: // - Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!»
На кинофронте коммунисты очухались только к первой годовщине Октября. Было в советские времена такое выражение: «датское кино». То есть, кино, приуроченное к народным, революционным, официозным или официальным, датам. Вот с такого «датского кино» и стартовало наше кинопроизводство.
Премьеры первых четырех игровых отечественных фильмов состоялись 7 ноября 1918-го года. Москвичи сняли два фильма из революционного прошлого – «Подполье» Владимира Касьянова и «Восстание» Разумного. Лично Преображенский экранизировал басню Демьяна Бедного «О попе Панкрате, тетке Домне и явленной иконе в Коломне»: наркомат просвещения счел фильм кощунственным оскорблением чувств верующих. И это в буйно богоборческом 1918-ом!
Возможно, это объяснялось личной неприязнью между Луначарским и Бедным, которые впоследствии будут обмениваться оскорблениями ни более, ни менее, как через орган ВЦИК, газету «Известия». На пьесу наркома «Бархат и лохмотья» - само собой, с Розенель в главной роли – Демьян отзовется так: «Ценя в искусстве рублики, // Нарком наш видит цель: // Дарить лохмотья публике, // А бархат — Розенель».
Луначарский тоже умел в рифму: «Демьян, ты мнишь себя уже // Почти советским Беранже. // Ты, правда, «б», // ты, правда, «ж». // Но все же ты — не Беранже».
Возвышенные отношения между первыми советскими идеологами-пропагандистами, но зато и свобода слова какая!
Однако же, первым советским фильмом в полном смысле слова – то есть, посвященным актуальным событиям, а не героическому прошлому - считается петроградская лента Александра Пантелеева, Анатолия Пашковского и Николая Долинова «Уплотнение». Сценарий - Луначарского. В главной роли профессора Хрустина – Лещенко. Снималось все в помещениях Кинокомитета.
Пантелееву в 1918-ом году было 44 года. Один из первых режиссеров, удостоенных звания «Героя труда» (предшествовавшего званию «Героя Социалистического труда»), он умрет в 1948-ом. В блокаду его спасет от голодной смерти сын – тогда еще контр-адмирал Юрий Пантелеев. Начштаба Балтийского флота, участник страшного Таллинского перехода, командир Ленинградской военно-морской базы, командующий Волжской и Беломорской военными флотилиями. Адмирал (1953).
Почему Пантелеев стал первым советским режиссером. Потому, что, как, по легенде, сказал бы товарищ Сталин, «других режиссеров у меня для вас нет». Единственное, условное прикосновение Пантелеева к революционному движению – то, что в 1890-х годах он руководил любительским театром Путиловского завода. А среди премьеров этого театра был будущий председатель ВЦИК («президент») СССР Михаил Иванович Калинин, разительно отличающийся от карикатурного образа козлобородого мужика, созданного антисоветской пропагандой. Интеллигентом рабочим он был, интеллигентом.
Ну, а товарищ Пантелеев был декадентом. В 1915-ом поставил фильм «Дерево смерти или кровавая Сусанна» по мотивам рассказа Герберта Уэллса «Цветение странной орхидеи». Только, в соответствии с требованиями исторического момента, в фильме орхидею-людоеда выращивали немецкие шпионы. В активе Пантелеева еще в фильм «Ведьма», история о том, как оккультисты приняли актрису, игравшую роль ведьмы, за натуральное исчадие ада, ну, и сожгли живьем.
Забегая вперед, скажу, что Пантелеев станет одним из советских режиссеров первой величины, первым авторов суперпостановок, своего рода Сергеем Бондарчуком или Юрием Озеровым 1920-х. В фильме «За власть Советов» об обороне Петрограда от войск Юденича участвовали ПВО, авиация и бронетанковые войска Петроградского военного округа. «Палачи», посвященные «кровавому воскресенью», собрали 20000 человек массовки.
Мария Ильинична Ульянова вспоминала, что в последние сознательные месяцы жизни Ленина ему в Горках ежевечернее показывали кино. Как, повторюсь, большевик-просветитель, он предпочитал научпоп. Игровые фильмы? Ну, посмотрел одну часть, и достаточно. За одним исключением. Целиком – и не раз – он смотрел «Чудотворца» Пантелеева. Антирелигиозную комедию о крепостном николаевских времен, отданном в солдаты, укравшем драгоценный камень с оклада иконы Богоматери и уверившем всех, что сама Богоматерь сделала ему бесценный дар. Фильм, кстати, успешнейшим образом шел в европейском прокате.
Итак, «Уплотнение», которым Пантелеев завоевал себе звание первого советского режиссера. Наверное, современному читателю надо разъяснить, что такое «уплотнение».
Скажем так. Это одна из первых социальных программ Советской власти, перераспределение жилищных ресурсов ради разрушения кастовой структуры городских районов и восстановлению классовой справедливость.
Предупреждаю заранее нервных читателей, обличающих проклятых большевиков за создание феномена коммунальных квартир. Я сам живу в квартире, где моя семья живет с 1911-го года. Квартира была уплотнена. Я родился и двадцать с лишним лет жил в коммуналке. Да, это неприятно.
Но, если посмотреть на историческую интригу беспристрастным взглядом, то поймешь, что злые коммунальные квартиры сменили в 1918-ом году для 800 тысяч человек в Москве и Петрограде гораздо более злые коммунальные комнаты. Было такое понятие «углы». Это углы в буквальном смысле слова, которые подснимали совсем уж нищие люди. И программа «уплотнения» как раз вытаскивала людей из этих углов, подвалов и бог знает чего еще, чтобы – да, за счет ущемления состоятельных людей – дать им возможность выбраться с городского дна.
Господи, что же я коммуналках-то говорю. В 1990-ом я прожил несколько месяцев в парижской мансарде, «комнате для служанок». Воды нет. Туалет в коридоре: дырка в полу. И так живут до сих пор люди в светлейшей европейской столице.
Короче говоря, «Уплотнение» - фильм, агитировавший русскую интеллигенцию за классовую гармонию с вселенными в ее апартаменты пролетариями. В соответствии со своими народническими традициями, интеллигенция не очень-то и сопротивлялась. Профессора Хрустина сначала немного раздражала традиция слесаря, переехавшего к нему из подвала, есть с тряпицы. Но затем сын профессора влюбился в дочь слесаря. Другой сын – или, может быть, любимый ученик: тут, поскольку сценарий и титры не сохранились, судить трудно – стал контрреволюционно размахивать пистолетом. Но его вовремя разоблачили и увели куда надо. А профессор отправился преподавать химию (и, кажется, взрывное дело) в «Школу имени Карла Либкнехта».
А заодно стал первым настоящим героем настоящего советского кинематографа. Предшественником профессора Полежаева из «Депутата Балтики» драматурга Николая Погодина, режиссеров Александра Зархи и Иосифа Хейфица, инженера Забелина из «Кремлевских курантов» того же Погодина, инженера Якушева, помогающего чекистам в оперативной комбинации «Трест» из романа Льва Никулина «Мертвая зыбь» и фильм Сергея Колесова.
Другое дело, что советская власть с самого, что ни на есть кровавого 1918-го года, идеализировала «старую русскую интеллигенцию». А это уже отдельный сюжет.
Михаил Трофименков.
На светло-зеленом фасаде бывшей Нижне-Волжской студии кинохроники, естественно, не пережившей перестройку, – знакомые с детства и тем более неожиданные в наши дни слова. «Из всех искусств для нас важнейшим является кино. В.И. Ленин».
Не единственное ли это место в России, где сохранилась максима, некогда украшавшая едва ли ни все залы кинотеатров, домов культуры и фабричных клубов. Максима, которой советские кинематографисты пользовались как идеологической дубинкой, выбивая себе все новые и новые преференции, превратившие их к брежневской эпохе в исключительно привилегированную касту, «творческий класс».
Другое дело: отчеканил ли Ильич в 1922-ом году эту формулу или нет, науке неизвестно. Знакома она нам лишь со слов наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского, обнародованных, в книге пионера истории советского кино Григория Болтянского «Ленин и кино» (1925).
С одной стороны, у Луначарского были свои, скажем так, корыстные интересы в перераспределении финансовых средств, раз уж Ленин так сказал, в сторону кинематографа. И сам он был плодовитым, хотя и ужасным, сценаристом. И юная жена его Наталья Розенель блистала на советском экране 1920-х.
С другой стороны, изложенные Луначарским в письме к Болтянскому обстоятельства, при которых Ленин восславил кино, настолько бытовые и отчасти комичные, что не поверить им нельзя. Грубо говоря, нарком пришел к Ленину просить денег «для широкой постановки кинопроизводства».
Владимир Ильич наркома не то, чтобы «послал», но вроде того.
«Владимир Ильич сказал мне, что постарается сделать что-нибудь для увеличения средств фотокиноотдела, но что у него есть внутреннее убеждение в большой доходности этого дела, если оно будет только правильно поставлено».
«Владимир Ильич сказал мне, что производство новых фильм, проникнутых коммунистическими идеями, отражающих советскую действительность, надо начинать с хроники, что, по его мнению, время производства таких фильм, может быть, еще не пришло.
“Если вы будете иметь хорошую хронику, серьезные и просветительные картины, то не важно, что для привлечения публики пойдет при этом какая–нибудь бесполезная лента, более или менее обычного типа. Конечно, цензура все–таки нужна. Ленты контрреволюционные и безнравственные не должны иметь место”.
К этому Владимир Ильич прибавил:
“По мере того как вы станете на ноги, благодаря правильному хозяйству, а может быть, и получите при общем улучшении положения страны известную ссуду на это дело, вы должны будете развернуть производство шире, а в особенности продвинуть здоровое кино в массы в городе, а еще более того в деревне”.
Затем, улыбаясь, Владимир, Ильич прибавил:
“Вы у нас слывете покровителем искусства, так вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино”.
На этом, помнится, беседа наша прекратилась».
Говоря о кино, Ленин, конечно же, имел в виду, прежде всего, кино хроникальное, научно-просветительское. Что-нибудь о плане электрификации, добыче сапропеля или, не знаю, спирта из опилок. Большевики были последовательными наследниками Просвещения. Но, если понимать кинематограф как целостность, то Ленин, формулируя его «важнейшесть», был безусловным гением. Таким же гением, как отцы-основатели Голливуда.
Советская Россия столкнулась с теми же проблемами, что США десятью годами раньше. В Америку прибывало рекордное, немыслимое количество иммигрантов, которых страна просто не успевала переварить. Итальянцы, китайцы, финны, японцы, поляки, ашкенази, и прочая, прочая, прочая. Единственным языком, понятным для них всех, был язык кино, благодаря тому, что кино было немым. И именно Голливуд сплавил все эти этнические общины в американскую нацию.
Точно так же единственным доступным всем языком в практически неграмотной России был язык кино (и цирка: недаром же Владимир Маяковский писал революционные цирковые ревю). Именно кино превращало народы СССР в, как говорилось в «брежневской Конституции» 1977-го года, «новую историческую общность – советский народ».
Луначарскому противоречит в своих незаконченных мемуарах автор первого советского фильма «Уплотнение», о котором речь впереди, Александр Пантелеев. По его версии, Ленину было наплевать на кино. И только Надежда Константиновна Крупская убедила его в колоссальной общественной значимости этого балаганного развлечения.
Отчего же нет? Крупская, судя по всему, была умнейшим человеком, отвечавшим, в частности, за шифровальное дело нелегалов-большевиков. Суровый, аналитический ум.
В свете этого удивительно ли или нет, что молодая Советская власть обратила внимание на кинематограф далеко не в первую, если не в последнюю очередь. Скажем, уже 12 апреля 1918-го года был издан декрет Совета Народных Комиссаров (СНК) «О памятниках Республики», санкционировавший «ленинский план монументальной пропаганды»: установку памятников великим деятелям прошлого. Причем доклад Луначарского об этом плане был заслушан на заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) лишь накануне: поразительная скорость принятия решений.
А вот декрет о национализации кинопроизводства СНК принял лишь 27 августа 1919-го года: эта дата с тех пор отмечается как День Советского (ныне – российского) кино. Велико искушение заявить, что мы первыми обобществили важнейшее из искусств, как первыми совершили в годы революции сексуальную революцию или первыми отправились в космос.
Увы. Первыми были венгры. Еще в июне 1919-го Бела Кун, фактический глава продержавшейся всего три месяца Венгерской Советской Республики и будущий (1920) «красный диктатор» Крыма национализировал вполне себе крепкую, но провинциальную, мещанскую кинематографию. И случилось чудо. Эти три месяца стали эпохой расцвета венгерского кино. Достаточно сказать, что все венгерские кинематографисты, составившие позднее славу Голливуда – Майкл Кертиц («Касабланка»), Чарльз Видор («Гильда»), Александр Корда («Багдадский вор»), Бела «Дракула» Лугоши – были не только активными участниками краткого венгерского киноренессанса, но и «красными» кинокомиссарами.
При этом ленинский декрет о национализации был вполне вегетарианским. Допускалось существование и частного кинопроизводства.
Более того. Еще весной 1918-го года «инициативная пятерка» кинематографистов, включавшая, среди прочих, великого актера и режиссера Владимира Гардина, вознамерилась явочным порядком даже не национализировать, а «муниципализировать» кинопроизводство. Пятерку возглавлял большевик Витольд Ахрамович-Ашмарин, сценарист, мистик и, само собой, морфинист. В 1930-ом году его самоубийство станет одной из страшных сенсаций «года великого перелома».
Момент был выбран «пятеркой» идеальный. Как раз в это время шел процесс, названный советской историографией «красногвардейской атакой на капитал». Пролетариат столь же явочным порядком присваивал контроль – а затем и руководство - промышленным производством. Но «атака» Ахрамовича-Ашмарина вызвала гневную реакцию сверху: безобразие, произвол, самоуправство. Кино осталось островком частного предпринимательства.
Историк Виктор Листов в замечательной книге «Россия. Революция. Кинематограф» полагает, что у большевиков весной 1918-го года было и так слишком много проблем, чтобы вешать себе на шею убыточную отрасль.
Да, еще в дни Октябрьской революции в Смольном выдавали мандаты операторам, снимавшим ключевые моменты исторической ночи. Да, еще в мае 1918-го был создан Петроградский Кинокомитет – прообраз всех грядущих советских органов управления «важнейшим из искусств». Дело в том, что, когда в марте 1918-го органы Советской власти переехали в Москву, Луначарский добился для своего наркомата привилегии базироваться в Петрограде. Дескать, Москва - недостаточно культурный город. Впрочем, свой Кинокомитет во главе с большевиком Николаем Преображенским существовал и в Москве. А Петроградский возглавлял Дмитрий Лещенко. Большевик, химик и фотограф, это он сделал историческую фотку Ленина в гриме «рабочего Иванова» для поддельных документов, по которым Ильич скрывался от «ищеек Временного правительства».
Чем занимались эти первые органы управления кинематографом? Черт знает чем. «Черт» - в буквальном смысле слова. Валерию Брюсову был заказан сценарий «оккультной кинодрамы» «Карма», Андрею Белому – адаптация его романа «Петербург». Рабы и рабыни любви к кинематографу еще не смотались в белый Крым (исход наступит ближе к концу 1918-го, когда есть в столицах станет нечего), и работали, как привыкли при проклятом царизме.
Оцените сами названия фильмов. В 1918-ом году на экраны выходят, в частности, «Тень лорда Шильмотта» (о лорде-морфинисте) и «Горничная Дженни» Якова Протазанова. Фильм Чеслава Сабинского «Трагедия лорда Вильмута» и «Белое и черное» Александра Разумного о парижском миллионере, у которого обнаружился двойник-апаш.
Они, вообще, там нормальные? На дворе – еще раз – тысяча девятьсот восемнадцатый год. Как писал Александр Межиров, «Эшелоны. Тифозная мгла. // Интервентская пуля, летящая в лоб, - // И не встать под огнем у шестого кола. // Полк // Шинели // На проволоку побросал, - // Но стучит под шинельным сукном пулемет. // И тогда // еле слышно // сказал // комиссар: // - Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!»
На кинофронте коммунисты очухались только к первой годовщине Октября. Было в советские времена такое выражение: «датское кино». То есть, кино, приуроченное к народным, революционным, официозным или официальным, датам. Вот с такого «датского кино» и стартовало наше кинопроизводство.
Премьеры первых четырех игровых отечественных фильмов состоялись 7 ноября 1918-го года. Москвичи сняли два фильма из революционного прошлого – «Подполье» Владимира Касьянова и «Восстание» Разумного. Лично Преображенский экранизировал басню Демьяна Бедного «О попе Панкрате, тетке Домне и явленной иконе в Коломне»: наркомат просвещения счел фильм кощунственным оскорблением чувств верующих. И это в буйно богоборческом 1918-ом!
Возможно, это объяснялось личной неприязнью между Луначарским и Бедным, которые впоследствии будут обмениваться оскорблениями ни более, ни менее, как через орган ВЦИК, газету «Известия». На пьесу наркома «Бархат и лохмотья» - само собой, с Розенель в главной роли – Демьян отзовется так: «Ценя в искусстве рублики, // Нарком наш видит цель: // Дарить лохмотья публике, // А бархат — Розенель».
Луначарский тоже умел в рифму: «Демьян, ты мнишь себя уже // Почти советским Беранже. // Ты, правда, «б», // ты, правда, «ж». // Но все же ты — не Беранже».
Возвышенные отношения между первыми советскими идеологами-пропагандистами, но зато и свобода слова какая!
Однако же, первым советским фильмом в полном смысле слова – то есть, посвященным актуальным событиям, а не героическому прошлому - считается петроградская лента Александра Пантелеева, Анатолия Пашковского и Николая Долинова «Уплотнение». Сценарий - Луначарского. В главной роли профессора Хрустина – Лещенко. Снималось все в помещениях Кинокомитета.
Пантелееву в 1918-ом году было 44 года. Один из первых режиссеров, удостоенных звания «Героя труда» (предшествовавшего званию «Героя Социалистического труда»), он умрет в 1948-ом. В блокаду его спасет от голодной смерти сын – тогда еще контр-адмирал Юрий Пантелеев. Начштаба Балтийского флота, участник страшного Таллинского перехода, командир Ленинградской военно-морской базы, командующий Волжской и Беломорской военными флотилиями. Адмирал (1953).
Почему Пантелеев стал первым советским режиссером. Потому, что, как, по легенде, сказал бы товарищ Сталин, «других режиссеров у меня для вас нет». Единственное, условное прикосновение Пантелеева к революционному движению – то, что в 1890-х годах он руководил любительским театром Путиловского завода. А среди премьеров этого театра был будущий председатель ВЦИК («президент») СССР Михаил Иванович Калинин, разительно отличающийся от карикатурного образа козлобородого мужика, созданного антисоветской пропагандой. Интеллигентом рабочим он был, интеллигентом.
Ну, а товарищ Пантелеев был декадентом. В 1915-ом поставил фильм «Дерево смерти или кровавая Сусанна» по мотивам рассказа Герберта Уэллса «Цветение странной орхидеи». Только, в соответствии с требованиями исторического момента, в фильме орхидею-людоеда выращивали немецкие шпионы. В активе Пантелеева еще в фильм «Ведьма», история о том, как оккультисты приняли актрису, игравшую роль ведьмы, за натуральное исчадие ада, ну, и сожгли живьем.
Забегая вперед, скажу, что Пантелеев станет одним из советских режиссеров первой величины, первым авторов суперпостановок, своего рода Сергеем Бондарчуком или Юрием Озеровым 1920-х. В фильме «За власть Советов» об обороне Петрограда от войск Юденича участвовали ПВО, авиация и бронетанковые войска Петроградского военного округа. «Палачи», посвященные «кровавому воскресенью», собрали 20000 человек массовки.
Мария Ильинична Ульянова вспоминала, что в последние сознательные месяцы жизни Ленина ему в Горках ежевечернее показывали кино. Как, повторюсь, большевик-просветитель, он предпочитал научпоп. Игровые фильмы? Ну, посмотрел одну часть, и достаточно. За одним исключением. Целиком – и не раз – он смотрел «Чудотворца» Пантелеева. Антирелигиозную комедию о крепостном николаевских времен, отданном в солдаты, укравшем драгоценный камень с оклада иконы Богоматери и уверившем всех, что сама Богоматерь сделала ему бесценный дар. Фильм, кстати, успешнейшим образом шел в европейском прокате.
Итак, «Уплотнение», которым Пантелеев завоевал себе звание первого советского режиссера. Наверное, современному читателю надо разъяснить, что такое «уплотнение».
Скажем так. Это одна из первых социальных программ Советской власти, перераспределение жилищных ресурсов ради разрушения кастовой структуры городских районов и восстановлению классовой справедливость.
Предупреждаю заранее нервных читателей, обличающих проклятых большевиков за создание феномена коммунальных квартир. Я сам живу в квартире, где моя семья живет с 1911-го года. Квартира была уплотнена. Я родился и двадцать с лишним лет жил в коммуналке. Да, это неприятно.
Но, если посмотреть на историческую интригу беспристрастным взглядом, то поймешь, что злые коммунальные квартиры сменили в 1918-ом году для 800 тысяч человек в Москве и Петрограде гораздо более злые коммунальные комнаты. Было такое понятие «углы». Это углы в буквальном смысле слова, которые подснимали совсем уж нищие люди. И программа «уплотнения» как раз вытаскивала людей из этих углов, подвалов и бог знает чего еще, чтобы – да, за счет ущемления состоятельных людей – дать им возможность выбраться с городского дна.
Господи, что же я коммуналках-то говорю. В 1990-ом я прожил несколько месяцев в парижской мансарде, «комнате для служанок». Воды нет. Туалет в коридоре: дырка в полу. И так живут до сих пор люди в светлейшей европейской столице.
Короче говоря, «Уплотнение» - фильм, агитировавший русскую интеллигенцию за классовую гармонию с вселенными в ее апартаменты пролетариями. В соответствии со своими народническими традициями, интеллигенция не очень-то и сопротивлялась. Профессора Хрустина сначала немного раздражала традиция слесаря, переехавшего к нему из подвала, есть с тряпицы. Но затем сын профессора влюбился в дочь слесаря. Другой сын – или, может быть, любимый ученик: тут, поскольку сценарий и титры не сохранились, судить трудно – стал контрреволюционно размахивать пистолетом. Но его вовремя разоблачили и увели куда надо. А профессор отправился преподавать химию (и, кажется, взрывное дело) в «Школу имени Карла Либкнехта».
А заодно стал первым настоящим героем настоящего советского кинематографа. Предшественником профессора Полежаева из «Депутата Балтики» драматурга Николая Погодина, режиссеров Александра Зархи и Иосифа Хейфица, инженера Забелина из «Кремлевских курантов» того же Погодина, инженера Якушева, помогающего чекистам в оперативной комбинации «Трест» из романа Льва Никулина «Мертвая зыбь» и фильм Сергея Колесова.
Другое дело, что советская власть с самого, что ни на есть кровавого 1918-го года, идеализировала «старую русскую интеллигенцию». А это уже отдельный сюжет.
Михаил Трофименков.
Агиткость
Мы писали тут об агитфарфоре, об агиттекстиле, даже об агитпарфюме — казалось бы, что может быть еще неожиданнее? А вот, пожалуйста — агиткость.
Велик соблазн прочитать это слово как обозначение свойства — типа, достаточно ли «агитко-» то ли это? Но нет, речь идет об агитационных изделиях из кости. В основном бивня мамонта и моржового клыка, хотя были и варианты.
Что ж, косторезное искусство — вообще одно из самых древних в истории. Первые известные изделия из кости датируются десятками тысяч лет до нашей эры. Кость как поделочный материал то входит в моду, то выходит из нее, однако она, конечно, никогда не была материалом для массовой продукции — не глина все-таки и не бумага. Хорошая, благородная кость — сама по себе материал редкий и дорогой, но мало того, обработка ее — навык далеко не такой распространенный, как лепка или рисование. Настоящих мастеров никогда не было много.
И, тем не менее, тот взрыв сверхновой — в историческом и социальном смысле, — каким была Октябрьская Революция, прокатившись по всем без исключения областям, родам и видам искусства, докатился и до такого экзотического уголка, как резьба по кости.
Точнее, нескольких уголков, потому что в России существовало несколько центров косторезного искусства — со своей историей, своими особенностями, развивавшихся независимо друг от друга и друг на друга не похожих.
Трудно сказать, какой из них старейший. Скажем для аккуратности так: старейший на территории европейской части России — в Холмогорах Архангельской губернии; старейший в Сибири — в Тобольске; наконец, старейший на Крайнем Севере — Уэлен на Чукотке.
По гамбургскому счету, старейшим, видимо, следовало бы признать именно Уэлен, ибо археологи датируют местные изделия из кости, амулеты и скульптуры животных, I в. н.э. В середине XVII века на Чукотку приплывет Дежнев, и Чукотка станет российской, но ведь плыл-то он как раз за ценнейшей моржовой костью (как ни странно может показаться, оно ценится дороже мамонтовой).
К тому времени как русские колонисты, так и коренные народы уже несколько столетий резали из кости на Северной Двине, считается, что примерно c XII века. Холмогоры были основаны в XIV-ом, и местные мастера выполняли заказы как для частных лиц, так и для царского двора. Оттуда в XVIII веке в новую столицу, Санкт-Петербург, к слову, прибыл не только Ломоносов, но и вместе с ним Федот Шубин, местный косторезный мастер. Ломоносов пристроил его в Академию Художеств, но, научившись работать с мрамором, став одним из самых знаменитых скульпторов эпохи, Шубин тем не менее до конца жизни не оставлял и резьбу по кости.
Что же до Тобольска, то туда это искусство завезли сначала пленные шведы в начале XVIII века, а потом их знамя уже в середине XIX-го поддержали пленные поляки. Почему именно Тобольск? Потому что именно там по берегам рек находили и до сих пор находят огромное количество бивня мамонта.
Можете представить, насколько разными были три эти не пересекающиеся и даже едва ли знавшие друг о друге традиции. Однако разговор об истории далеко нас уведет. Нас интересует история советской кости.
Что ж, в XVII веке холмогорские мастера украшали трон Ивана III, в XVIII-ом Петр I сам с удовольствием осваивал косторезное искусство, но к середине XIX-го промысел оказался в упадке. Кость вышла из моды у высших слоев общества, низшие и даже средние едва ли могли ее себе позволить, а государственные институции костяным промыслом не интересовались — мало ли какие там поделки люди мастерят в свободное от работы время. Пожалуй, единственное тут исключение — это организованная неким землемером Овешковым в Тобольске в 1874 году «Сибирская мастерская изделий по мамонтовой кости», в которой работало шесть человек, среди которых мастер Терентьев, получивший медаль на Парижской выставке 1900 года.
Революция и тут радикально все изменила.
В 1920 году в Тобольске в рамках художественной школы открылся класс по выделке изделий из мамонтовой кости. Уже через три года тобольские мастера, ученики как раз знаменитого Терентьева, приняли участие во Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве и подарили Ленину костяные шахматы с чумами-пешками и слонами-лучниками. Из-за недостатка финансирования класс через несколько лет закрылся, но зато в 1929 году резчики организуют свой цех при Многопромсоюзе. К 1933-му цех выпускает продукции на 40 тысяч рублей, а еще через три года объем увеличивается вдвое.
Примерно в это же время промысел перестает быть кустарным и в Холмогорах. В 1930-ом местный Союз производственных кооперативов организует собственную косторезную школу, строятся мастерские и общежития. Совнархоз командирует в Холмогоры гравера и скульптора Михаила Дмитриевича Ракова. Потомственный дворянин, родом из Тотьмы Вологодской губернии, Раков начинал карьеру гравера на фабрике Карла Фаберже. Безусловно знакомый со всем актуальным искусством, Раков, с одной стороны, бережно относится к местной традиции и сам ей учится, а с другой — привносит в работу местных мастеров элементы модернизма. Когда работы холмогорских мастеров окажутся потом на международных выставках, в Париже и Милане, окажется вдруг, что они созвучны модному стилю ар-деко и в этом качестве пользуются бешеным успехом.
А что же Уэлен? Крайний Север тоже не обойден вниманием советской власти. Уже в 1920-х вводится преподавание косторезного искусства в поселковой школе, в 1931-ом создается мастерская, а в 1933-ем власти на два года командируют в поселок Александра Леонидовича Горбункова, художника и искусствоведа. Горбунков не только исследует жизнь Крайнего Севера и коренных народов, но и помогает местным косторезам с организацией школы и мастерской. Так, он первый привез в поселок карандаши и бумагу — теперь мастера могли сначала делать эскизы и потом уже работать по ним. Похоже, что Горбунков также впервые научил местных мастеров втирать в кости краски — и чукотская кость впервые стала цветной. В 1937 году по рекомендации Горбункова местный мастер, комсомолец Михаил Вуквол отправился на учебу в Ленинград, в Институт народов Севера. Увы, прямо с учебы он уйдет на войну и в 1942-ом погибнет на фронте. Впрочем, за свою короткую жизнь уроженец Уэлена Вуквол успел отметиться и в истории русской литературы, опубликовав удивительную «Чукотскую сказку про Ленина»: «Дошла новость о Ленине и до оленных чукчей, взяли они газеты, увидели там портрет Ленина, и стали они на него долго смотреть. Ожил Ленин и говорит им…»
Но помимо традиционных центров косторезного искусства, при советской власти возникают и новые. В 1930 году возникает артель в Кисловодске, а в 1947-ом — в подмосковном Хотьково. Правда, и там, и там работали по большей части с цевкой — костью крупного рогатого скота, — драгоценную мамонтовую и моржовую завозили редко. Но зато, может быть, именно поэтому, в силу того, что материала мало, хотьковские мастера — а Хотьково еще с XVI в. один из важных центров искусства резьбы по дереву — создали уникальный стиль, сочетая кость с деревом. Аналогично и в Кисловодске, где дагестанские мастера соединили кость с традиционной для них гравировкой по металлу.
В некотором смысле феномен советской агитационной кости близок к всем известному агитационному фарфору. Как и в случае с фарфором, изделие из кости просто по существу своего материала не может быть массовым. Кость тоже производилась прежде всего на экспорт. Экспорт и статусные подарки — вот основная форма существования и того, и другого искусства.
Есть, правда, и существенная разница. Советским агитационным фарфором занимались профессиональные художники, художники с образованием, зачастую — крупные и даже великие художники. Косторезный промысел, за исключением, быть может, только Михаила Ракова, оставался все же народным искусством — в нем не отметились никакие Малевичи, ни даже Чашники с Суетиными. Однако же и тут есть немалое количество настоящих шедевров.
Какие сюжеты наиболее характерны для советской резьбы по кости? Что ж, тут опять же нельзя не принимать во внимание дороговизну материала. Мамонтовая и моржовая кость — штука слишком дорогая, чтобы расходовать ее на проходные, незначимые вещи. Нет, оставались и традиционные сюжеты, связанные с северными бытом и жизнью — охотничьи сцены, животные, дети, чумы, собачьи упряжки, вот это вот все. Но все же в основном кость используется для того, чтобы запечатлеть что-то крайне важное для идеологии и даже мифологии раннего советского государства.
На советской кости мы видим летчиков-полярников, ледокол “Красин”, спасение челюскинцев, папанинцев, перелет Чкалова — то есть все важнейшие сюжеты и события, связанные с покорением Крайнего Севера, героические страницы его истории.
Другая важная группа сюжетов — пограничники на страже Родины, да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия, военно-морская авиация, парашютисты, кавалеристы и вообще — крепи оборону СССР.
Третья — главные лица новой страны. Троцкий, Дзержинский, Калинин, Орджоникидзе, Каганович, Ленин, но не только. И писатели с поэтами — Николай Островский, Горький, Маяковский, и артисты — Любовь Орлова, Галина Уланова (правда, это уже конец 1940-х), и другие лица новой эпохи.
Еще одна популярная тема — электрификация и индустриализация. Заводы и электростанции, трубы и провода, трактора и комбайны.
После войны — само собой, Победа и вот тут как раз очень много Сталина как ее главного символа. И опять же, после войны — советский спорт.
На полях остается тема международного коммунистического движения. «Мадрид не отдадим!» и Мао Цзе Дун.
Однако есть одна тема, которая проходит, уж извините, красной нитью через всю советскую агтикость — это тема мирного труда. Рабочие и колхозницы, сбор урожая, возведение зданий и строительство метро, труд геологов и инженеров, сбор урожая и празднование этого сбора, колосья и серпы, учеба и знания.
Таким образом, если советскую агитационную кость можно считать своего рода краткой энциклопедией советской идеологии и пропаганды — ведь, еще раз, дорогой материал мог расходоваться только на самое важное! — то по ней, по агиткости, мы видим, что было самым важным для советского человека, в чем была основа пропагандируемой идеологии. Созидательный труд народа и защита этого труда. А что еще надо?
Вадим Левенталь.
Велик соблазн прочитать это слово как обозначение свойства — типа, достаточно ли «агитко-» то ли это? Но нет, речь идет об агитационных изделиях из кости. В основном бивня мамонта и моржового клыка, хотя были и варианты.
Что ж, косторезное искусство — вообще одно из самых древних в истории. Первые известные изделия из кости датируются десятками тысяч лет до нашей эры. Кость как поделочный материал то входит в моду, то выходит из нее, однако она, конечно, никогда не была материалом для массовой продукции — не глина все-таки и не бумага. Хорошая, благородная кость — сама по себе материал редкий и дорогой, но мало того, обработка ее — навык далеко не такой распространенный, как лепка или рисование. Настоящих мастеров никогда не было много.
И, тем не менее, тот взрыв сверхновой — в историческом и социальном смысле, — каким была Октябрьская Революция, прокатившись по всем без исключения областям, родам и видам искусства, докатился и до такого экзотического уголка, как резьба по кости.
Точнее, нескольких уголков, потому что в России существовало несколько центров косторезного искусства — со своей историей, своими особенностями, развивавшихся независимо друг от друга и друг на друга не похожих.
Трудно сказать, какой из них старейший. Скажем для аккуратности так: старейший на территории европейской части России — в Холмогорах Архангельской губернии; старейший в Сибири — в Тобольске; наконец, старейший на Крайнем Севере — Уэлен на Чукотке.
По гамбургскому счету, старейшим, видимо, следовало бы признать именно Уэлен, ибо археологи датируют местные изделия из кости, амулеты и скульптуры животных, I в. н.э. В середине XVII века на Чукотку приплывет Дежнев, и Чукотка станет российской, но ведь плыл-то он как раз за ценнейшей моржовой костью (как ни странно может показаться, оно ценится дороже мамонтовой).
К тому времени как русские колонисты, так и коренные народы уже несколько столетий резали из кости на Северной Двине, считается, что примерно c XII века. Холмогоры были основаны в XIV-ом, и местные мастера выполняли заказы как для частных лиц, так и для царского двора. Оттуда в XVIII веке в новую столицу, Санкт-Петербург, к слову, прибыл не только Ломоносов, но и вместе с ним Федот Шубин, местный косторезный мастер. Ломоносов пристроил его в Академию Художеств, но, научившись работать с мрамором, став одним из самых знаменитых скульпторов эпохи, Шубин тем не менее до конца жизни не оставлял и резьбу по кости.
Что же до Тобольска, то туда это искусство завезли сначала пленные шведы в начале XVIII века, а потом их знамя уже в середине XIX-го поддержали пленные поляки. Почему именно Тобольск? Потому что именно там по берегам рек находили и до сих пор находят огромное количество бивня мамонта.
Можете представить, насколько разными были три эти не пересекающиеся и даже едва ли знавшие друг о друге традиции. Однако разговор об истории далеко нас уведет. Нас интересует история советской кости.
Что ж, в XVII веке холмогорские мастера украшали трон Ивана III, в XVIII-ом Петр I сам с удовольствием осваивал косторезное искусство, но к середине XIX-го промысел оказался в упадке. Кость вышла из моды у высших слоев общества, низшие и даже средние едва ли могли ее себе позволить, а государственные институции костяным промыслом не интересовались — мало ли какие там поделки люди мастерят в свободное от работы время. Пожалуй, единственное тут исключение — это организованная неким землемером Овешковым в Тобольске в 1874 году «Сибирская мастерская изделий по мамонтовой кости», в которой работало шесть человек, среди которых мастер Терентьев, получивший медаль на Парижской выставке 1900 года.
Революция и тут радикально все изменила.
В 1920 году в Тобольске в рамках художественной школы открылся класс по выделке изделий из мамонтовой кости. Уже через три года тобольские мастера, ученики как раз знаменитого Терентьева, приняли участие во Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве и подарили Ленину костяные шахматы с чумами-пешками и слонами-лучниками. Из-за недостатка финансирования класс через несколько лет закрылся, но зато в 1929 году резчики организуют свой цех при Многопромсоюзе. К 1933-му цех выпускает продукции на 40 тысяч рублей, а еще через три года объем увеличивается вдвое.
Примерно в это же время промысел перестает быть кустарным и в Холмогорах. В 1930-ом местный Союз производственных кооперативов организует собственную косторезную школу, строятся мастерские и общежития. Совнархоз командирует в Холмогоры гравера и скульптора Михаила Дмитриевича Ракова. Потомственный дворянин, родом из Тотьмы Вологодской губернии, Раков начинал карьеру гравера на фабрике Карла Фаберже. Безусловно знакомый со всем актуальным искусством, Раков, с одной стороны, бережно относится к местной традиции и сам ей учится, а с другой — привносит в работу местных мастеров элементы модернизма. Когда работы холмогорских мастеров окажутся потом на международных выставках, в Париже и Милане, окажется вдруг, что они созвучны модному стилю ар-деко и в этом качестве пользуются бешеным успехом.
А что же Уэлен? Крайний Север тоже не обойден вниманием советской власти. Уже в 1920-х вводится преподавание косторезного искусства в поселковой школе, в 1931-ом создается мастерская, а в 1933-ем власти на два года командируют в поселок Александра Леонидовича Горбункова, художника и искусствоведа. Горбунков не только исследует жизнь Крайнего Севера и коренных народов, но и помогает местным косторезам с организацией школы и мастерской. Так, он первый привез в поселок карандаши и бумагу — теперь мастера могли сначала делать эскизы и потом уже работать по ним. Похоже, что Горбунков также впервые научил местных мастеров втирать в кости краски — и чукотская кость впервые стала цветной. В 1937 году по рекомендации Горбункова местный мастер, комсомолец Михаил Вуквол отправился на учебу в Ленинград, в Институт народов Севера. Увы, прямо с учебы он уйдет на войну и в 1942-ом погибнет на фронте. Впрочем, за свою короткую жизнь уроженец Уэлена Вуквол успел отметиться и в истории русской литературы, опубликовав удивительную «Чукотскую сказку про Ленина»: «Дошла новость о Ленине и до оленных чукчей, взяли они газеты, увидели там портрет Ленина, и стали они на него долго смотреть. Ожил Ленин и говорит им…»
Но помимо традиционных центров косторезного искусства, при советской власти возникают и новые. В 1930 году возникает артель в Кисловодске, а в 1947-ом — в подмосковном Хотьково. Правда, и там, и там работали по большей части с цевкой — костью крупного рогатого скота, — драгоценную мамонтовую и моржовую завозили редко. Но зато, может быть, именно поэтому, в силу того, что материала мало, хотьковские мастера — а Хотьково еще с XVI в. один из важных центров искусства резьбы по дереву — создали уникальный стиль, сочетая кость с деревом. Аналогично и в Кисловодске, где дагестанские мастера соединили кость с традиционной для них гравировкой по металлу.
В некотором смысле феномен советской агитационной кости близок к всем известному агитационному фарфору. Как и в случае с фарфором, изделие из кости просто по существу своего материала не может быть массовым. Кость тоже производилась прежде всего на экспорт. Экспорт и статусные подарки — вот основная форма существования и того, и другого искусства.
Есть, правда, и существенная разница. Советским агитационным фарфором занимались профессиональные художники, художники с образованием, зачастую — крупные и даже великие художники. Косторезный промысел, за исключением, быть может, только Михаила Ракова, оставался все же народным искусством — в нем не отметились никакие Малевичи, ни даже Чашники с Суетиными. Однако же и тут есть немалое количество настоящих шедевров.
Какие сюжеты наиболее характерны для советской резьбы по кости? Что ж, тут опять же нельзя не принимать во внимание дороговизну материала. Мамонтовая и моржовая кость — штука слишком дорогая, чтобы расходовать ее на проходные, незначимые вещи. Нет, оставались и традиционные сюжеты, связанные с северными бытом и жизнью — охотничьи сцены, животные, дети, чумы, собачьи упряжки, вот это вот все. Но все же в основном кость используется для того, чтобы запечатлеть что-то крайне важное для идеологии и даже мифологии раннего советского государства.
На советской кости мы видим летчиков-полярников, ледокол “Красин”, спасение челюскинцев, папанинцев, перелет Чкалова — то есть все важнейшие сюжеты и события, связанные с покорением Крайнего Севера, героические страницы его истории.
Другая важная группа сюжетов — пограничники на страже Родины, да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия, военно-морская авиация, парашютисты, кавалеристы и вообще — крепи оборону СССР.
Третья — главные лица новой страны. Троцкий, Дзержинский, Калинин, Орджоникидзе, Каганович, Ленин, но не только. И писатели с поэтами — Николай Островский, Горький, Маяковский, и артисты — Любовь Орлова, Галина Уланова (правда, это уже конец 1940-х), и другие лица новой эпохи.
Еще одна популярная тема — электрификация и индустриализация. Заводы и электростанции, трубы и провода, трактора и комбайны.
После войны — само собой, Победа и вот тут как раз очень много Сталина как ее главного символа. И опять же, после войны — советский спорт.
На полях остается тема международного коммунистического движения. «Мадрид не отдадим!» и Мао Цзе Дун.
Однако есть одна тема, которая проходит, уж извините, красной нитью через всю советскую агтикость — это тема мирного труда. Рабочие и колхозницы, сбор урожая, возведение зданий и строительство метро, труд геологов и инженеров, сбор урожая и празднование этого сбора, колосья и серпы, учеба и знания.
Таким образом, если советскую агитационную кость можно считать своего рода краткой энциклопедией советской идеологии и пропаганды — ведь, еще раз, дорогой материал мог расходоваться только на самое важное! — то по ней, по агиткости, мы видим, что было самым важным для советского человека, в чем была основа пропагандируемой идеологии. Созидательный труд народа и защита этого труда. А что еще надо?
Вадим Левенталь.
Киноплакат. Вторая Серия
Что ж, поговорим о рождении чуда из чудес, гордости и славы русского авангарда — советского киноплаката.
В предыдущей серии речь шла о его предыстории, о том, как сформировалась почва, на которой он появился, из какого сора ему предстояло вырасти.
Мы остановились на том, что в общем и целом эта почва сформировалась к 1918 году, не хватало только одного — собственно советского кино. Только что закончилась Первая мировая война, начинала разгораться Гражданская.
Война, с одной стороны, повысила массовый интерес к кино — во-первых, надо же хоть как-то отвлечься от ужасов империалистической бойни, во-вторых, как-то узнавать о них. Именно потому что, с другой стороны, едва народившаяся отечественная кинопромышленность была почти напрочь войной разрушена, и то немногое, что от нее оставалось, целиком было брошено на производство документальных, информационных лент — своего рода видеоблога о текущих событиях.
27 августа 1919 года Совнарком принимает декрет о национализации кинопромышленности, но что там национализировать? Одни слезы. Восемь из десяти идущих на экранах фильмов — иностранного происхождения. Идущая Гражданская война и продолжающаяся иностранная интервенция, мягко говоря, не способствуют расцвету кинопроизводства. О собственной пленке, отечественных камерах, русских проявочных материалах, советских типографских машинах — можно только мечтать; а где и на что все это купить? Да и до того ли?
Позже Эйзенштейн напишет, что первые пять лет советской власти целиком ушли на становление чисто технической стороны дела; чудо состоит в том, что в тяжелейших условиях полной разрухи, продолжающейся войны и международной экономической блокады — это удалось сделать всего за пять лет.
1925 год — может быть, самый важный для советского кино и киноплаката. Образуется Совкино, ведомство, объединившее все прокатные организации. Внутри него создается подразделение Рекламкино, ведавшее киноплакатами, причем в него закупаются три современные типографские машины. В том же году в Москве проходит международная выставка киноплаката. В том же году выходит «Броненосец “Потемкин”», снимают свои первые фильмы Довженко и Пудовкин. (Лишь «Киноглаз» Вертова вышел годом раньше.)
Советское кино рождается стремительно — и сразу в блеске своего величия. Уже к 1929 году соотношение отечественных и иностранных лент перевернется ровно наоборот: лишь два из десяти идущих на экранах фильмов будут иностранные. В 1931 году появятся первые советские звуковой и два цветных фильма. Радикально вырастет и их количество.
Но это мы опять забежали немного вперед. Вернемся в 1925-ый.
Что ж, теперь, когда есть что рекламировать, может появиться и киноплакат.
Причем советский киноплакат сразу рождается с осознанием того, что он — «большое политическое дело», это слова Виктора Корецкого, одного из крупнейших советских плакатистов.
С обычным агитационным плакатом киноплакат роднит очень многое. Как и агитплакат, он обращается к массе. Как и агитплакат, он должен сразу зацепить внимание смотрящего, остановить даже того, кто опаздывает по своим делам. Он тоже должен быть максимально лаконичен: у бегущего по своим делам нет времени долго вглядываться и вчитываться, что там до него хотят донести, он должен мгновенно, с первого взгляда ухватить основную идею. Киноплакат так же должен быть прост и понятен. Мысль, которую он несет — точно так же должна быть пропагандой; он не просто может, а должен пропагандировать то, что сейчас, в данный момент, самое важное для молодого государства — будь то помощь голодающим или справедливость коммунистической идеи. Он, как и кино, которое он рекламирует, должен воспитывать нового советского гражданина. Он, не будем забывать и про это, должен, как любой другой плакат, украшать город; ведь плакат в эти годы — один из главных элементов городского пейзажа. В сущности, киноплакат — тот же агитплакат, только с еще одной дополнительной функцией: он должен к тому же еще зазвать зрителя на фильм.
И вот к середине 1920-х годов все звезды наконец сошлись. Киноплакат уже прошел долгий и трудный предварительный путь становления в поисках своего собственного изобразительного языка. Восстановилась после двух войн киноиндустрия. Была сформулирована сверхзадача для киноплаката — быть пропагандой и агитацией для первого в мире государства рабочих и крестьян. Революция дала возможность работать в полную силу и применить свои таланты в искусстве — не в салонном, а в массовом — сформировавшимся художникам русского авангарда. Наконец, как раз к середине двадцатых подоспели первые — талантливейшие — выпускники ВХУТЕМАСа. Так звезды сходятся раз в сто лет.
Остается только спросить: кто все эти люди?
А вот кто.
Из стариков первый среди равных — Родченко. (Впрочем, старику на момент 1925 года — тридцать пять лет.) Ну про Родченко нет смысла рассказывать подробно, про него и так все знают. Однако да, это именно он — автор плаката к «Броненосцу “Потемкину”», даже двух. На одном из них бравые матросы нацеливают пушки на врагов революции и скидывают их — врагов, а не пушки — в море, а на другом вписанные в ромб орудия грозно нацеливаются на зрителя, готовые дать бой любой контрреволюции. И да, похоже, что именно Родченко первым придумал перенести на киноплакат принципы фотокомпозиции.
С ним бок о бок работал Антон Михайлович Лавинский. Практически ровесник Родченко. Из простой провинциальной мещанской семьи. Учился на архитектурно-строительном в Баку, был вольнослушателем на курсах при Академии и даже около года еще учился на Первых СГМХ и потом почти сразу вернулся преподавателем уже во ВХУТЕМАС. Воевал, был общественником, организатором и многостаночником. Художник-оформитель поставленной Мейерхольдом «Мистерии-буфф» Маяковского, автор памятников Марксу и Салтыкову-Щедрину, сотрудник «Окон сатиры РОСТА», соавтор Эля Лисицкого по оформлению советского павильона на Международной выставке печати в Кельне и так далее и тому подобное. Наконец, автор огромного количества агитплакатов и киноплакатов. Вот, например, плакат к фильму Льва Кулешова «Луч смерти» (1925), в котором доблестные советские инженеры вместе с рабочими противостоят шпионскому коварству одной там западной страны.
Ни для Родченко, ни для Лавинского — ЛЕФовцев, друзей Маяковского, художников в самом широком смысле слова — киноплакат не был главным делом жизни, но именно они — ибо советский киноплакат вышел все же не из супрематизма и не из кубизма, а как раз из конструктивизма — заложили основы специфического языка киноплаката. И кое-кто из молодых художников учился у них непосредственно — потому что оба преподавали во ВХУТЕМАСе, — но, просто глядя на их работы, у них учились вообще все. И в этом смысле те юноши, которые на ближайшие десятилетия станут главными советскими киноплакатистами, — все их ученики.
Их множество и каждый из них заслуживал бы отдельного рассказа, но сдержим себя — хотя бы по паре слов скажем о троих. Ну то есть о четверых.
Яков Руклевский, будущий председатель Секции плаката в МОСХе, родился в 1894 году в Смоленке. Никакого систематического художественного образования не получил — самородок. В 1924 году он перебрался в Москву и всю свою жизнь отдал киноплакату. Среди его работ — «Золушка», «Небесный тихоход», «Повесть о настоящем человеке», «Кубанские казаки», «Падение Берлина» и еще десятки других. На одном из самых ранних его плакатов, к «Октябрю» Эйзенштейна (1927), революционный матрос как бы грудью сбрасывает куда-то в сторону хищного двухглавого орла, а красные рабочие с винтовками наперерез несутся в другую сторону.
Николай Прусаков родился в 1900 году в Москве в мещанской семье и, в отличие от Руклевского, как раз учился много — сначала в Строгановке, а потом во ВХУТЕМАСе. Причем в Строгановке он вместе со своим другом и еще одним будущим классиком киноплаката Александром Наумовым учился у Любови Поповой и Варвары Степановой, о которых мы уже говорили в другой статье как об основательницах советского агитационного текстиля. Любопытно заметить, как в данном случае как раз супрематические идеи раппортов для тканей переносятся в искусство киноплаката. На плакате 1926 года к картине Протазанова «Сорок первый» цифры 41 образуют орнамент, чередующий красный и белый цвета, жирно намекая на ключевое противостояние эпохи.
Что ж, мы неуверенно сказали — три, а точнее четыре. Это потому что говоря о советском киноплакате, нельзя обойтись без братьев Стенбергов, которые всегда работали вместе. Мы уже упоминали их, когда шла речь об организации революционных праздников — ну да, это именно они оформляли Красную площадь к 7 ноября 1928 года, а после смерти в автокатастрофе старшего брата Георгия в 1933-ем младший Владимир останется главным оформителем главной площади страны вплоть до 1962-го. Ровесники века, сыновья случайно залетевшего в Россию купца-шведа, они работали в СССР, формально оставаясь гражданами Швеции.
Как и Прусаков, братья учились сначала в Строгановке, а потом во ВХУТЕМАСе. В 1926 году они становятся штатными художниками только что организованного «Совкино» и за несколько лет именно они — в большей степени, нежели кто-нибудь другой, — окончательно оформляют школу советского киноплаката, которая с этого момента становится ведущей в мире и трансформирует жанр в планетарном масштабе. Им на этот момент одному 26, а другому 27 лет.
Авторству 2Стенберг2 — так они подписывались — принадлежат сотни киноплакатов. На великом плакате 1929 года к «Человеку с киноаппаратом» Дзиги Вертова сама геометрия скрученной в спираль пленки, устремленных к сходящейся невидимой точке небоскребов и раскинутых в разные стороны рук и ног девушки — устанавливает канон жанра для всего мира на десятилетия вперед. Мало того, именно Стенберги придумали технику перенесения на плакат фотоизображения.
И это мы еще ничего не сказали ни про Григория Борисова, ни про Михаила Длугача, ни про Израиля Бограда, ни про Петра Жукова, ни про многих и многих других.
Советский киноплакат двадцатых-тридцатых — одна из самых славных страниц русского авангарда. Он, конечно, был искусством пропаганды, но прежде всего — высоким искусством. Именно советские художники, совсем молодые, многим из них не было и тридцати, создали сам изобразительный язык, свойственный только этому жанру, — и уже после этого их достижения взял на вооружение весь остальной мир.
Вадим Левенталь.
В предыдущей серии речь шла о его предыстории, о том, как сформировалась почва, на которой он появился, из какого сора ему предстояло вырасти.
Мы остановились на том, что в общем и целом эта почва сформировалась к 1918 году, не хватало только одного — собственно советского кино. Только что закончилась Первая мировая война, начинала разгораться Гражданская.
Война, с одной стороны, повысила массовый интерес к кино — во-первых, надо же хоть как-то отвлечься от ужасов империалистической бойни, во-вторых, как-то узнавать о них. Именно потому что, с другой стороны, едва народившаяся отечественная кинопромышленность была почти напрочь войной разрушена, и то немногое, что от нее оставалось, целиком было брошено на производство документальных, информационных лент — своего рода видеоблога о текущих событиях.
27 августа 1919 года Совнарком принимает декрет о национализации кинопромышленности, но что там национализировать? Одни слезы. Восемь из десяти идущих на экранах фильмов — иностранного происхождения. Идущая Гражданская война и продолжающаяся иностранная интервенция, мягко говоря, не способствуют расцвету кинопроизводства. О собственной пленке, отечественных камерах, русских проявочных материалах, советских типографских машинах — можно только мечтать; а где и на что все это купить? Да и до того ли?
Позже Эйзенштейн напишет, что первые пять лет советской власти целиком ушли на становление чисто технической стороны дела; чудо состоит в том, что в тяжелейших условиях полной разрухи, продолжающейся войны и международной экономической блокады — это удалось сделать всего за пять лет.
1925 год — может быть, самый важный для советского кино и киноплаката. Образуется Совкино, ведомство, объединившее все прокатные организации. Внутри него создается подразделение Рекламкино, ведавшее киноплакатами, причем в него закупаются три современные типографские машины. В том же году в Москве проходит международная выставка киноплаката. В том же году выходит «Броненосец “Потемкин”», снимают свои первые фильмы Довженко и Пудовкин. (Лишь «Киноглаз» Вертова вышел годом раньше.)
Советское кино рождается стремительно — и сразу в блеске своего величия. Уже к 1929 году соотношение отечественных и иностранных лент перевернется ровно наоборот: лишь два из десяти идущих на экранах фильмов будут иностранные. В 1931 году появятся первые советские звуковой и два цветных фильма. Радикально вырастет и их количество.
Но это мы опять забежали немного вперед. Вернемся в 1925-ый.
Что ж, теперь, когда есть что рекламировать, может появиться и киноплакат.
Причем советский киноплакат сразу рождается с осознанием того, что он — «большое политическое дело», это слова Виктора Корецкого, одного из крупнейших советских плакатистов.
С обычным агитационным плакатом киноплакат роднит очень многое. Как и агитплакат, он обращается к массе. Как и агитплакат, он должен сразу зацепить внимание смотрящего, остановить даже того, кто опаздывает по своим делам. Он тоже должен быть максимально лаконичен: у бегущего по своим делам нет времени долго вглядываться и вчитываться, что там до него хотят донести, он должен мгновенно, с первого взгляда ухватить основную идею. Киноплакат так же должен быть прост и понятен. Мысль, которую он несет — точно так же должна быть пропагандой; он не просто может, а должен пропагандировать то, что сейчас, в данный момент, самое важное для молодого государства — будь то помощь голодающим или справедливость коммунистической идеи. Он, как и кино, которое он рекламирует, должен воспитывать нового советского гражданина. Он, не будем забывать и про это, должен, как любой другой плакат, украшать город; ведь плакат в эти годы — один из главных элементов городского пейзажа. В сущности, киноплакат — тот же агитплакат, только с еще одной дополнительной функцией: он должен к тому же еще зазвать зрителя на фильм.
И вот к середине 1920-х годов все звезды наконец сошлись. Киноплакат уже прошел долгий и трудный предварительный путь становления в поисках своего собственного изобразительного языка. Восстановилась после двух войн киноиндустрия. Была сформулирована сверхзадача для киноплаката — быть пропагандой и агитацией для первого в мире государства рабочих и крестьян. Революция дала возможность работать в полную силу и применить свои таланты в искусстве — не в салонном, а в массовом — сформировавшимся художникам русского авангарда. Наконец, как раз к середине двадцатых подоспели первые — талантливейшие — выпускники ВХУТЕМАСа. Так звезды сходятся раз в сто лет.
Остается только спросить: кто все эти люди?
А вот кто.
Из стариков первый среди равных — Родченко. (Впрочем, старику на момент 1925 года — тридцать пять лет.) Ну про Родченко нет смысла рассказывать подробно, про него и так все знают. Однако да, это именно он — автор плаката к «Броненосцу “Потемкину”», даже двух. На одном из них бравые матросы нацеливают пушки на врагов революции и скидывают их — врагов, а не пушки — в море, а на другом вписанные в ромб орудия грозно нацеливаются на зрителя, готовые дать бой любой контрреволюции. И да, похоже, что именно Родченко первым придумал перенести на киноплакат принципы фотокомпозиции.
С ним бок о бок работал Антон Михайлович Лавинский. Практически ровесник Родченко. Из простой провинциальной мещанской семьи. Учился на архитектурно-строительном в Баку, был вольнослушателем на курсах при Академии и даже около года еще учился на Первых СГМХ и потом почти сразу вернулся преподавателем уже во ВХУТЕМАС. Воевал, был общественником, организатором и многостаночником. Художник-оформитель поставленной Мейерхольдом «Мистерии-буфф» Маяковского, автор памятников Марксу и Салтыкову-Щедрину, сотрудник «Окон сатиры РОСТА», соавтор Эля Лисицкого по оформлению советского павильона на Международной выставке печати в Кельне и так далее и тому подобное. Наконец, автор огромного количества агитплакатов и киноплакатов. Вот, например, плакат к фильму Льва Кулешова «Луч смерти» (1925), в котором доблестные советские инженеры вместе с рабочими противостоят шпионскому коварству одной там западной страны.
Ни для Родченко, ни для Лавинского — ЛЕФовцев, друзей Маяковского, художников в самом широком смысле слова — киноплакат не был главным делом жизни, но именно они — ибо советский киноплакат вышел все же не из супрематизма и не из кубизма, а как раз из конструктивизма — заложили основы специфического языка киноплаката. И кое-кто из молодых художников учился у них непосредственно — потому что оба преподавали во ВХУТЕМАСе, — но, просто глядя на их работы, у них учились вообще все. И в этом смысле те юноши, которые на ближайшие десятилетия станут главными советскими киноплакатистами, — все их ученики.
Их множество и каждый из них заслуживал бы отдельного рассказа, но сдержим себя — хотя бы по паре слов скажем о троих. Ну то есть о четверых.
Яков Руклевский, будущий председатель Секции плаката в МОСХе, родился в 1894 году в Смоленке. Никакого систематического художественного образования не получил — самородок. В 1924 году он перебрался в Москву и всю свою жизнь отдал киноплакату. Среди его работ — «Золушка», «Небесный тихоход», «Повесть о настоящем человеке», «Кубанские казаки», «Падение Берлина» и еще десятки других. На одном из самых ранних его плакатов, к «Октябрю» Эйзенштейна (1927), революционный матрос как бы грудью сбрасывает куда-то в сторону хищного двухглавого орла, а красные рабочие с винтовками наперерез несутся в другую сторону.
Николай Прусаков родился в 1900 году в Москве в мещанской семье и, в отличие от Руклевского, как раз учился много — сначала в Строгановке, а потом во ВХУТЕМАСе. Причем в Строгановке он вместе со своим другом и еще одним будущим классиком киноплаката Александром Наумовым учился у Любови Поповой и Варвары Степановой, о которых мы уже говорили в другой статье как об основательницах советского агитационного текстиля. Любопытно заметить, как в данном случае как раз супрематические идеи раппортов для тканей переносятся в искусство киноплаката. На плакате 1926 года к картине Протазанова «Сорок первый» цифры 41 образуют орнамент, чередующий красный и белый цвета, жирно намекая на ключевое противостояние эпохи.
Что ж, мы неуверенно сказали — три, а точнее четыре. Это потому что говоря о советском киноплакате, нельзя обойтись без братьев Стенбергов, которые всегда работали вместе. Мы уже упоминали их, когда шла речь об организации революционных праздников — ну да, это именно они оформляли Красную площадь к 7 ноября 1928 года, а после смерти в автокатастрофе старшего брата Георгия в 1933-ем младший Владимир останется главным оформителем главной площади страны вплоть до 1962-го. Ровесники века, сыновья случайно залетевшего в Россию купца-шведа, они работали в СССР, формально оставаясь гражданами Швеции.
Как и Прусаков, братья учились сначала в Строгановке, а потом во ВХУТЕМАСе. В 1926 году они становятся штатными художниками только что организованного «Совкино» и за несколько лет именно они — в большей степени, нежели кто-нибудь другой, — окончательно оформляют школу советского киноплаката, которая с этого момента становится ведущей в мире и трансформирует жанр в планетарном масштабе. Им на этот момент одному 26, а другому 27 лет.
Авторству 2Стенберг2 — так они подписывались — принадлежат сотни киноплакатов. На великом плакате 1929 года к «Человеку с киноаппаратом» Дзиги Вертова сама геометрия скрученной в спираль пленки, устремленных к сходящейся невидимой точке небоскребов и раскинутых в разные стороны рук и ног девушки — устанавливает канон жанра для всего мира на десятилетия вперед. Мало того, именно Стенберги придумали технику перенесения на плакат фотоизображения.
И это мы еще ничего не сказали ни про Григория Борисова, ни про Михаила Длугача, ни про Израиля Бограда, ни про Петра Жукова, ни про многих и многих других.
Советский киноплакат двадцатых-тридцатых — одна из самых славных страниц русского авангарда. Он, конечно, был искусством пропаганды, но прежде всего — высоким искусством. Именно советские художники, совсем молодые, многим из них не было и тридцати, создали сам изобразительный язык, свойственный только этому жанру, — и уже после этого их достижения взял на вооружение весь остальной мир.
Вадим Левенталь.
Лазарь с хэшттегом
Раз в сто лет, ровно сколь длится условный век человека, люди изобретают заново велосипед и радостно носятся со своими «открытиями» с физиономией первооткрывателей. Просто «коливинг» звучит по их мнению изящнее, чем «коммунальная квартира» или «общежитие». Те, кто поумнее, чаще всего это люди поколений постарше, обращаются к открытиям и изобретениям предыдущих поколений, перерабатывая их соответственно изменившимся обстоятельствам и среде обитания, но проявляя уважение к именам прошлого.
Жилые космические станции, сады и огороды на плоских крышах, многозальные кинотеатры, города на опорах, экологический подход к строительству и организации урбанистического пространства — нет, это не повестка круглого стола фестиваля «Урбанино» 20-ых годов 21 века. С хештегом «модно_молодежно». Кстати, про хештег...
«Нас поймут через 100 лет» - так называлась первая выставка Лазаря Хидекеля в Минске, которая прошла как раз спустя 100 лет его поступления в художественную витебскую школу. Архитектор, последователь супрематизма, художник, человек открывший космос, чтобы по-новому увидеть пространство Земли, родился в семье архитектора Мордуха Ароновича Хидекеля в Витебске в 1904 году. В конце 1910-ых этот небольшой городок был центром международного авангарда, одной из основных площадок которого была Витебская народная художественная школа Марка Шагала, где преподавали Мстислав Добужинский, Эль Лисицкий и Казимир Малевич. В 14 лет Лазарь поступает в школу и особое внимание уделяет курсу проекционного черчения Эль Лисицкого. Систему супрематизма подростку преподает Казимир Малевич. Первый и последний выпуск школы состоялся в мае 1922 года. До выпуска ученики и учителя успели придумать авангардное художественное объединение УНОВИС, чья кратковременная деятельность стала знаковым этапом в истории мирового авангарда, повлиявшего на возникновение ряда радикальных преобразований традиционного художественного языка. 8 из 10 выпускников ВНХШ были членами УНОВИСа. В 1922 году Н. Суетин, И. Чашник, Л. Хидекель, Л. Юдин и Н. Коган вместе с несколькими студентами младших курсов уезжают в Петроград. Так называемая Витебская группа вошла в структуры созданного и руководимого Малевичем ГИНХУКа (Института художественной культуры).
Уже в 16 лет Лазарь возглавил архитектурную мастерскую УНОВИСа. Первое, что по воспоминаниям сына Хидекеля, спросил Марк Шагал встретив своего ученика в 1973 году в Ленинграде: Лазарь, ты был таким талантливым художником, почему ты стал архитектором?
Уже в 15 лет Хидекель выставлялся с зрелыми мастерами - П. Кончаловским, А. Экстер, В. Кандинским, А. Родченко, К. Малевичем, М. Шагалом. Студенческая работа «Проект рабочего клуба» от 1926 года вошла в историю архитектуры и авангарда как первый супрематический архитектурный проект. Правда в одном немецком журнале Казимир Малевич пытался выдать этот проект за свой, но кто же помнит. В ГИНХУКе под руководством Малевича начинается работа над объемостроением. Плоскостные изображения становятся планами объемных тел. На первой отчетной выставке ГИНХУКа, летом 1924 года выставляются планиты (графические изображения супрематических сооружений). На второй, летом 1926-го — архитектоны (гипсовые архитектурные модели).
«Черный квадрат вырос в архитектуру такими формами, что трудно выразить вид архитектуры, принял такой образ, что нельзя найти /его форму/. Это форма какого-то нового живого организма» - Казимир Малевич
Лазарь Хидекель был единственным архитектором в супрематизме, при этом в 1927 году Малевич закончит линию развития супрематизма, приведя его к архитектуре. Его супремусы обрели объем в проунах Эль Лисицкого, но материализовал их именно Лазарь Хидекель. Серьезное образование Хидекель получил в Петроградском институте гражданских инженеров, не теряя связи с Малевичем и ГИНХУКом, помогает его членам осваивать приемы построения перспективы, которым его научили в институте. Некоторые графические архитектоны и планиты, выполненные в перспективе, чертил именно Хидекель, помогая не умевшим строить перспективу Малевичу, Суетину и Чашнику. В ПИГИ в те годы полностью сохранялась традиционная система преподавания, основанная на штудировании классических образцов и выполнении учебных проектов в различных стилях.
Малевич мечтал о «планитах для землянитов», которые будут обитать в космосе, у Хидекеля «земляниты» были намного ближе. Города будущего это земные города на столбах, города над водой, откуда жители спускаются на землю на лифтах. Хидекель еще студентом пережил серьезное наводнение в Ленинграде, его ответом в 1925 году стал проект «Надводный город». Затем «Аэрогород», который жители могли бы использовать в качестве укрытия от наводнения, он как Ноев ковчег поднимался вместе с уровнем воды, и опускался, когда вода уходила.
Его первыми самостоятельными архитектурными работами стали постройки первого в СССР Радиотеатра (1928), Дома радио, электростанции и соцгородка на Невской Дубровке (1930-1933). В Социалистическом городке для рабочих Дубровской электростанции в Кировском районе было возведено несколько жилых домов, бани, магазин, были задуманы Дом культуры и стадион. Все было уничтожено бомбежками во время Великой Отечественной. Среди проектов Хидекеля - курсовой проект "Коллективное жилище" (1927), студенческий дом-коммуна (1929-1930, совместно с Н. Калугиным и М. Свисчевской), И тем не менее, из всех авангардистов Хидекелю больше всего повезло воплотить свои супрематические мечты в реальность. Вероятно, именно потому, что архитектура очень сложная наука, намного ответственнее и серьезнее, чем оформление театральных сцен и декорация Зимнего дворца к Первому мая.
Для проекта трехзального кинотеатра «Москва» в Ленинграде (Адмиралтейский район, Старо-Петергофский проспект, 6), первого многозального кинотеатра в мире, Хидекель берет за основу проект Аэроклуба, придуманный им в 1924 году. "Аэроклуб" в свое время стал первой объемной супрематическая композицией, где не только показаны оконные и дверные проемы, но выявлена толщина стен. С одной стороны «Москва» - это сталинский неоклассицизм, но в котором угадывается крестообразная структура, открывающаяся при взгляде на строение сверху. Тут стоит упомянуть, что кинотеатр был построен на месте уничтоженного в 1929 году храма Святой Екатерины. Но крест для Лазаря был символом далеким от религии — его «Желтый крест» так же узнаваем, как «Черный квадрат» Малевича, как мы помним, помещенный на первой выставке вместо иконы в красном углу. В 1967 кинотеатр «Москва» был отнесен к категории объектов культурного наследия регионального значения. Это было первое прижизненное признание Лазаря Хидекеля как мастера архитектуры. В 2001 году здание включено КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».
Крупными работами Хидекеля стали также здания школ, Ленинградского института гражданских инженеров (ЛИСИ) и Гидрометеорологического института на правом берегу Невы. Под влиянием Хидекеля в ленинградской архитектурной школе возникает направление супрематического конструктивизма.
«С открытием внутренних, скрытых сил природы зарождается новая, более высокая цивилизация, где будущая архитектура должна основываться на своих законах, не разрушающих естественную среду, а вступающих в благотворное пространственное взаимодействие с окружающей природой — Лазарь Хидекель, статья «Путь УНОВИСа» в журнале УНОВИСа «Аэро», 1921
Несмотря на то, что Хидекель абстракционист, чьи мысли обращались к космосу, полетам к другим планетам, и обзору земной плоскости с аэро-точки зрения, его можно назвать истинным зеленым архитектором. Вернувшись из космоса, начинаешь ценить хрупкий мир на планете Земля. Отсюда его проекты городов на опорах, например. Еще в 1928 году в журнале «Наука и техника» публикуется его статья «Плоские крыши», в которой он пишет, что плоские крыши можно использовать как дополнительную рекреационную площадь. В том числе пишет о создании на крыше садов.
«Такие архитекторы как Заха Хадид, Даниел Либескинд признают, что влияние супрематизма было решающим в их творчестве. Идеи супрематизма были также использованы в работах учеников Лазаря Хидекеля, в том числе в проекте «Аполлон-Союз» — проекте поселений на Луне в 1970-е годы ахитекторов Марка Хидекеля и Олега Романова. Проект был создан, когда налаживалось сотрудничество в космосе между США и СССР. Когда мы уже уехали из Ленинграда и поселились в Нью-Йорке, Марк Хидекель создал такие проекты, как вертикальный хайвей, а также город-мост, основанные на принципах супрематизма и идеях аэрогорода. Идея создания города на опорах актуальна и сейчас.» - Регина Хидекель, президент «Общества Лазаря Хидекеля».
С 1934 года Лазарь Мордухович Хидекель — руководитель мастерской Ленпроекта. В войну работал главным архитектором института «Механобр», эвакуированного на Урал и проектировавшего в те годы танковые заводы. После войны преподавал архитектуру в Ленинградском инженерно-строительном институте. Хидекель оставил заметный след в преподавании архитектурной дисциплины, создав свою уникальную школу, свой особенный почерк и методику преподавания.
«Наряду с художественными работами Хидекеля, особый интерес представляют его футурологические архитектурные проекты. Ведь он был одним из первых архитекторов, стремившихся при проектировании учесть такой важнейший фактор, как экология. Еще в 1920-х годах он говорил о том, что противоречия между цивилизацией и природой должны быть решены в гармоническом единстве: развитие цивилизации при сохранении природы. И эти взгляды - беречь природу и защищать человека через создание экологических архитектурных проектов - он пронес через всю жизнь». -Регина Хидекель, президент "Общества Лазаря Хидекеля"
"Общество Лазаря Хидекеля" учредило специальную премию и каждый год вручает ее молодым архитекторам за экологические и инновационные решения. Символом премии стала хрустальная поверхность, на которой высечена композиция Лазаря Хидекеля "Рассечение черного квадрата". Это напоминание о словах, которые Хидекель сказал Малевичу после создания "Черного квадрата", когда казалось, что этим произведением в супрематизме все сказано: "Нет, Казимир Малевич, мы ваш квадрат рассечем, и это будет продолжением".
Скончался Лазарь Хидекель 22 ноября 1986 года в Ленинграде. Похоронен на кладбище посёлка Комарово.
В 2018 году в Петербурге была открыта первая в России персональная выставка Лазаря Хидекеля. Его потомки живут и работают в Америке.
А что с хештегом? Присмотритесь внимательнее, ведь это вовсе не решетка, а целый футуристический город. Только для того, чтобы это увидеть, надо подняться в космос или стать птицей. Изменить свою точку зрения и с этой точки протянуть линии. Такой линией для Лазаря Хидекеля и стала вся его жизнь.
Мария Мальцева-Самойлович.
Жилые космические станции, сады и огороды на плоских крышах, многозальные кинотеатры, города на опорах, экологический подход к строительству и организации урбанистического пространства — нет, это не повестка круглого стола фестиваля «Урбанино» 20-ых годов 21 века. С хештегом «модно_молодежно». Кстати, про хештег...
«Нас поймут через 100 лет» - так называлась первая выставка Лазаря Хидекеля в Минске, которая прошла как раз спустя 100 лет его поступления в художественную витебскую школу. Архитектор, последователь супрематизма, художник, человек открывший космос, чтобы по-новому увидеть пространство Земли, родился в семье архитектора Мордуха Ароновича Хидекеля в Витебске в 1904 году. В конце 1910-ых этот небольшой городок был центром международного авангарда, одной из основных площадок которого была Витебская народная художественная школа Марка Шагала, где преподавали Мстислав Добужинский, Эль Лисицкий и Казимир Малевич. В 14 лет Лазарь поступает в школу и особое внимание уделяет курсу проекционного черчения Эль Лисицкого. Систему супрематизма подростку преподает Казимир Малевич. Первый и последний выпуск школы состоялся в мае 1922 года. До выпуска ученики и учителя успели придумать авангардное художественное объединение УНОВИС, чья кратковременная деятельность стала знаковым этапом в истории мирового авангарда, повлиявшего на возникновение ряда радикальных преобразований традиционного художественного языка. 8 из 10 выпускников ВНХШ были членами УНОВИСа. В 1922 году Н. Суетин, И. Чашник, Л. Хидекель, Л. Юдин и Н. Коган вместе с несколькими студентами младших курсов уезжают в Петроград. Так называемая Витебская группа вошла в структуры созданного и руководимого Малевичем ГИНХУКа (Института художественной культуры).
Уже в 16 лет Лазарь возглавил архитектурную мастерскую УНОВИСа. Первое, что по воспоминаниям сына Хидекеля, спросил Марк Шагал встретив своего ученика в 1973 году в Ленинграде: Лазарь, ты был таким талантливым художником, почему ты стал архитектором?
Уже в 15 лет Хидекель выставлялся с зрелыми мастерами - П. Кончаловским, А. Экстер, В. Кандинским, А. Родченко, К. Малевичем, М. Шагалом. Студенческая работа «Проект рабочего клуба» от 1926 года вошла в историю архитектуры и авангарда как первый супрематический архитектурный проект. Правда в одном немецком журнале Казимир Малевич пытался выдать этот проект за свой, но кто же помнит. В ГИНХУКе под руководством Малевича начинается работа над объемостроением. Плоскостные изображения становятся планами объемных тел. На первой отчетной выставке ГИНХУКа, летом 1924 года выставляются планиты (графические изображения супрематических сооружений). На второй, летом 1926-го — архитектоны (гипсовые архитектурные модели).
«Черный квадрат вырос в архитектуру такими формами, что трудно выразить вид архитектуры, принял такой образ, что нельзя найти /его форму/. Это форма какого-то нового живого организма» - Казимир Малевич
Лазарь Хидекель был единственным архитектором в супрематизме, при этом в 1927 году Малевич закончит линию развития супрематизма, приведя его к архитектуре. Его супремусы обрели объем в проунах Эль Лисицкого, но материализовал их именно Лазарь Хидекель. Серьезное образование Хидекель получил в Петроградском институте гражданских инженеров, не теряя связи с Малевичем и ГИНХУКом, помогает его членам осваивать приемы построения перспективы, которым его научили в институте. Некоторые графические архитектоны и планиты, выполненные в перспективе, чертил именно Хидекель, помогая не умевшим строить перспективу Малевичу, Суетину и Чашнику. В ПИГИ в те годы полностью сохранялась традиционная система преподавания, основанная на штудировании классических образцов и выполнении учебных проектов в различных стилях.
Малевич мечтал о «планитах для землянитов», которые будут обитать в космосе, у Хидекеля «земляниты» были намного ближе. Города будущего это земные города на столбах, города над водой, откуда жители спускаются на землю на лифтах. Хидекель еще студентом пережил серьезное наводнение в Ленинграде, его ответом в 1925 году стал проект «Надводный город». Затем «Аэрогород», который жители могли бы использовать в качестве укрытия от наводнения, он как Ноев ковчег поднимался вместе с уровнем воды, и опускался, когда вода уходила.
Его первыми самостоятельными архитектурными работами стали постройки первого в СССР Радиотеатра (1928), Дома радио, электростанции и соцгородка на Невской Дубровке (1930-1933). В Социалистическом городке для рабочих Дубровской электростанции в Кировском районе было возведено несколько жилых домов, бани, магазин, были задуманы Дом культуры и стадион. Все было уничтожено бомбежками во время Великой Отечественной. Среди проектов Хидекеля - курсовой проект "Коллективное жилище" (1927), студенческий дом-коммуна (1929-1930, совместно с Н. Калугиным и М. Свисчевской), И тем не менее, из всех авангардистов Хидекелю больше всего повезло воплотить свои супрематические мечты в реальность. Вероятно, именно потому, что архитектура очень сложная наука, намного ответственнее и серьезнее, чем оформление театральных сцен и декорация Зимнего дворца к Первому мая.
Для проекта трехзального кинотеатра «Москва» в Ленинграде (Адмиралтейский район, Старо-Петергофский проспект, 6), первого многозального кинотеатра в мире, Хидекель берет за основу проект Аэроклуба, придуманный им в 1924 году. "Аэроклуб" в свое время стал первой объемной супрематическая композицией, где не только показаны оконные и дверные проемы, но выявлена толщина стен. С одной стороны «Москва» - это сталинский неоклассицизм, но в котором угадывается крестообразная структура, открывающаяся при взгляде на строение сверху. Тут стоит упомянуть, что кинотеатр был построен на месте уничтоженного в 1929 году храма Святой Екатерины. Но крест для Лазаря был символом далеким от религии — его «Желтый крест» так же узнаваем, как «Черный квадрат» Малевича, как мы помним, помещенный на первой выставке вместо иконы в красном углу. В 1967 кинотеатр «Москва» был отнесен к категории объектов культурного наследия регионального значения. Это было первое прижизненное признание Лазаря Хидекеля как мастера архитектуры. В 2001 году здание включено КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».
Крупными работами Хидекеля стали также здания школ, Ленинградского института гражданских инженеров (ЛИСИ) и Гидрометеорологического института на правом берегу Невы. Под влиянием Хидекеля в ленинградской архитектурной школе возникает направление супрематического конструктивизма.
«С открытием внутренних, скрытых сил природы зарождается новая, более высокая цивилизация, где будущая архитектура должна основываться на своих законах, не разрушающих естественную среду, а вступающих в благотворное пространственное взаимодействие с окружающей природой — Лазарь Хидекель, статья «Путь УНОВИСа» в журнале УНОВИСа «Аэро», 1921
Несмотря на то, что Хидекель абстракционист, чьи мысли обращались к космосу, полетам к другим планетам, и обзору земной плоскости с аэро-точки зрения, его можно назвать истинным зеленым архитектором. Вернувшись из космоса, начинаешь ценить хрупкий мир на планете Земля. Отсюда его проекты городов на опорах, например. Еще в 1928 году в журнале «Наука и техника» публикуется его статья «Плоские крыши», в которой он пишет, что плоские крыши можно использовать как дополнительную рекреационную площадь. В том числе пишет о создании на крыше садов.
«Такие архитекторы как Заха Хадид, Даниел Либескинд признают, что влияние супрематизма было решающим в их творчестве. Идеи супрематизма были также использованы в работах учеников Лазаря Хидекеля, в том числе в проекте «Аполлон-Союз» — проекте поселений на Луне в 1970-е годы ахитекторов Марка Хидекеля и Олега Романова. Проект был создан, когда налаживалось сотрудничество в космосе между США и СССР. Когда мы уже уехали из Ленинграда и поселились в Нью-Йорке, Марк Хидекель создал такие проекты, как вертикальный хайвей, а также город-мост, основанные на принципах супрематизма и идеях аэрогорода. Идея создания города на опорах актуальна и сейчас.» - Регина Хидекель, президент «Общества Лазаря Хидекеля».
С 1934 года Лазарь Мордухович Хидекель — руководитель мастерской Ленпроекта. В войну работал главным архитектором института «Механобр», эвакуированного на Урал и проектировавшего в те годы танковые заводы. После войны преподавал архитектуру в Ленинградском инженерно-строительном институте. Хидекель оставил заметный след в преподавании архитектурной дисциплины, создав свою уникальную школу, свой особенный почерк и методику преподавания.
«Наряду с художественными работами Хидекеля, особый интерес представляют его футурологические архитектурные проекты. Ведь он был одним из первых архитекторов, стремившихся при проектировании учесть такой важнейший фактор, как экология. Еще в 1920-х годах он говорил о том, что противоречия между цивилизацией и природой должны быть решены в гармоническом единстве: развитие цивилизации при сохранении природы. И эти взгляды - беречь природу и защищать человека через создание экологических архитектурных проектов - он пронес через всю жизнь». -Регина Хидекель, президент "Общества Лазаря Хидекеля"
"Общество Лазаря Хидекеля" учредило специальную премию и каждый год вручает ее молодым архитекторам за экологические и инновационные решения. Символом премии стала хрустальная поверхность, на которой высечена композиция Лазаря Хидекеля "Рассечение черного квадрата". Это напоминание о словах, которые Хидекель сказал Малевичу после создания "Черного квадрата", когда казалось, что этим произведением в супрематизме все сказано: "Нет, Казимир Малевич, мы ваш квадрат рассечем, и это будет продолжением".
Скончался Лазарь Хидекель 22 ноября 1986 года в Ленинграде. Похоронен на кладбище посёлка Комарово.
В 2018 году в Петербурге была открыта первая в России персональная выставка Лазаря Хидекеля. Его потомки живут и работают в Америке.
А что с хештегом? Присмотритесь внимательнее, ведь это вовсе не решетка, а целый футуристический город. Только для того, чтобы это увидеть, надо подняться в космос или стать птицей. Изменить свою точку зрения и с этой точки протянуть линии. Такой линией для Лазаря Хидекеля и стала вся его жизнь.
Мария Мальцева-Самойлович.
Апсит
Первая мировая война внесла изменения не только в статистику по демографии, но и в историю русского плаката. В эпоху 1914—1917 г.г. правительства воюющих стран начали пользоваться цветной литографией, как орудием массового внушения. Плакат-реклама на время войны уступил место вербовочным литографиям; листы приглашали граждан записываться добровольцами на войну, возжигали любовь к своему отечеству и ненависть к врагам, поднимали военный дух и, приглашали не жалеть своих накоплений, отдавая их правительству на великие цели.
Агитация за военные займы 6ыла главной задачей русского военного плаката того времени. Отсутствие размаха этой агитации и ограниченный подход правительства по сути не давали развиваться этому изобразительному направлению. Формализм в работе привлеченных художников не приблизил ни на сантиметр выход искусства на улицы, в органичную среду для плаката. Даже выставка английского военного плаката в 1916 г. в Петербурге в Академии Художеств, показавшая и обилие тем, и своеобразие приемов английских мастеров, не оказала никакого влияния на техническое совершенство русских военных литографий. Это были все те же рисунки, похожие на иллюстрации к «Солнцу России» или «Огоньку». Тем не менее, благодаря военному плакату, заборы и стены домов стали пестрить лозунгами, заинтересовавшими широкие слои населения. Потихоньку политика просачивалась на улицу. Военный плакат стал предшественником плаката предвыборного, политического, партийного. Революция открыла дверь, через которую революционный плакат хлынул на улицу. С наступлением эпохи военного коммунизма создались условия, потребовавшие исключительного напряжения сил и средств для защиты революции. Этими условиями и был подготовлен расцвет революционного плаката.
Первые литографии, открывшие послеоктябрьский период развития русского плаката, были выпущены издательством Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Р. К. К. и К. депутатов в 1917 году. Со стороны живописной техники это были народные картинки, ведущие свою родословную от сытинских лубков. Чуть ли ни единственным поставщиком этих литографий первое время был художник Апсит.
Его необыкновенная плодовитость, к сожалению, нисколько не соответствовала качеству его работ. Это был посредственный рисовальщик, „никакой“ живописец, обладавший всеми недостатками эпигонов передвижничества, разменявшихся на мелочи и заполнявших иллюстрированные еженедельники дореволюционного бульвара. Художник, разумеется, чаще всего получал „тему“, ему подробно растолковывали, что и как следует изобразить, он терпеливо переделывал и дополнял свои эскизы, послушно следуя указаниям, — так что литографии Апсита со стороны содержания могут быть признаны продуктом коллективного творчества. Они бесконечно далеки от совершенства. Плакатами мы их не назовем. Но за ними имеется заслуга: в истории Октябрьской революции это были первые опыты использования литографского камня для пропаганды и агитации. - В.Полонский «Русский революционный плакат». 1925 год
Александр Апсит (Апситис) родился в 1880 г. в Риге в рабочей семье. Когда Александру было 14 лет, семья переехала в Санкт-Петербург, где он в дальнейшем получил достойное художественное образование в частной студии Дмитриева-Кавказского.
По окончании учебы молодой художник уехал на Новый Афон, где занимался православной живописью, выполнял храмовые росписи, иллюстрировал книги о Новом Афоне.
Однако, через несколько лет фрески наскучили Апситу, он вернулся в Петербург и погрузился в светскую коммерческую живопись - дизайн промышленной упаковки, рекламные плакаты, афиши для модного синематографа в стиле модерн. Кроме того, работал в иллюстрированных журналах "Нива", "Родина" и др., делал рисунки для открыток (интересна его серия «алкогольных» открыток, направленная на борьбу с пьянством). В революционном 1905 году художник переехал в Москву. Здесь Апсит добивается успеха как книжный иллюстратор. Сотрудничает с издательствами Сытина и Ступина, оформляя издания книг великих русских писателей - Толстого, Лескова, Чехова, Горького. Подарочное издание "Войны и мира" к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года вышло с иллюстрациями Апсита. Тема очень увлекла художника, вскоре Апсит подготовил большую серию открыток с "картинами войны". Начавшаяся вскоре Первая мировая война сделала их особо популярными, как напоминание о победах русского оружия.
Работы военного времени отличались большим патриотизмом - благотворительные открытки с целью сбора помощи фронту, фронтовые открытки, и альбомы военных зарисовок. Александр Петрович выезжал на позиции, чтобы запечатлеть армию в боевой обстановке, а потом эти работы в сопровождении стихов и рассказов выходили в виде альбомов «В дни войны» в издательстве «Зарево».
Работал художник очень много и часто подписывал свои работы разными именами: Петров, Аспид, Осинин, Скиф. Обычные люди даже и не догадывались, что все это один и тот же человек.
То, что патриотичный и преданный идеалам Российской империи Апсит принял революцию 1917 года, многих удивило. Латышские стрелки были известны своим вкладом в победу большевиков, латышский художник Апсит послужил делу революции своим художественным талантом. Его соратники и друзья совершенно не могли понять, как мастер, у которого так все гладко складывалось в Российской империи, решил вложиться в ее уничтожение. Но именно он стал первым и крайне плодовитым автором ВЦИК. Анкета Аспита для новой власти тоже очень подходила - из рабочей семьи, сын кузнеца, трудовой интеллигент в первом поколении.
Как на образец этих первых опытов, укажем на литографию „Интернационал“. Она представляет собой, в сущности, огромную иллюстрацию к гимну. Фантазия художника, несмотря на обилие сказочных деталей, поражает своей бедностью. Краски тусклы; „картинка“, вопреки своим размерам, стилизована под конфетную коробку. На действие она не толкает, ни к чему не зовет. Художник изо всех сил старается вызвать в зрителе ненависть к царю-капиталу. Обилие „книжных“ деталей, вымученность воображения, бледность красок, — все это низводит рассматриваемое произведение в самый последний разряд революционных литографий.- В.Полонский «Русский революционный плакат». 1925 год
В композициях, торжественно-праздничных («Год пролетарской диктатуры») или обличающих («Интернационал»), многофигурных и перегруженных деталями, выделяются обобщенные символические образы, - революция в виде юноши с факелом на белом Пегасе, капитализм в виде мерзкого чудища. Апситом найдены аллегории и метафоры, которые получат широкое распространение в революционном искусстве, например, земной шар, обвитый полотнищем красного знамени («1 Мая»). Особенно богат революционной символикой плакат «Год пролетарской диктатуры» - важный исторический документ времени, этапное художественное произведение. Здесь воплощены основные элементы образного языка и композиционной структуры революционного плаката: типы новых героев времени - рабочего и крестьянина, атрибуты их труда и атрибуты побежденного царизма, картина светлого индустриального будущего, мотивы солнца, шествия и, наконец, новые принципы временного и пространственного решения. Плакат несет следы влияния книжной графики и исполнен в реалистической манере рисунка.
На плакате «1 мая. Рабочим нечего терять, кроме своих цепей» на фоне звездного неба Аспит изображает Землю с контурами континентов - Европы, Африки, Азии и Австралии. Часть Европы, занятая Россией, покрыта красным цветом, и в ее центре водружено огромное красное знамя, перебросившееся через полюс и опоясывающее планету, захватив одним концом и Австралию. На нижней части литографии мы видим международный митинг: советский рабочий держит речь. По захвату темы, при экономной и одновременно наглядной разработке изображения — это единственный из листов, выпущенных издательством ВЦИК, который может быть назван плакатом в настоящем смысле слова.
Александр Аспит зарекомендовал себя как художник, работающий оперативно. Плакат «Грудью на защиту Петрограда!» в 1919 году написан за несколько часов во время наступления войск Н. Юденича на столицу. Это предельно лаконичная, монохромная, однозначная в смысловом решении работа, но при этом лишенная небрежностей даже в деталях. Опасность ситуации и конкретность призыва потребовали не иносказательных, а предельно узнаваемых образов. Художник изобразил защитников Петрограда крупным планом, это усилило эмоциональное начало плаката, подчеркнуло суровость и решимость людей. Карандашная манера придавала изображению документальность, беглая зарисовка беспокойным штрихом казалось была сделана прямо с натуры, а строй бойцов уподоблен автором нерушимой стене. Реалистическая убедительность образов, эмоциональная мощь, действенность призыва выдвинули данный плакат Александра Петровича Апсита в число классических произведений агитационного искусства.
Оставаясь верным реалистичной графической манере, Апсит менял средства выразительности в зависимости от задачи: растолковывая и объясняя события и факты он использовал принципы многокадрового лубка — многодетального и многофигурного рисунка — такая художественная форма была более понятна народу. В агитационных плакатах художник лаконичен, вместо аллегорических образов обращается к реалистическим, обобщает формы, добивается динамичности композиции.
Деятельность его оборвалась внезапно: в 1919 году во время наступления Деникина он уехал из Москвы и следы его потерялись. После завершения Гражданской войны его обнаружили на родине — в Латвии. Там он продолжал работать как иллюстратор и плакатист, рисовал пасхальные картинки с приглаженными прибалтийскими селянами и подняться до вершин творческого взлета 1918 - 1919 годов так и не смог. В 1939 году Латвия была присоединена к СССР, но Александр Апсит не пожелал снова жить при советской власти, становлению которой сам же и способствовал, и предпочел уехать в гитлеровскую Германию.
В 1944 году, когда Вторая мировая война уже шла к завершению, Александр Апсит скончался в маленьком немецком городке Людвигслюст. Его революционный плакат остался самой яркой страницей творчества Александра Петровича Аспита и существенным вкладом в историю советского искусства.
Мария Мальцева-Самойлович.
Агитация за военные займы 6ыла главной задачей русского военного плаката того времени. Отсутствие размаха этой агитации и ограниченный подход правительства по сути не давали развиваться этому изобразительному направлению. Формализм в работе привлеченных художников не приблизил ни на сантиметр выход искусства на улицы, в органичную среду для плаката. Даже выставка английского военного плаката в 1916 г. в Петербурге в Академии Художеств, показавшая и обилие тем, и своеобразие приемов английских мастеров, не оказала никакого влияния на техническое совершенство русских военных литографий. Это были все те же рисунки, похожие на иллюстрации к «Солнцу России» или «Огоньку». Тем не менее, благодаря военному плакату, заборы и стены домов стали пестрить лозунгами, заинтересовавшими широкие слои населения. Потихоньку политика просачивалась на улицу. Военный плакат стал предшественником плаката предвыборного, политического, партийного. Революция открыла дверь, через которую революционный плакат хлынул на улицу. С наступлением эпохи военного коммунизма создались условия, потребовавшие исключительного напряжения сил и средств для защиты революции. Этими условиями и был подготовлен расцвет революционного плаката.
Первые литографии, открывшие послеоктябрьский период развития русского плаката, были выпущены издательством Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Р. К. К. и К. депутатов в 1917 году. Со стороны живописной техники это были народные картинки, ведущие свою родословную от сытинских лубков. Чуть ли ни единственным поставщиком этих литографий первое время был художник Апсит.
Его необыкновенная плодовитость, к сожалению, нисколько не соответствовала качеству его работ. Это был посредственный рисовальщик, „никакой“ живописец, обладавший всеми недостатками эпигонов передвижничества, разменявшихся на мелочи и заполнявших иллюстрированные еженедельники дореволюционного бульвара. Художник, разумеется, чаще всего получал „тему“, ему подробно растолковывали, что и как следует изобразить, он терпеливо переделывал и дополнял свои эскизы, послушно следуя указаниям, — так что литографии Апсита со стороны содержания могут быть признаны продуктом коллективного творчества. Они бесконечно далеки от совершенства. Плакатами мы их не назовем. Но за ними имеется заслуга: в истории Октябрьской революции это были первые опыты использования литографского камня для пропаганды и агитации. - В.Полонский «Русский революционный плакат». 1925 год
Александр Апсит (Апситис) родился в 1880 г. в Риге в рабочей семье. Когда Александру было 14 лет, семья переехала в Санкт-Петербург, где он в дальнейшем получил достойное художественное образование в частной студии Дмитриева-Кавказского.
По окончании учебы молодой художник уехал на Новый Афон, где занимался православной живописью, выполнял храмовые росписи, иллюстрировал книги о Новом Афоне.
Однако, через несколько лет фрески наскучили Апситу, он вернулся в Петербург и погрузился в светскую коммерческую живопись - дизайн промышленной упаковки, рекламные плакаты, афиши для модного синематографа в стиле модерн. Кроме того, работал в иллюстрированных журналах "Нива", "Родина" и др., делал рисунки для открыток (интересна его серия «алкогольных» открыток, направленная на борьбу с пьянством). В революционном 1905 году художник переехал в Москву. Здесь Апсит добивается успеха как книжный иллюстратор. Сотрудничает с издательствами Сытина и Ступина, оформляя издания книг великих русских писателей - Толстого, Лескова, Чехова, Горького. Подарочное издание "Войны и мира" к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года вышло с иллюстрациями Апсита. Тема очень увлекла художника, вскоре Апсит подготовил большую серию открыток с "картинами войны". Начавшаяся вскоре Первая мировая война сделала их особо популярными, как напоминание о победах русского оружия.
Работы военного времени отличались большим патриотизмом - благотворительные открытки с целью сбора помощи фронту, фронтовые открытки, и альбомы военных зарисовок. Александр Петрович выезжал на позиции, чтобы запечатлеть армию в боевой обстановке, а потом эти работы в сопровождении стихов и рассказов выходили в виде альбомов «В дни войны» в издательстве «Зарево».
Работал художник очень много и часто подписывал свои работы разными именами: Петров, Аспид, Осинин, Скиф. Обычные люди даже и не догадывались, что все это один и тот же человек.
То, что патриотичный и преданный идеалам Российской империи Апсит принял революцию 1917 года, многих удивило. Латышские стрелки были известны своим вкладом в победу большевиков, латышский художник Апсит послужил делу революции своим художественным талантом. Его соратники и друзья совершенно не могли понять, как мастер, у которого так все гладко складывалось в Российской империи, решил вложиться в ее уничтожение. Но именно он стал первым и крайне плодовитым автором ВЦИК. Анкета Аспита для новой власти тоже очень подходила - из рабочей семьи, сын кузнеца, трудовой интеллигент в первом поколении.
Как на образец этих первых опытов, укажем на литографию „Интернационал“. Она представляет собой, в сущности, огромную иллюстрацию к гимну. Фантазия художника, несмотря на обилие сказочных деталей, поражает своей бедностью. Краски тусклы; „картинка“, вопреки своим размерам, стилизована под конфетную коробку. На действие она не толкает, ни к чему не зовет. Художник изо всех сил старается вызвать в зрителе ненависть к царю-капиталу. Обилие „книжных“ деталей, вымученность воображения, бледность красок, — все это низводит рассматриваемое произведение в самый последний разряд революционных литографий.- В.Полонский «Русский революционный плакат». 1925 год
В композициях, торжественно-праздничных («Год пролетарской диктатуры») или обличающих («Интернационал»), многофигурных и перегруженных деталями, выделяются обобщенные символические образы, - революция в виде юноши с факелом на белом Пегасе, капитализм в виде мерзкого чудища. Апситом найдены аллегории и метафоры, которые получат широкое распространение в революционном искусстве, например, земной шар, обвитый полотнищем красного знамени («1 Мая»). Особенно богат революционной символикой плакат «Год пролетарской диктатуры» - важный исторический документ времени, этапное художественное произведение. Здесь воплощены основные элементы образного языка и композиционной структуры революционного плаката: типы новых героев времени - рабочего и крестьянина, атрибуты их труда и атрибуты побежденного царизма, картина светлого индустриального будущего, мотивы солнца, шествия и, наконец, новые принципы временного и пространственного решения. Плакат несет следы влияния книжной графики и исполнен в реалистической манере рисунка.
На плакате «1 мая. Рабочим нечего терять, кроме своих цепей» на фоне звездного неба Аспит изображает Землю с контурами континентов - Европы, Африки, Азии и Австралии. Часть Европы, занятая Россией, покрыта красным цветом, и в ее центре водружено огромное красное знамя, перебросившееся через полюс и опоясывающее планету, захватив одним концом и Австралию. На нижней части литографии мы видим международный митинг: советский рабочий держит речь. По захвату темы, при экономной и одновременно наглядной разработке изображения — это единственный из листов, выпущенных издательством ВЦИК, который может быть назван плакатом в настоящем смысле слова.
Александр Аспит зарекомендовал себя как художник, работающий оперативно. Плакат «Грудью на защиту Петрограда!» в 1919 году написан за несколько часов во время наступления войск Н. Юденича на столицу. Это предельно лаконичная, монохромная, однозначная в смысловом решении работа, но при этом лишенная небрежностей даже в деталях. Опасность ситуации и конкретность призыва потребовали не иносказательных, а предельно узнаваемых образов. Художник изобразил защитников Петрограда крупным планом, это усилило эмоциональное начало плаката, подчеркнуло суровость и решимость людей. Карандашная манера придавала изображению документальность, беглая зарисовка беспокойным штрихом казалось была сделана прямо с натуры, а строй бойцов уподоблен автором нерушимой стене. Реалистическая убедительность образов, эмоциональная мощь, действенность призыва выдвинули данный плакат Александра Петровича Апсита в число классических произведений агитационного искусства.
Оставаясь верным реалистичной графической манере, Апсит менял средства выразительности в зависимости от задачи: растолковывая и объясняя события и факты он использовал принципы многокадрового лубка — многодетального и многофигурного рисунка — такая художественная форма была более понятна народу. В агитационных плакатах художник лаконичен, вместо аллегорических образов обращается к реалистическим, обобщает формы, добивается динамичности композиции.
Деятельность его оборвалась внезапно: в 1919 году во время наступления Деникина он уехал из Москвы и следы его потерялись. После завершения Гражданской войны его обнаружили на родине — в Латвии. Там он продолжал работать как иллюстратор и плакатист, рисовал пасхальные картинки с приглаженными прибалтийскими селянами и подняться до вершин творческого взлета 1918 - 1919 годов так и не смог. В 1939 году Латвия была присоединена к СССР, но Александр Апсит не пожелал снова жить при советской власти, становлению которой сам же и способствовал, и предпочел уехать в гитлеровскую Германию.
В 1944 году, когда Вторая мировая война уже шла к завершению, Александр Апсит скончался в маленьком немецком городке Людвигслюст. Его революционный плакат остался самой яркой страницей творчества Александра Петровича Аспита и существенным вкладом в историю советского искусства.
Мария Мальцева-Самойлович.
Рождение киноплаката
Михаил Сергеевич Трофименков, великий, говорит, что кино всегда, с самого начала, было искусством политическим.
Нет никаких причин не верить Трофименкову.
И если так, то что уж тогда говорить о киноплакате? Этот важнейший жанр плаката, целиком починенный собственно кино как своему источнику, особенно в советском государстве — был, разумеется, насквозь политическим. То есть киноплакат, помимо информационной, рекламной, эстетической функций — нес функцию пропаганды. И это значит, что любой разговор об агитплакате без упоминания киноплаката был бы неполным.
Однако для того, чтобы что-то понять про советский киноплакат, нужно, как говорят модные видеоблогеры, откатиться назад, к истокам киноплаката вообще и русского в частности.
Кино возникло вовсе не как элитарное искусство — совсем наоборот: оно возникло как искусство ярмарки, балагана, массового народного зрелища, сродни цирку. Отсюда понятно, что киноплакат на заре своего существования, во-первых, был ориентирован на привлечение внимания невзыскательной публики и, во-вторых — в природе, как говаривал Аристотель, не бывает скачков, — киноплакат не появился ниоткуда, чертиком из табакерки, а в свою очередь вырос из других низовых жанров и наследовал им.
В первую очередь — из цирковой афиши. Раз уж у нас тут развлечение сродни цирку и предлагают его примерно той же публике — что ж тут странного: некоторые киноплакаты начала века буквально повторяют структуру типа «Только сегодня! Грандиозное представление! Женщина с бородой!».
Другой источник киноплаката — печатная реклама промышленных товаров. Что только естественно: в конце концов, фильма, демонстрирующая публике на ярмарке, — точно такой же продукт, который надо продать, как любой другой товар, будь то сигара, ликер или какая-нибудь там машинка для завивки усов.
Наконец, еще один, характерный только для русской почвы, источник киноплаката — лубок. Лубок был самым популярным, народным родом искусства; более того, он в некотором смысле был промежуточной станцией между иллюстрацией и кино: на тех же ярмарках лубочник, взяв с публики по мелкой монете, менял картинки в специальном ящике и сопровождал меняющиеся изображения в меру таланта захватывающим рассказом — чем не протокино? И само собой разумеется, что ориентированный на ту же массовую, народную, простецкую публику киноплакат поначалу щедрой мерой черпал принципы изобразительности именно из искусства лубка.
Итак — цирк, реклама и лубок.
Правда, не мгновенно и не все сразу. Некоторое время фильмы в Российской Империи вообще были только импортные, в основном французские, и из Франции же привозили для них плакаты, лишь меняя французский текст на русский.
Первое русское кинопроизводство открывается в 1907 году, это кинофабрика Дранкова. Первая русская фильма появляется в 1908-ом — это «Понизовая вольница» (другое название — «Стенька Разин и княжна»). Плакат для фильма выполнил, правда, опять француз, Поль Ассатур, однако это все же официально первый русский киноплакат — и, что характерно, с явными признаками влияния лубка.
С этого момента русский киноплакат начинает долгий и трудный путь становления.
Параллельно развивается рекламное искусство, у которого, правда, была некоторая фора. Еще в 1897 году в Петербурге прошла Международная выставка художественных афиш. Русских экспонатов на ней еще совсем мало, 28 из более чем 200, однако она дала мощный толчок развитию индустрии. В 1912 году открылась уже исключительно русская выставка «Искусство в книге и плакате». Презираемый низкий жанр постепенно завоевывал уважение, внимание, право называться хотя бы отчасти искусством.
Существуют даже кое-какие рекламные плакаты Билибина, Сомова, Лансере, Бакста — но до рекламы как искусства, которым не стыдно заниматься, все же еще довольно далеко.
Однако если рекламная афиша — приживалка при истинном искусстве, то киноплакат — и вовсе сенная девка. Для крупного серьезного художника в то время заниматься киноплакатом было бы падением.
Что говорить, кино само по себе — все еще презренное развлечение для тупого быдла. «Художественный апаш, эстетический хулиган, холостой и грабительский привод на колесо истинного искусства» — это не кто-нибудь пишет, а Леонид Андреев в 1913 году.
Нельзя, однако, не отметить, что «грабительский привод на колесо истинного искусства» мгновенно используется государственной пропагандой. В 1912 году выходит патриотические фильмы: «Оборона Севастополя», а в 1913 — приуроченные к юбилею «Воцарение дома Романовых» и «300-летие Романовых».
Как же выглядел киноплакат в России в сакральном 1913 году?
Ну, например, так.
Чисто шрифтовой. Вот плакат к фильму «Женщина, которая изобрела любовь».
Или шрифтовой с кадрами из фильма. Таков плакат, рекламирующий как раз «300-летие дома Романовых».
Или шрифтовой с портретом или фотографией артиста/артистов. Вот, например, «Позабудь про камин, в нем погасли огни».
Таков киноплакат в своей массе — в одну краску на самой дешевой бумаге. Ведь жизнь киноплаката недолгая — несколько дней, неделя; он не защищен от дождя и ветра. Он — дешевый расходный материал; всерьез заморачиваться с ним так же глупо, как заморачиваться с флаерами местного салона красоты, которые вам раздают у метро, а вы выкидываете в ближайшую урну.
Однако жизнь не стоит на месте, и кино постепенно — сначала в Европе, потом у нас — из гадкого утенка превращается в лебедя. Правда, лебедь этот хищный и потихоньку начинает пожирать все вокруг.
Параллельно идут несколько процессов. Кино захватывает территорию того самого «истинного искусства»: в него приходят знаменитые театральные артисты, им заинтересовывается продвинутая молодежь, оно становится не только популярным у ширнармасс, но и модным у высоколобой публики.
Во-вторых, начало Первой мировой войны провоцирует взрывное развитие искусства агитационного политического плаката. Им занимаются и Васнецов, и Коровин, и Кустодиев (не говоря уж о плеяде молодых и талантливых). Это не значит, что агитплакат весь сразу становится высоким искусством, но все-таки появляется сама такая возможность. Отсюда один только шаг остается до мысли о том, что искусством может быть и другой плакат — плакат, рекламирующий кино.
Наконец, семимильными шагами развивается собственно техника кино, появляется монтаж. В Германии снимают первые авангардные фильмы — «Кабинет доктора Калигари» (1919) и «Носферату — Симфония ужаса» (1922); уже начинает работать Фриц Ланг.
Вот важная мысль: киноплакат целиком зависим от кино, от его техники, его языка, и поэтому любые новшества киноязыка неизбежно мгновенно отражаются и на искусстве киноплаката.
Однако мы забежали немного вперед.
Что ж, раз кино теперь ориентируется и на высоколобую публику, а высоколобая публика на момент десятых годов считает высшим достижением человеческого духа искусство модерна, то неизбежно появляется и модернистский киноплакат. Вот он. «Осень женщины» (1917), «Бездна» (1917), «Зеленый паук» (1916) — трудно не заметить, что плакаты эти будто срисованы с графики Бердслея.
И бросается в глаза, что плакаты эти — еще не самостоятельное явление искусства, что они пользуются языком книжной и журнальной графики. Киноплакат, как слепой котенок, тыкается то в модерн, то в импрессионизм, то еще куда, но все еще остается иллюстрацией. Самостоятельный язык киноплаката как таковой еще не сформировался. Но путь к нему уже виднеется.
При этом империалистическая война, превратившаяся в Гражданскую, с одной стороны, конечно, резко двинула вперед искусство агитационного политического плаката — но развитие кино и, разумеется, киноплаката она в то же самое время резко затормозила. Какое уж тут кино, кино — дорогая вещь, надо шить костюмы, арендовать площадки, нанимать артистов и так далее, но самое главное — где-то брать пленку. А ее нет. А ту, которая есть, надо использовать для агитационных документальных роликов.
И все же против диалектики не попрешь. Война создает условия для невиданных экспериментов. Она вызывает турбулентность в общественной жизни и ломает устоявшиеся художественные практики, экономические и социальные прежде всего, ну и эстетические вслед за ними. Киноплакатом начинают заниматься самые неожиданные люди. Не на регулярной основе, нет, но так создается задел для будущего.
Вот яркий пример плаката для агитфильма по сценарию Луначарского «Уплотнение» (1918).
А вот в том же году для фильма «Не для денег родившийся» делает плакат, снявшийся в нем же Маяковский.
В 1922 году к фильму «Доктор Мабузе, игрок» делает плакат Малевич (используя находку своего ученика Чашника, об этом мы уже говорили, когда рассказывали про последнего).
Страна после двух войн лежит в разрухе, кинопроизводство падает практически до нуля, четыре из пяти идущих на экранах фильмов — иностранного производства, своей пленки нет, хорошей бумаги и хороших красок тоже практически нет, однако лед уже пробит — уникальный язык киноплаката начинает складываться. Причем начинает складываться вместе с языком агитплаката, параллельно с ним, иногда буквально в тех же творческих лабораториях. И что, может быть, еще важнее — киноплакат сразу осознается именно как искусство пропаганды.
Киноплакат должен пропагандировать фильм — но вместе с тем он неизбежно пропагандирует идею, заложенную в фильме. Эта мысль уже для всех очевидна. Пусть пока еще не очень понятно, как именно это делать, но ведь главное поставить задачу и найти людей для ее выполнения. А как раз людей — молодых авангардных художников — революция и вытолкнула на передний край художественной жизни.
Таким образом, русский киноплакат за два десятилетия: 1) зародился от французского отца; 2) поплавал в околоплодных водах циркового плаката и рекламы промышленных товаров; 3) был привит лубком; 4) поиграл с актуальной книжной и журнальной иллюстрацией и, наконец, 5) оказался полностью готов к осознанию себя как передового политического искусства, причем 6) для работы с ним как с продвинутым политическим искусством уже были готовы кадры.
Оставалось совсем немного — наладить производство собственно кино. Что и будет сделано к середине двадцатых годов. И вот тогда наступит эпоха величия и славы советского киноплаката. О ней поговорим в следующий раз.
Вадим Левенталь.
Нет никаких причин не верить Трофименкову.
И если так, то что уж тогда говорить о киноплакате? Этот важнейший жанр плаката, целиком починенный собственно кино как своему источнику, особенно в советском государстве — был, разумеется, насквозь политическим. То есть киноплакат, помимо информационной, рекламной, эстетической функций — нес функцию пропаганды. И это значит, что любой разговор об агитплакате без упоминания киноплаката был бы неполным.
Однако для того, чтобы что-то понять про советский киноплакат, нужно, как говорят модные видеоблогеры, откатиться назад, к истокам киноплаката вообще и русского в частности.
Кино возникло вовсе не как элитарное искусство — совсем наоборот: оно возникло как искусство ярмарки, балагана, массового народного зрелища, сродни цирку. Отсюда понятно, что киноплакат на заре своего существования, во-первых, был ориентирован на привлечение внимания невзыскательной публики и, во-вторых — в природе, как говаривал Аристотель, не бывает скачков, — киноплакат не появился ниоткуда, чертиком из табакерки, а в свою очередь вырос из других низовых жанров и наследовал им.
В первую очередь — из цирковой афиши. Раз уж у нас тут развлечение сродни цирку и предлагают его примерно той же публике — что ж тут странного: некоторые киноплакаты начала века буквально повторяют структуру типа «Только сегодня! Грандиозное представление! Женщина с бородой!».
Другой источник киноплаката — печатная реклама промышленных товаров. Что только естественно: в конце концов, фильма, демонстрирующая публике на ярмарке, — точно такой же продукт, который надо продать, как любой другой товар, будь то сигара, ликер или какая-нибудь там машинка для завивки усов.
Наконец, еще один, характерный только для русской почвы, источник киноплаката — лубок. Лубок был самым популярным, народным родом искусства; более того, он в некотором смысле был промежуточной станцией между иллюстрацией и кино: на тех же ярмарках лубочник, взяв с публики по мелкой монете, менял картинки в специальном ящике и сопровождал меняющиеся изображения в меру таланта захватывающим рассказом — чем не протокино? И само собой разумеется, что ориентированный на ту же массовую, народную, простецкую публику киноплакат поначалу щедрой мерой черпал принципы изобразительности именно из искусства лубка.
Итак — цирк, реклама и лубок.
Правда, не мгновенно и не все сразу. Некоторое время фильмы в Российской Империи вообще были только импортные, в основном французские, и из Франции же привозили для них плакаты, лишь меняя французский текст на русский.
Первое русское кинопроизводство открывается в 1907 году, это кинофабрика Дранкова. Первая русская фильма появляется в 1908-ом — это «Понизовая вольница» (другое название — «Стенька Разин и княжна»). Плакат для фильма выполнил, правда, опять француз, Поль Ассатур, однако это все же официально первый русский киноплакат — и, что характерно, с явными признаками влияния лубка.
С этого момента русский киноплакат начинает долгий и трудный путь становления.
Параллельно развивается рекламное искусство, у которого, правда, была некоторая фора. Еще в 1897 году в Петербурге прошла Международная выставка художественных афиш. Русских экспонатов на ней еще совсем мало, 28 из более чем 200, однако она дала мощный толчок развитию индустрии. В 1912 году открылась уже исключительно русская выставка «Искусство в книге и плакате». Презираемый низкий жанр постепенно завоевывал уважение, внимание, право называться хотя бы отчасти искусством.
Существуют даже кое-какие рекламные плакаты Билибина, Сомова, Лансере, Бакста — но до рекламы как искусства, которым не стыдно заниматься, все же еще довольно далеко.
Однако если рекламная афиша — приживалка при истинном искусстве, то киноплакат — и вовсе сенная девка. Для крупного серьезного художника в то время заниматься киноплакатом было бы падением.
Что говорить, кино само по себе — все еще презренное развлечение для тупого быдла. «Художественный апаш, эстетический хулиган, холостой и грабительский привод на колесо истинного искусства» — это не кто-нибудь пишет, а Леонид Андреев в 1913 году.
Нельзя, однако, не отметить, что «грабительский привод на колесо истинного искусства» мгновенно используется государственной пропагандой. В 1912 году выходит патриотические фильмы: «Оборона Севастополя», а в 1913 — приуроченные к юбилею «Воцарение дома Романовых» и «300-летие Романовых».
Как же выглядел киноплакат в России в сакральном 1913 году?
Ну, например, так.
Чисто шрифтовой. Вот плакат к фильму «Женщина, которая изобрела любовь».
Или шрифтовой с кадрами из фильма. Таков плакат, рекламирующий как раз «300-летие дома Романовых».
Или шрифтовой с портретом или фотографией артиста/артистов. Вот, например, «Позабудь про камин, в нем погасли огни».
Таков киноплакат в своей массе — в одну краску на самой дешевой бумаге. Ведь жизнь киноплаката недолгая — несколько дней, неделя; он не защищен от дождя и ветра. Он — дешевый расходный материал; всерьез заморачиваться с ним так же глупо, как заморачиваться с флаерами местного салона красоты, которые вам раздают у метро, а вы выкидываете в ближайшую урну.
Однако жизнь не стоит на месте, и кино постепенно — сначала в Европе, потом у нас — из гадкого утенка превращается в лебедя. Правда, лебедь этот хищный и потихоньку начинает пожирать все вокруг.
Параллельно идут несколько процессов. Кино захватывает территорию того самого «истинного искусства»: в него приходят знаменитые театральные артисты, им заинтересовывается продвинутая молодежь, оно становится не только популярным у ширнармасс, но и модным у высоколобой публики.
Во-вторых, начало Первой мировой войны провоцирует взрывное развитие искусства агитационного политического плаката. Им занимаются и Васнецов, и Коровин, и Кустодиев (не говоря уж о плеяде молодых и талантливых). Это не значит, что агитплакат весь сразу становится высоким искусством, но все-таки появляется сама такая возможность. Отсюда один только шаг остается до мысли о том, что искусством может быть и другой плакат — плакат, рекламирующий кино.
Наконец, семимильными шагами развивается собственно техника кино, появляется монтаж. В Германии снимают первые авангардные фильмы — «Кабинет доктора Калигари» (1919) и «Носферату — Симфония ужаса» (1922); уже начинает работать Фриц Ланг.
Вот важная мысль: киноплакат целиком зависим от кино, от его техники, его языка, и поэтому любые новшества киноязыка неизбежно мгновенно отражаются и на искусстве киноплаката.
Однако мы забежали немного вперед.
Что ж, раз кино теперь ориентируется и на высоколобую публику, а высоколобая публика на момент десятых годов считает высшим достижением человеческого духа искусство модерна, то неизбежно появляется и модернистский киноплакат. Вот он. «Осень женщины» (1917), «Бездна» (1917), «Зеленый паук» (1916) — трудно не заметить, что плакаты эти будто срисованы с графики Бердслея.
И бросается в глаза, что плакаты эти — еще не самостоятельное явление искусства, что они пользуются языком книжной и журнальной графики. Киноплакат, как слепой котенок, тыкается то в модерн, то в импрессионизм, то еще куда, но все еще остается иллюстрацией. Самостоятельный язык киноплаката как таковой еще не сформировался. Но путь к нему уже виднеется.
При этом империалистическая война, превратившаяся в Гражданскую, с одной стороны, конечно, резко двинула вперед искусство агитационного политического плаката — но развитие кино и, разумеется, киноплаката она в то же самое время резко затормозила. Какое уж тут кино, кино — дорогая вещь, надо шить костюмы, арендовать площадки, нанимать артистов и так далее, но самое главное — где-то брать пленку. А ее нет. А ту, которая есть, надо использовать для агитационных документальных роликов.
И все же против диалектики не попрешь. Война создает условия для невиданных экспериментов. Она вызывает турбулентность в общественной жизни и ломает устоявшиеся художественные практики, экономические и социальные прежде всего, ну и эстетические вслед за ними. Киноплакатом начинают заниматься самые неожиданные люди. Не на регулярной основе, нет, но так создается задел для будущего.
Вот яркий пример плаката для агитфильма по сценарию Луначарского «Уплотнение» (1918).
А вот в том же году для фильма «Не для денег родившийся» делает плакат, снявшийся в нем же Маяковский.
В 1922 году к фильму «Доктор Мабузе, игрок» делает плакат Малевич (используя находку своего ученика Чашника, об этом мы уже говорили, когда рассказывали про последнего).
Страна после двух войн лежит в разрухе, кинопроизводство падает практически до нуля, четыре из пяти идущих на экранах фильмов — иностранного производства, своей пленки нет, хорошей бумаги и хороших красок тоже практически нет, однако лед уже пробит — уникальный язык киноплаката начинает складываться. Причем начинает складываться вместе с языком агитплаката, параллельно с ним, иногда буквально в тех же творческих лабораториях. И что, может быть, еще важнее — киноплакат сразу осознается именно как искусство пропаганды.
Киноплакат должен пропагандировать фильм — но вместе с тем он неизбежно пропагандирует идею, заложенную в фильме. Эта мысль уже для всех очевидна. Пусть пока еще не очень понятно, как именно это делать, но ведь главное поставить задачу и найти людей для ее выполнения. А как раз людей — молодых авангардных художников — революция и вытолкнула на передний край художественной жизни.
Таким образом, русский киноплакат за два десятилетия: 1) зародился от французского отца; 2) поплавал в околоплодных водах циркового плаката и рекламы промышленных товаров; 3) был привит лубком; 4) поиграл с актуальной книжной и журнальной иллюстрацией и, наконец, 5) оказался полностью готов к осознанию себя как передового политического искусства, причем 6) для работы с ним как с продвинутым политическим искусством уже были готовы кадры.
Оставалось совсем немного — наладить производство собственно кино. Что и будет сделано к середине двадцатых годов. И вот тогда наступит эпоха величия и славы советского киноплаката. О ней поговорим в следующий раз.
Вадим Левенталь.
Природа плаката
«Сыграв блестящую роль в годы бурь и натиска, плакат, однако, далеко не исчерпал заложенных в нем возможностей. Золотой век его впереди. Это, мы полагаем, дает основание привлечь внимание читателя к героическому периоду его развития. Нам думается, кроме того, что именно с помощью этого порождения улиц и площадей произойдет то сближение искусства с народом, которого ожидали иные мечтатели. Не картины, развешенные по музеям, не книжные иллюстрации, ходящие по рукам любителей, не фрески, доступные обозрению немногих, но плакат и „лубок“ — миллионный, массовой, уличный — приблизит искусство к народу, покажет ему, что и как можно сделать с помощью кисти и краски, заинтересует своим мастерством и развяжет нерастраченные запасы художественных возможностей, дремлющих в народном сознании. В последнем смысле мы приписываем этому виду искусства огромную художественно-просветительную миссию». - из предисловия к монографии «Русский революционный плакат».
Вячеслав Полонский пишет эту книгу не случайно, в годы гражданской войны (1916—1922) ему довелось руководить редакционно-издательской работой, обслуживавшей Красную армию. Одной из важнейших отраслей этой работы был плакат. Советскому Союзу нет еще и десяти лет, но в прекрасно иллюстрированном издании — ворох хромолитографированных воспроизведений работ ведущих авторов политического плаката: В.Дени, В. Лебедев, И.Малютин, Д.Мельников, В.Маяковский, П.Алякринский, Д.Моор и других.
Фамилия Полонского знакома нам больше по его непримиримой критике «ЛЕФа», его уважали и ценили как блестящего критика, исключительно владеющего пером, но многие не терпели его за ту же публицистику. Маяковский отвечал Полонскому взаимной неприязнью, которая началась из-за различия во взглядах на роль писателя в обществе.
Вячеслав Павлович Полонский (настоящая фамилия - Гусинский, 1886 - 1932) родился в Петербурге, в семье часовщика. Студентом участвовал в революционном движении, примкнул к меньшевикам. Вступив в РКП(б) вскоре после Октябрьской революции, начал активную литературную деятельность. Мобилизовался в 1919 году и перешел на военную работу. Во время Гражданской войны руководил литературно-издательским отделом Политуправления Красной армии. Познакомился с Л. Д.Троцким. Именно Полонский организовал массовый выпуск агитационных плакатов. В 1922-м пишет статью «Русский революционный плакат», в 1925-м выпустил монографию с тем же названием. Полонский был начальником отдела военной литературы, председателем Военно-исторической комиссии и Высшего военного редакционного совета, организатором и заведующим Государственным военным издательством. Весной 1925 года после демобилизации оставил работу в Красной армии.
Это плакат. Он кричит с забора, со стены, с витрины. Он нагло прыгает прохожему в зрачки. Хочет прохожий того или не хочет, занят он или нет, спешит или убивает время — плакат внимание на себя обратил. Чем? Прежде всего — огнем цветных пятен, своеобразным и кричащим сочетанием красок. Эта черта определяет плакат. Его задача — выйти из ряда, пробиться вперед из массы листов, афиш, объявлений, облепивших заборы и стены. И то, что хочет, плакат должен сказать в один прием, без разжевыванья, без размышлений. Он весь в этом ударе — односложном, но метком, незамысловатом, но впечатляющем. Надпись его коротка, как вскрик. Рисунок элементарен, как схема. Что выражено двумя, тремя словами, то показано красками ярчайшими, без лишнего мазка, с ясностью предельной. В тексте не должно быть лишнего слова, в живописной композиции — лишнего штриха. Экономия — прежде всего. Плакат является живописным выразителем формулы, которой подчинена вся коммерческая, торгово-промышленная жизнь индустриальных стран: „время — деньги“. - Вячеслав Полонский, из монографии «Русский революционный плакат»
В 1926 году по рекомендации Луначарского Полонский назначен по совместительству заведующим Музея изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Москва) (1929-1932) и одновременно главным редактором журнала "Новый мир", добившись наибольшего тиража среди всех литературных журналов СССР.
В течение десяти лет Вячеслав Полонский опубликовал множество статей - большинство из которых выпускалось в виде сборников: "Уходящая Русь" (1924), "Марксизм и критика" (1927), "О современной литературе" (1928 — 1930). Открывала сборник «Уходящая Русь» статья «Интеллигенция и революция»: «Столкновение интеллигенции с революцией превратило первую в груду осколков», «Старая интеллигенция умерла и не воскреснет, потому что не возвратится вчерашний день…» Свою «Уходящую Русь» Сергей Есенин напишет, как ответ Вячеславу Полонскому. Поэму о тех, кто и есть Русь. К сборнику «О современной литературе» Полонского портреты пишет Натан Альтман - Бабель, Пильняк, Вересаев, Толстой...
Как историк занимался изучением анархизма, в основном фигурой Бакунина. Опубликовал его краткую биографию (1920, 3-е из-д. 1926), исследование «М. А. Бакунин. Жизнь, деятельность, мышление» (1922), о котором К. И. Чуковский писал автору: «Ваша книга о Бакунине — чудесная, талантливая, изящная и местами мудрая книга… Вы каждую минуту ясно видите своего героя, с ног до головы художественно ощущаете его, и оттого те главы, где он появляется персонально, — великолепны. <…> Вы страшно трезвы: видите сразу и величие Бакунина, и его мелкость…». С другой стороны, полемизировал о Бакунине с Давидом Борисовичем Рязановым, революционером и основателем музея К.Маркса и Ф.Энгельса. Так, Рязанов писал: «Главный редактор «Печати и революции», полуредактор «Нового мира», полуредактор «Красной нивы» <так!>, — он ходит, грудью вперед, нос вздернув — дозором в садах советской словесности и наводит порядок. Опечатка в литературе, описка в науке, обмолвка в искусстве, — наш Дон Базилио усердно собирает в свой блокнот опечатки, описки, обмолвки, ошибки пера, чтобы поставить их кому-нибудь в строку и увеличить таким образом число «впрыскиваемых» им строк».
Возвращаясь к дуэли Полонского и Маяковского, отмечаем два разных подхода к тому, каким образом писатель должен выражать себя. Маяковский считал долгом писателя работать для пролетариата, в интересах партии. Полонский - как подсказывает автору его внутреннее состояние и психологический мир, то есть радел за "есенинщину", которую так терпеть не мог Маяковский. Поэт видел в противнике представителя "новых русских греков, которые все умеют засахарить и заэстетизировать".
После суицида Облака в штанах, Полонский написал: "Его можно было любить. Его можно отвергать. К нему нельзя было лишь оставаться равнодушным. Это потому, что в поэзии его горел настоящий огонь, обжигающий и неостывающий".
А так как особенностью плаката революции является сложная литературная тема, связанная с кровными интересами народных масс, то нам сделаются понятными трудности, которые приходилось преодолевать художникам революции. Рекламный плакат стремился лишь забить гвоздь памяти в сознание потребителя; революционный не ограничивается информацией. Он требует, призывает, приказывает, повелевает. Плакат — орудие массового внушения, средство организации коллективной психологии. Резкое отличие плаката революционного от плаката-рекламы сделается ясным, если „классической“ рекламной литографии Бернгарда, о которой мы говорили выше, будет противопоставлена классическая „революционная“ литография Д. Моора: „Ты записался добровольцем?“ - Вячеслав Полонский, из монографии «Русский революционный плакат»
Резкая оценка литературных и политических фигур, которую допускал критик Полонский, сгладилась после высылки Льва Троцкого. "Где борьба, там - романтика", - писал он в одной из статей того времени.
Запись из дневников, датированная 21 июня 1931 года: "Ездил на три недели в Челябинск и Магнитогорск - на стройку. Со мной: Гладков, Малышкин, Пастернак и Сварог...» Результатом той поездки стала книга "Магнитострой", датированная июнем, а в августовском номере »Нового мира" за тот же 1931 год выходит журнальный вариант. В Магнитогорске писатели пробыли несколько дней, окунувшись "в лихорадку буден", основательно изучили “кухню” технологического производства, сделали сотни записей, и практически немедленно после этого последовали вышеуказанные печатные произведения, подписанные Полонским.
В январе 1930 года в Магнитогорске при редакции местной газеты был создан литературный кружок "Буксир". Литераторы Неверов, Завалишин, Макаров и другие объединились в "рабочую ассоциацию пролетарских писателей для оказания помощи литературным кружкам и руководства ими с целью призыва рабочих ударников в пролетарскую литературу". Сюда Свердловский обком партии, который курировал Уральскую область, включавший в то время нынешнюю Челябинскую область, и пригласил Вячеслава Полонского в 1932 году прочитать ряд лекций по истории литературы. В Москву Полонский вернулся в цинковом гробу.
"Как-то он пригласил меня к себе домой. Мы сидели в его маленьком кабинете, заваленном книгами и рукописями.
Он говорил: "Вы знаете, я очень устал. Мне нужно на время куда-нибудь уехать, чтобы соскучиться по этой обстановке и снова с аппетитом взяться за работу. И я еду в Свердловск. Меня пригласили на пару дней прочесть несколько лекций по истории литературы.
И он уехал.
Через несколько дней мне позвонил приехавший из Свердловска поэт Берестянский: "Умер Вячеслав Полонский. Он где-то по дороге подхватил сыпной тиф и вот..."
Через несколько дней в Москву привезли цинковый гроб, в крышке которого сквозь маленькое стеклянное окошечко была видна голова Полонского, наголо остриженная. Это было страшно.
Смерть Полонского была безвременной. но я скажу - кто знает, может быть, такая смерть избавила его от более страшной участи - неминуемого ареста, истязаний и расстрела". - художник Борис Ефимов
Поэт Корней Чуковский записал в своем дневнике первого марта 1932 года:"Умер Полонский... Сегодня его сожгут - носатого, длинноволосого, коренастого, краснолицего, пылкого. У него не было высшего чутья литературы: как критик он был элементарным, теоретиком - домотканым, самоделковым, но журнальное дело было его стихией: он плавал в чужих рукописях, как в море..."
Именно Вячеслав Полонский был тем человеком, чье личное ходатайство перед Троцким, за связь с которым в дальнейшем он претерпевал различные скорби, спасло от голодной смерти Федора Сологуба и позволило продлить жизнь разбитому параличом великому русскому живописцу Борису Михайловичу Кустодиеву.
Из ходатайства Вячеслава Полонского Льву Троцкому:
Сологуб нам чужд идеологически, несмотря на его стихи последних дней (Звезда, № 2), где он называет большевистскую Россию — «спасенной Россией». Но его нельзя назвать человеком враждебным революции, не имеющим при этом никаких решительных заслуг, ни литературных, ни педагогических. Поэтому-то мне кажется, что не имеется серьезных препятствий для того, чтобы оказать ему поддержку в последние годы его жизни. Он, говорят, очень плох. Положение его тем более тяжело, что, как Вам известно, не так давно погибла его жена. Сейчас он одинок, беспомощен и [очень] болен.
Вопрос идет о назначении ему пенсии. Будучи убежден, что Вы не пройдете безучастно мимо судьбы этого писателя, обращаюсь к Вам с просьбой о содействии.
Я надеюсь, что Вы, Лев Давыдович, не рассердитесь на меня за это. Опыт с Кустодиевым показал, что из всех влиятельных товарищей Вы один приняли его дело близко к сердцу. Благодаря Вашему содействию удалось облегчить его положение. Это и заставляет меня вновь обратиться к Вам с настоящим письмом.
С коммунистическим приветом,
Пред ВВРС В. Полонский».
Вячеслав Полонский пишет эту книгу не случайно, в годы гражданской войны (1916—1922) ему довелось руководить редакционно-издательской работой, обслуживавшей Красную армию. Одной из важнейших отраслей этой работы был плакат. Советскому Союзу нет еще и десяти лет, но в прекрасно иллюстрированном издании — ворох хромолитографированных воспроизведений работ ведущих авторов политического плаката: В.Дени, В. Лебедев, И.Малютин, Д.Мельников, В.Маяковский, П.Алякринский, Д.Моор и других.
Фамилия Полонского знакома нам больше по его непримиримой критике «ЛЕФа», его уважали и ценили как блестящего критика, исключительно владеющего пером, но многие не терпели его за ту же публицистику. Маяковский отвечал Полонскому взаимной неприязнью, которая началась из-за различия во взглядах на роль писателя в обществе.
Вячеслав Павлович Полонский (настоящая фамилия - Гусинский, 1886 - 1932) родился в Петербурге, в семье часовщика. Студентом участвовал в революционном движении, примкнул к меньшевикам. Вступив в РКП(б) вскоре после Октябрьской революции, начал активную литературную деятельность. Мобилизовался в 1919 году и перешел на военную работу. Во время Гражданской войны руководил литературно-издательским отделом Политуправления Красной армии. Познакомился с Л. Д.Троцким. Именно Полонский организовал массовый выпуск агитационных плакатов. В 1922-м пишет статью «Русский революционный плакат», в 1925-м выпустил монографию с тем же названием. Полонский был начальником отдела военной литературы, председателем Военно-исторической комиссии и Высшего военного редакционного совета, организатором и заведующим Государственным военным издательством. Весной 1925 года после демобилизации оставил работу в Красной армии.
Это плакат. Он кричит с забора, со стены, с витрины. Он нагло прыгает прохожему в зрачки. Хочет прохожий того или не хочет, занят он или нет, спешит или убивает время — плакат внимание на себя обратил. Чем? Прежде всего — огнем цветных пятен, своеобразным и кричащим сочетанием красок. Эта черта определяет плакат. Его задача — выйти из ряда, пробиться вперед из массы листов, афиш, объявлений, облепивших заборы и стены. И то, что хочет, плакат должен сказать в один прием, без разжевыванья, без размышлений. Он весь в этом ударе — односложном, но метком, незамысловатом, но впечатляющем. Надпись его коротка, как вскрик. Рисунок элементарен, как схема. Что выражено двумя, тремя словами, то показано красками ярчайшими, без лишнего мазка, с ясностью предельной. В тексте не должно быть лишнего слова, в живописной композиции — лишнего штриха. Экономия — прежде всего. Плакат является живописным выразителем формулы, которой подчинена вся коммерческая, торгово-промышленная жизнь индустриальных стран: „время — деньги“. - Вячеслав Полонский, из монографии «Русский революционный плакат»
В 1926 году по рекомендации Луначарского Полонский назначен по совместительству заведующим Музея изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Москва) (1929-1932) и одновременно главным редактором журнала "Новый мир", добившись наибольшего тиража среди всех литературных журналов СССР.
В течение десяти лет Вячеслав Полонский опубликовал множество статей - большинство из которых выпускалось в виде сборников: "Уходящая Русь" (1924), "Марксизм и критика" (1927), "О современной литературе" (1928 — 1930). Открывала сборник «Уходящая Русь» статья «Интеллигенция и революция»: «Столкновение интеллигенции с революцией превратило первую в груду осколков», «Старая интеллигенция умерла и не воскреснет, потому что не возвратится вчерашний день…» Свою «Уходящую Русь» Сергей Есенин напишет, как ответ Вячеславу Полонскому. Поэму о тех, кто и есть Русь. К сборнику «О современной литературе» Полонского портреты пишет Натан Альтман - Бабель, Пильняк, Вересаев, Толстой...
Как историк занимался изучением анархизма, в основном фигурой Бакунина. Опубликовал его краткую биографию (1920, 3-е из-д. 1926), исследование «М. А. Бакунин. Жизнь, деятельность, мышление» (1922), о котором К. И. Чуковский писал автору: «Ваша книга о Бакунине — чудесная, талантливая, изящная и местами мудрая книга… Вы каждую минуту ясно видите своего героя, с ног до головы художественно ощущаете его, и оттого те главы, где он появляется персонально, — великолепны. <…> Вы страшно трезвы: видите сразу и величие Бакунина, и его мелкость…». С другой стороны, полемизировал о Бакунине с Давидом Борисовичем Рязановым, революционером и основателем музея К.Маркса и Ф.Энгельса. Так, Рязанов писал: «Главный редактор «Печати и революции», полуредактор «Нового мира», полуредактор «Красной нивы» <так!>, — он ходит, грудью вперед, нос вздернув — дозором в садах советской словесности и наводит порядок. Опечатка в литературе, описка в науке, обмолвка в искусстве, — наш Дон Базилио усердно собирает в свой блокнот опечатки, описки, обмолвки, ошибки пера, чтобы поставить их кому-нибудь в строку и увеличить таким образом число «впрыскиваемых» им строк».
Возвращаясь к дуэли Полонского и Маяковского, отмечаем два разных подхода к тому, каким образом писатель должен выражать себя. Маяковский считал долгом писателя работать для пролетариата, в интересах партии. Полонский - как подсказывает автору его внутреннее состояние и психологический мир, то есть радел за "есенинщину", которую так терпеть не мог Маяковский. Поэт видел в противнике представителя "новых русских греков, которые все умеют засахарить и заэстетизировать".
После суицида Облака в штанах, Полонский написал: "Его можно было любить. Его можно отвергать. К нему нельзя было лишь оставаться равнодушным. Это потому, что в поэзии его горел настоящий огонь, обжигающий и неостывающий".
А так как особенностью плаката революции является сложная литературная тема, связанная с кровными интересами народных масс, то нам сделаются понятными трудности, которые приходилось преодолевать художникам революции. Рекламный плакат стремился лишь забить гвоздь памяти в сознание потребителя; революционный не ограничивается информацией. Он требует, призывает, приказывает, повелевает. Плакат — орудие массового внушения, средство организации коллективной психологии. Резкое отличие плаката революционного от плаката-рекламы сделается ясным, если „классической“ рекламной литографии Бернгарда, о которой мы говорили выше, будет противопоставлена классическая „революционная“ литография Д. Моора: „Ты записался добровольцем?“ - Вячеслав Полонский, из монографии «Русский революционный плакат»
Резкая оценка литературных и политических фигур, которую допускал критик Полонский, сгладилась после высылки Льва Троцкого. "Где борьба, там - романтика", - писал он в одной из статей того времени.
Запись из дневников, датированная 21 июня 1931 года: "Ездил на три недели в Челябинск и Магнитогорск - на стройку. Со мной: Гладков, Малышкин, Пастернак и Сварог...» Результатом той поездки стала книга "Магнитострой", датированная июнем, а в августовском номере »Нового мира" за тот же 1931 год выходит журнальный вариант. В Магнитогорске писатели пробыли несколько дней, окунувшись "в лихорадку буден", основательно изучили “кухню” технологического производства, сделали сотни записей, и практически немедленно после этого последовали вышеуказанные печатные произведения, подписанные Полонским.
В январе 1930 года в Магнитогорске при редакции местной газеты был создан литературный кружок "Буксир". Литераторы Неверов, Завалишин, Макаров и другие объединились в "рабочую ассоциацию пролетарских писателей для оказания помощи литературным кружкам и руководства ими с целью призыва рабочих ударников в пролетарскую литературу". Сюда Свердловский обком партии, который курировал Уральскую область, включавший в то время нынешнюю Челябинскую область, и пригласил Вячеслава Полонского в 1932 году прочитать ряд лекций по истории литературы. В Москву Полонский вернулся в цинковом гробу.
"Как-то он пригласил меня к себе домой. Мы сидели в его маленьком кабинете, заваленном книгами и рукописями.
Он говорил: "Вы знаете, я очень устал. Мне нужно на время куда-нибудь уехать, чтобы соскучиться по этой обстановке и снова с аппетитом взяться за работу. И я еду в Свердловск. Меня пригласили на пару дней прочесть несколько лекций по истории литературы.
И он уехал.
Через несколько дней мне позвонил приехавший из Свердловска поэт Берестянский: "Умер Вячеслав Полонский. Он где-то по дороге подхватил сыпной тиф и вот..."
Через несколько дней в Москву привезли цинковый гроб, в крышке которого сквозь маленькое стеклянное окошечко была видна голова Полонского, наголо остриженная. Это было страшно.
Смерть Полонского была безвременной. но я скажу - кто знает, может быть, такая смерть избавила его от более страшной участи - неминуемого ареста, истязаний и расстрела". - художник Борис Ефимов
Поэт Корней Чуковский записал в своем дневнике первого марта 1932 года:"Умер Полонский... Сегодня его сожгут - носатого, длинноволосого, коренастого, краснолицего, пылкого. У него не было высшего чутья литературы: как критик он был элементарным, теоретиком - домотканым, самоделковым, но журнальное дело было его стихией: он плавал в чужих рукописях, как в море..."
Именно Вячеслав Полонский был тем человеком, чье личное ходатайство перед Троцким, за связь с которым в дальнейшем он претерпевал различные скорби, спасло от голодной смерти Федора Сологуба и позволило продлить жизнь разбитому параличом великому русскому живописцу Борису Михайловичу Кустодиеву.
Из ходатайства Вячеслава Полонского Льву Троцкому:
Сологуб нам чужд идеологически, несмотря на его стихи последних дней (Звезда, № 2), где он называет большевистскую Россию — «спасенной Россией». Но его нельзя назвать человеком враждебным революции, не имеющим при этом никаких решительных заслуг, ни литературных, ни педагогических. Поэтому-то мне кажется, что не имеется серьезных препятствий для того, чтобы оказать ему поддержку в последние годы его жизни. Он, говорят, очень плох. Положение его тем более тяжело, что, как Вам известно, не так давно погибла его жена. Сейчас он одинок, беспомощен и [очень] болен.
Вопрос идет о назначении ему пенсии. Будучи убежден, что Вы не пройдете безучастно мимо судьбы этого писателя, обращаюсь к Вам с просьбой о содействии.
Я надеюсь, что Вы, Лев Давыдович, не рассердитесь на меня за это. Опыт с Кустодиевым показал, что из всех влиятельных товарищей Вы один приняли его дело близко к сердцу. Благодаря Вашему содействию удалось облегчить его положение. Это и заставляет меня вновь обратиться к Вам с настоящим письмом.
С коммунистическим приветом,
Пред ВВРС В. Полонский».
Мельников. Парадоксов друг
Холст можно поставить в угол и никогда о нем не вспоминать. Картон можно кинуть в «буржуйку» и его не увидят внуки. В конце концов, любую живопись можно взять и лихую годину продать за границу. С архитектурой так не получится.
Чтобы вытравить из города выдающиеся постройки какого-нибудь авангардного и прорывного периода, надо очень сильно постараться. Или подождать, пока сами рухнут от старости. Иногда ждать приходится по полвека.
Когда мы говорим о фантастических мастерах ВХУТЕМАСа, нам никак не пройти мимо имени Константина Мельникова. На нашем сайте мы уже слегка касались его творчества, пора напомнить о многом другом – не только о павильоне «Махорка» и павильоне СССР на Парижской выставке. Хотя бы потому, что Мельников был не просто художником , но он был очень плодовитым автором. И если вы погружаетесь в архитектуру одной только Москвы, то там, то тут вы встретитесь с отпечатками труда гения, которому никто при жизни так и не сказал, что он гений. Человека, который перевернул восприятие современников самого понятия «архитектура». У каждого сегодняшнего архитектора города в сердце есть камертон – работы Мельникова. Если, конечно, у него есть сердце. И совесть. И тогда ты начинаешь спрашивать с себя по самому высокому счету -по счету Мельникова.
Есть в Москве улица, которая завораживает своим названием –«улица Соломенной Сторожки». Мне повезло в жизни: на углу ее и Тимирязевской я прожил много лет и вроде бы мог привыкнуть, но нет – вышел на улицу Соломенной сторожки, где и бывший кинотеатр «Эстафета», и салон для новобрачных – идешь и улыбаешься. Но ведь там реально была соломенная сторожка, а точней - барак. И надо же такому случиться, что именно тут, в этом бараке родился Константин Мельников. То есть это как бы была уже не Москва, а Петровско-Разумовское, ну и кончено, Новое шоссе – которая теперь Тимирязевская. Каким-то удивительным образом все-таки отец Мельникова построил домик в Лихоборах и семья вернулась к природе. И там же отдали Константина в церковно-приходскую школу, где оценили и его живой ум и способности к рисованию. Естественно семья решила что профессия иконописца для мальчика со способностями это самое очевидное. Даже отдали в иконописную мастерскую Прохорова, что в Марьиной роще. Но ребенок, все-таки, там затосковал без дома без семьи и в какой-то момент просто не вернулся туда с побывки.
Дальнейшее – идеальный пример социальных лифтов по-русски. Родитель познакомились на рынке с молочницей, та носила молоко в том числе и педагогу и инженеру по отопительной технике В. Чаплину.
И молочница через швейцара устроила мальчика в в принадлежащий В. М. Чаплину и В. Г. Залесскому торговый дом «В. Залесский и В. Чаплин». Чаплин был не только видный инженер но и педагог так что ничего удивительного, что он тут же проверил мальчика на креативность – и тот целый день рисовал какую-то хитрую печку в офисе. И у него очень недурно получилось.
Так что не стоит удивляться, что маленького Мельникова очаровала вся эта машинерия для домов, сами красивые дома изнутри. Он начал свое обучение не с рисунков яблока и гипсовой головы. А сразу – с составных частей дома.
Чаплин все понял правильно. Он, В. Чаплин нанял для Константина нормального учителя-художника, и в 1904 году Мельников выдержал экзамен по художественным дисциплинам в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). И можно сколько угодно петь осанны системе церковно-приходских школ, но именно из за нее мальчик провалил русский язык. Потом он занимается с домашней учительницей детей В. М. Чаплина, в том числе и русским языком. Чаплин вводит Мельникова в свою семью, берёт его с собой в поездках на дачу, выделяя ему при этом отдельную комнату, жена Чаплина, Екатерина Андреевна, помогает Константину освоить элементарные манеры поведения в обществе. Ну в общем вот такой социальный лифт. Немного самодельный и рукотворный, но, однако, сработал.
В 1905 году он в числе 11 счастливчиков – из 270 претендентов поступил в МУЖВС и, наверное, он был там самый юный – всего 15 лет.
В училище Мельников обучался в общей сложности в течение 12 лет, получив сначала общее образование (1910), а затем став выпускником отделений живописи (1914) и архитектуры (1917). Его учителями на отделении живописи были художники К. А. Коровин, Н. А. Клодт, В. Н. Бакшеев, А. Е. Архипов, С. В. Иванов, С. В. Малютин, Мельников посещал также занятия скульптурой у С. Т. Конёнкова. За годы обучения в МУЖВЗ живопись Мельникова дважды удостаивалась премии имени братьев Сергея и Павла Третьяковых. Невозможно представить, чтобы у простого мальчика были такие учителя. Просто каждый легенда. Кстати, не верьте всяким «википедиям» Сергей Малютин не имел никакого отношения к созданию «Окон РОСТА», то был Иван Малютин, который ему даже не родственник. Он сам по себе прекрасный художник. А Клодт?
Но мы примечаем, что среди всего спектра своих специализаций – Константин Мельников – дипломированный архитектор.
А вот что значит «инвестиции в образование»: уже студентом Мельников начинает работать помощником на различных постройках московских архитекторов, в основном по заданиям фирмы «В. Залесский и В. Чаплин». Бинго!
Будем считать, что первым выходом Мельникова в город Москву это фасады строившегося в ту пору первого в России автомобильного завода АМО (в настоящее время завод ЗИЛ). Там у него был начальником один из фундаментальных авторов московского модерна и констурктивизма – Кузнецов. И он дал задание студенту – типа «вот делай так» После чего ушел. Когда вернулся – юный Костя сделал так как считал нужным. Вот мог бы просто выполнить ценные указания – в конце концов ты тут кто – студент вот и работай. Нет. И в этом весь Мельников. Всю свою карьеру он делал только то, что считал нужным. И поэтому он дорос до культового статуса. Ему было что сказать людям, которые входили в его здания.
Это был только его голос, только его мысль.
Для начала это был проект посёлка для служащих Алексеевской психиатрической больницы в 1918 году, когда он начал работать в крутейшей по тем временам конторе, которая буквально была призвана перелопатить весь город и сделать из него город новой коммунистической мечты. А заодно - убрать все гадюшники из центра. Это была архитектурно-планировочная мастерская Строительного отдела Моссовета — первая государственная архитектурная артель советского времени. Мастерской руководили И. В. Жолтовский («Главный мастер») и А. В. Щусев («Старший мастер»). С Щусевым вы понимаете топовый уровень артели. Щусев – отец русского архитектурного модерна. Ну хорошо – московского. В Питере тоже были авторы не из последних. Зато теперь есть филиал музея Щусева под названием «Дом Мельникова», куда очень сложно попасть. Туда записываются загодя, чуть ли не за несколько месяцев, а за месяц-то уж точно.
В составе плана «Новая Москва» К. Мельников выполнил проект планировки Бутырского района (1918—1922) и, совместно с А. Л. Поляковым и И. И. Фидлером, проект планировки Ходынского поля (1922). Я не буду вздыхать и спрашивать «Ну и как теперь с Ходынским полем?» - мы и так знаем, что с ним. Четвертый сон Веры Павловны – стекло и бетон.
И тут уже в 1918м году он уходит вообще от элементов неоклассики (все эти детали ордера) и плавно начинает разрабатывать здания, основанные на общей пространственной композиции. Это связано во многом именно с новыми коммунистическими идеями – «строительство новой жизни» и тд. Какая неоклассика поразит нового человека в новое время в новой Москве? Никакая. Его должно поразить пространство, масштаб, сочетание объемов.
Вот , пишут, что после преобразования в 1920 году Первых и Вторых государственных свободных художественных мастерских (образованных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества) в ВХУТЕМАС, летом того же года К. С. Мельников становится его профессором. На архитектурном факультете ВХУТЕМАСа постепенно оформляются три центра со своими концепциями и принципами преподавания: Академические мастерские (руководитель И. В. Жолтовский, преподаватели А. В. Щусев, Э. И. Норверт, В. Д. Кокорин, Л. А. Веснин и другие), Объединённые левые мастерские (Обмас) (Н. А. Ладовский, Н. В. Докучаев, В. Ф. Кринский) и отдельная мастерская И. А. Голосова и К. С. Мельникова, носившая поочерёдно названия: Синтетическая мастерская № 2, Мастерская экспериментальной архитектуры, Новая академия.
Мельникова в то время привлекала концепция формообразования Н. Ладовского и он даже вступил в созданную им в 1923 году творческую организацию архитекторов-рационалистов АСНОВА (Ассоциация новых архитекторов). В эти годы Мельников становится также членом Архитектурного отдела Наркомпроса и представителем этого отдела в Рабисе. Но главное, что он вовремя понял, что если вписываться во все эти «течения» и противоборствующие группы, то времени на творчество реально не останется.
И с тех пор он делал только свое, ни с кем в полемику не вступал, манифестов не писал. И вообще – много болтает тот, кто делать ничего не умеет.
Тут умер Ленин в 1924м году и Мельников проектирует саркофаг вождя. Много мы видели проектов мавзолея, в том числе и народных – их рисовали все, кому е лень. Победил учитель Мельникова Щусев. Но идея саркофага внутри – все-таки без Мельникова не обошлась.
Но череда его проектов гаражей просто завораживает. Как можно сделать из такой функциональной вещи как гараж произведение искусства? Мельников делает. И я не говорю про его «Гараж на 1000 машин над мостами Сены в Париже» 1925 года – он остался в макете, хотя так или иначе в Европе вы увидите отблески идей Мельникова- особенно в такого рода архитектуре. Я – про Москву. Просто возьмите список его гараже - Гараж на Новорязанской улице (в форме подковы) , Гараж ВАО «Интурист» (там даже после перестроек можно что-то увидеть), Гараж Госплана СССР на Авиамоторной (является самой поздней из дошедших до наших дней построек К. С. Мельникова в Москве).
А клубы? Один Клуб Русакова чего стоит – где пространство для зрителей с креслами вынесено наружу здания – в три характерных бокса- зубца. Клуб завода «Каучук» на Плющихе, который, как я тут давеча видел, активно реставрируют – скоро увидим его во всей красе. Клуб фабрики «Буревестник». Клуб фабрики «Свобода» на Вятской 41 – в 1400 метрах от дома на улице Соломенной сторожки, где мастер родился.
Клуб Дорхимзавода имени М. В. Фрунзе (Москва, Бережковская набережная, 28). Занятий на несколько выходных вам хватит – гарантирую. Потому что потом придется ехать за город: Клуб фарфорового завода в Дулёво (Известный в 1930-е годы публицист и архитектурный критик Н. Лухманов образно называл проект дулёвского клуба «звездой химиков»).
А еще, чтобы далеко не ходить - в конце 20-х годов XX века К. С. Мельников разработал проект планировки партера Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО). По этому проекту была реализована новая планировка ЦПКиО от входа до Нескучного сада взамен планировки И. В. Жолтовского, оставшейся от первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Мельниковская планировка партера ЦПКиО в основном сохранилась до наших дней.
Да, его не понимали. Да, ему завидовали. Да его после разгона конструктивистов сильно прессовали. И жизнь в какие-то моменты у архитектора была весьма тяжкой. Но вы посмотрите на его работы – и все дурное улетучится.
Все-таки архитектуру просто так не выключишь.
Как сказал один серьезный профессионал:
«Мельников, безусловно, гениальный архитектор, но ему при жизни, пожалуй, так никто об этом в глаза и не сказал. Многие не считали его гением, а у тех, кто подозревал об этом, как-то не поворачивался язык сказать такое. <…> И только у открытой могилы я сказал, что мы прощаемся с гениальным архитектором, который так и умер, не услышав от нас этого.»
Игорь Мальцев.
Чтобы вытравить из города выдающиеся постройки какого-нибудь авангардного и прорывного периода, надо очень сильно постараться. Или подождать, пока сами рухнут от старости. Иногда ждать приходится по полвека.
Когда мы говорим о фантастических мастерах ВХУТЕМАСа, нам никак не пройти мимо имени Константина Мельникова. На нашем сайте мы уже слегка касались его творчества, пора напомнить о многом другом – не только о павильоне «Махорка» и павильоне СССР на Парижской выставке. Хотя бы потому, что Мельников был не просто художником , но он был очень плодовитым автором. И если вы погружаетесь в архитектуру одной только Москвы, то там, то тут вы встретитесь с отпечатками труда гения, которому никто при жизни так и не сказал, что он гений. Человека, который перевернул восприятие современников самого понятия «архитектура». У каждого сегодняшнего архитектора города в сердце есть камертон – работы Мельникова. Если, конечно, у него есть сердце. И совесть. И тогда ты начинаешь спрашивать с себя по самому высокому счету -по счету Мельникова.
Есть в Москве улица, которая завораживает своим названием –«улица Соломенной Сторожки». Мне повезло в жизни: на углу ее и Тимирязевской я прожил много лет и вроде бы мог привыкнуть, но нет – вышел на улицу Соломенной сторожки, где и бывший кинотеатр «Эстафета», и салон для новобрачных – идешь и улыбаешься. Но ведь там реально была соломенная сторожка, а точней - барак. И надо же такому случиться, что именно тут, в этом бараке родился Константин Мельников. То есть это как бы была уже не Москва, а Петровско-Разумовское, ну и кончено, Новое шоссе – которая теперь Тимирязевская. Каким-то удивительным образом все-таки отец Мельникова построил домик в Лихоборах и семья вернулась к природе. И там же отдали Константина в церковно-приходскую школу, где оценили и его живой ум и способности к рисованию. Естественно семья решила что профессия иконописца для мальчика со способностями это самое очевидное. Даже отдали в иконописную мастерскую Прохорова, что в Марьиной роще. Но ребенок, все-таки, там затосковал без дома без семьи и в какой-то момент просто не вернулся туда с побывки.
Дальнейшее – идеальный пример социальных лифтов по-русски. Родитель познакомились на рынке с молочницей, та носила молоко в том числе и педагогу и инженеру по отопительной технике В. Чаплину.
И молочница через швейцара устроила мальчика в в принадлежащий В. М. Чаплину и В. Г. Залесскому торговый дом «В. Залесский и В. Чаплин». Чаплин был не только видный инженер но и педагог так что ничего удивительного, что он тут же проверил мальчика на креативность – и тот целый день рисовал какую-то хитрую печку в офисе. И у него очень недурно получилось.
Так что не стоит удивляться, что маленького Мельникова очаровала вся эта машинерия для домов, сами красивые дома изнутри. Он начал свое обучение не с рисунков яблока и гипсовой головы. А сразу – с составных частей дома.
Чаплин все понял правильно. Он, В. Чаплин нанял для Константина нормального учителя-художника, и в 1904 году Мельников выдержал экзамен по художественным дисциплинам в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). И можно сколько угодно петь осанны системе церковно-приходских школ, но именно из за нее мальчик провалил русский язык. Потом он занимается с домашней учительницей детей В. М. Чаплина, в том числе и русским языком. Чаплин вводит Мельникова в свою семью, берёт его с собой в поездках на дачу, выделяя ему при этом отдельную комнату, жена Чаплина, Екатерина Андреевна, помогает Константину освоить элементарные манеры поведения в обществе. Ну в общем вот такой социальный лифт. Немного самодельный и рукотворный, но, однако, сработал.
В 1905 году он в числе 11 счастливчиков – из 270 претендентов поступил в МУЖВС и, наверное, он был там самый юный – всего 15 лет.
В училище Мельников обучался в общей сложности в течение 12 лет, получив сначала общее образование (1910), а затем став выпускником отделений живописи (1914) и архитектуры (1917). Его учителями на отделении живописи были художники К. А. Коровин, Н. А. Клодт, В. Н. Бакшеев, А. Е. Архипов, С. В. Иванов, С. В. Малютин, Мельников посещал также занятия скульптурой у С. Т. Конёнкова. За годы обучения в МУЖВЗ живопись Мельникова дважды удостаивалась премии имени братьев Сергея и Павла Третьяковых. Невозможно представить, чтобы у простого мальчика были такие учителя. Просто каждый легенда. Кстати, не верьте всяким «википедиям» Сергей Малютин не имел никакого отношения к созданию «Окон РОСТА», то был Иван Малютин, который ему даже не родственник. Он сам по себе прекрасный художник. А Клодт?
Но мы примечаем, что среди всего спектра своих специализаций – Константин Мельников – дипломированный архитектор.
А вот что значит «инвестиции в образование»: уже студентом Мельников начинает работать помощником на различных постройках московских архитекторов, в основном по заданиям фирмы «В. Залесский и В. Чаплин». Бинго!
Будем считать, что первым выходом Мельникова в город Москву это фасады строившегося в ту пору первого в России автомобильного завода АМО (в настоящее время завод ЗИЛ). Там у него был начальником один из фундаментальных авторов московского модерна и констурктивизма – Кузнецов. И он дал задание студенту – типа «вот делай так» После чего ушел. Когда вернулся – юный Костя сделал так как считал нужным. Вот мог бы просто выполнить ценные указания – в конце концов ты тут кто – студент вот и работай. Нет. И в этом весь Мельников. Всю свою карьеру он делал только то, что считал нужным. И поэтому он дорос до культового статуса. Ему было что сказать людям, которые входили в его здания.
Это был только его голос, только его мысль.
Для начала это был проект посёлка для служащих Алексеевской психиатрической больницы в 1918 году, когда он начал работать в крутейшей по тем временам конторе, которая буквально была призвана перелопатить весь город и сделать из него город новой коммунистической мечты. А заодно - убрать все гадюшники из центра. Это была архитектурно-планировочная мастерская Строительного отдела Моссовета — первая государственная архитектурная артель советского времени. Мастерской руководили И. В. Жолтовский («Главный мастер») и А. В. Щусев («Старший мастер»). С Щусевым вы понимаете топовый уровень артели. Щусев – отец русского архитектурного модерна. Ну хорошо – московского. В Питере тоже были авторы не из последних. Зато теперь есть филиал музея Щусева под названием «Дом Мельникова», куда очень сложно попасть. Туда записываются загодя, чуть ли не за несколько месяцев, а за месяц-то уж точно.
В составе плана «Новая Москва» К. Мельников выполнил проект планировки Бутырского района (1918—1922) и, совместно с А. Л. Поляковым и И. И. Фидлером, проект планировки Ходынского поля (1922). Я не буду вздыхать и спрашивать «Ну и как теперь с Ходынским полем?» - мы и так знаем, что с ним. Четвертый сон Веры Павловны – стекло и бетон.
И тут уже в 1918м году он уходит вообще от элементов неоклассики (все эти детали ордера) и плавно начинает разрабатывать здания, основанные на общей пространственной композиции. Это связано во многом именно с новыми коммунистическими идеями – «строительство новой жизни» и тд. Какая неоклассика поразит нового человека в новое время в новой Москве? Никакая. Его должно поразить пространство, масштаб, сочетание объемов.
Вот , пишут, что после преобразования в 1920 году Первых и Вторых государственных свободных художественных мастерских (образованных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества) в ВХУТЕМАС, летом того же года К. С. Мельников становится его профессором. На архитектурном факультете ВХУТЕМАСа постепенно оформляются три центра со своими концепциями и принципами преподавания: Академические мастерские (руководитель И. В. Жолтовский, преподаватели А. В. Щусев, Э. И. Норверт, В. Д. Кокорин, Л. А. Веснин и другие), Объединённые левые мастерские (Обмас) (Н. А. Ладовский, Н. В. Докучаев, В. Ф. Кринский) и отдельная мастерская И. А. Голосова и К. С. Мельникова, носившая поочерёдно названия: Синтетическая мастерская № 2, Мастерская экспериментальной архитектуры, Новая академия.
Мельникова в то время привлекала концепция формообразования Н. Ладовского и он даже вступил в созданную им в 1923 году творческую организацию архитекторов-рационалистов АСНОВА (Ассоциация новых архитекторов). В эти годы Мельников становится также членом Архитектурного отдела Наркомпроса и представителем этого отдела в Рабисе. Но главное, что он вовремя понял, что если вписываться во все эти «течения» и противоборствующие группы, то времени на творчество реально не останется.
И с тех пор он делал только свое, ни с кем в полемику не вступал, манифестов не писал. И вообще – много болтает тот, кто делать ничего не умеет.
Тут умер Ленин в 1924м году и Мельников проектирует саркофаг вождя. Много мы видели проектов мавзолея, в том числе и народных – их рисовали все, кому е лень. Победил учитель Мельникова Щусев. Но идея саркофага внутри – все-таки без Мельникова не обошлась.
Но череда его проектов гаражей просто завораживает. Как можно сделать из такой функциональной вещи как гараж произведение искусства? Мельников делает. И я не говорю про его «Гараж на 1000 машин над мостами Сены в Париже» 1925 года – он остался в макете, хотя так или иначе в Европе вы увидите отблески идей Мельникова- особенно в такого рода архитектуре. Я – про Москву. Просто возьмите список его гараже - Гараж на Новорязанской улице (в форме подковы) , Гараж ВАО «Интурист» (там даже после перестроек можно что-то увидеть), Гараж Госплана СССР на Авиамоторной (является самой поздней из дошедших до наших дней построек К. С. Мельникова в Москве).
А клубы? Один Клуб Русакова чего стоит – где пространство для зрителей с креслами вынесено наружу здания – в три характерных бокса- зубца. Клуб завода «Каучук» на Плющихе, который, как я тут давеча видел, активно реставрируют – скоро увидим его во всей красе. Клуб фабрики «Буревестник». Клуб фабрики «Свобода» на Вятской 41 – в 1400 метрах от дома на улице Соломенной сторожки, где мастер родился.
Клуб Дорхимзавода имени М. В. Фрунзе (Москва, Бережковская набережная, 28). Занятий на несколько выходных вам хватит – гарантирую. Потому что потом придется ехать за город: Клуб фарфорового завода в Дулёво (Известный в 1930-е годы публицист и архитектурный критик Н. Лухманов образно называл проект дулёвского клуба «звездой химиков»).
А еще, чтобы далеко не ходить - в конце 20-х годов XX века К. С. Мельников разработал проект планировки партера Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО). По этому проекту была реализована новая планировка ЦПКиО от входа до Нескучного сада взамен планировки И. В. Жолтовского, оставшейся от первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Мельниковская планировка партера ЦПКиО в основном сохранилась до наших дней.
Да, его не понимали. Да, ему завидовали. Да его после разгона конструктивистов сильно прессовали. И жизнь в какие-то моменты у архитектора была весьма тяжкой. Но вы посмотрите на его работы – и все дурное улетучится.
Все-таки архитектуру просто так не выключишь.
Как сказал один серьезный профессионал:
«Мельников, безусловно, гениальный архитектор, но ему при жизни, пожалуй, так никто об этом в глаза и не сказал. Многие не считали его гением, а у тех, кто подозревал об этом, как-то не поворачивался язык сказать такое. <…> И только у открытой могилы я сказал, что мы прощаемся с гениальным архитектором, который так и умер, не услышав от нас этого.»
Игорь Мальцев.
Плохие парни
Малыш и Карлсон.
Первый — безвольный, инфантильный себялюбец. Второй — отъявленный смутьян и попиратель законности. Если смотреть на положение дел со стороны шведского, а так же американского и прочего западного общества. Эта священная для советских детей парочка одним своим существованием чуть было не похоронила блестящую карьеру фру Астрид Линдгрен. Во всём, как и всегда, виноваты были проклятые коммунисты — куда же без них. Впрочем, давайте-ка по порядку.
И про пропаганду не забудем.
И про Лёньку Пантелеева.
Интрига!
Жила-была на свете белом и в стране советской весьма миловидная девушка Лилиана Лунгина. Она была дочерью Зиновия Марковича — близкого друга и заместителя могущественного наркома просвещения Анатолия Луначарского. Её детство прошло в Германии и Франции, она вернулась в СССР в 1934-ом, ей было четырнадцать лет. Отучилась в самой, что ни на есть, советской и передовой «Школе радости» (№204 имени Максима Горького — в конце 90-ых так её отреставрировали. что от былой радости не осталось и следа), окончила с отличием филфак МГУ, потом аспирантуру ИМЛИ (Институт мировой литературы и опять же имени Максима Горького) в совершенстве владела французским и немецким — их и преподавала, но хотелось большего, багаж знаний требовал распаковки и расстановки по полкам жизни — а переводы славной девочке Лилиане не давали. Может, из-за происхождения, а может и ещё из-за чего — времена были непростые, а Луначарского не было уже очень давно.
Выход подсказал бывший сокурсник (и хороший приятель) руководитель «зарубежки» Детгиза Борис Грибанов (будущий идейный вдохновитель и куратор титанической советской 200-от томной «Библиотеки всемирной литературы): «Лиль, ну что ты упёрлась во французов с фрицами. Я ж тебе говорю — занято там, за-ня-то. Ищи в скандинавах. Языками викингов ты владеешь, вот и ищи. Найдёшь — твоё счастье. Будешь переводить. Даю слово!»
И Лилиана принялась за поиски, переворачивая в ведомстве Грибанова всё, что присылалось туда из «загнивающего западного мира», а присылалось немало. Надо ж было следить за веяниями в стане врага, вот и выписывали, что только могли.
В один очень прекрасный день Лунгиной повезло и по-крупному — она заприметила в стопке книжку с летающим толстячком на обложке и принялась спокойно себе читать её на шведском. Ей было тридцать пять. На дворе был 1955-ый. Она ухватила свою Жар-Птицу. Летающий увалень её совершеннейшим образом очаровал.
К Грибанову она направилась с решительностью, граничащей с отчаянием — в точности, как человек сорвавший бешеный куш в лотерею — могут же и не выплатить — всякое бывает. С порога заявила, что вот мол, как хорошо женщина некая неизвестная пишет (что Линдгрен ещё в 1946-ом получила шведскую литпремию, Лунгина, понятное дело, не знала — медалью Андерсена Линдгрен будет награждена в 1958-ом), Астрид Линдгрен зовут, нашим мальчишкам (да и девчонкам — чего уж там скрывать) придутся по нраву и будут в радость мелкие и чрезвычайно милые шалости счастливой парочки — Малыша и Карлсона, который живёт на крыше.
Милые шалости.
Придутся в радость.
Конечно, по сравнению с тем, что творилось на страницах полюбившейся советской детворе «Республики ШКИД» авторства Леонида Пантелеева (Алексея Еремеева, если взаправду), получившего свой псевдоним во «славу печальную» известнейшего петроградского бандита-главаря-налётчика Лёньки Пантёлкина, ликвидированного ЧК в феврале 1923-го, проделки Карлсона выглядели откровенным ребячеством и подростковой дурью. Приемлемо. Вернее — самое оно! А что он в окно к Малышу прилетает, так это ничего, не форточник же, приличный, в целом, персонаж.
Это мы о том, что грань между плохими парнями и «очень плохими парнями» в СССР была несколько условной и вовсе не такой, как на Западе. Герои революции, герои Гражданской — каких там только не было парней. Многие из них стали иконами, символами Страны Советов. И потому допускалось многое, а запрещать ребёнку лазить по крышам, пусть и семилетнему (это же сказка, как-никак), пусть и в компании оголтелого летающего друга — буржуазная заскорузлая мораль! В Великую Отечественную дети, да подростки на крышах дежурили — зажигалки тушили и ничего!
Так всё тогда было устроено — не оранжерейно.
Вон сколько исторических реальных примеров наличествовало вокруг.
И Лилиана Лунгина и Борис Грибанов «Республику ШКИД» читали и историю Пантелеева знали — он же был, как совершенно неуправляемый антисоветский элемент принудительно отправлен в Школу социально-индивидуального воспитания имени Достоевского для трудновоспитуемых (ШКИД), созданную Виктором Николаевичем Сорока-Росинским, а тот знал толк в деле выбивания дури из буйнопомешанных детей Октября — исключительно трудом и человеческим добрым участием («любовь к детям» — вот, как это называется).
А здесь что? А здесь ничего — точно, как у Линдгрен (уже в переводе Лунгиной) и написано: «На свете столько мальчишек, которым семь лет, у которых голубые глаза, немытые уши и разорванные на коленках штанишки, что сомневаться тут нечего: Малыш — самый обыкновенный мальчик». А Карлсон — никак не чуднее канонического советского Старика Хоттабыча! И это всё не пустые додумки — в 1955-ом по всей стране советской продавалась и имела бешеный успех только что переизданная (первая версия была в 1938-ом) и очень по серьёзному дополненная в объёме книга Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». И прекрасно было известно Грибанову, что Лагин пишет киносценарий и что и двух лет не пройдёт, как фильм выйдет на экраны СССР.
«Малыш и Карлсон», таким образом, идеально ложился в канву, звёзды сошлись, всё случилось и во время, и к месту. Советским детям нужны были весёлые приключения!
Секундочку!
А почему мы с такой настойчивостью говорим о Пантелееве? Он же по крышам не лазал? Ха. Извините... Ещё как лазал, почитайте биографию (как минимум в двух различных вариантах существует и оба — огонь огненный — пионеры американских прерий отдыхают точно как пенсионеры). Дело в том, что воспитателя Пантелеева, того самого Сороку-Росинского, мягко говоря, подсидела Надежда Константиновна Крупская. Методы ей, видите ли, не нравились. Только вот сама Крупская Стране Советов таких героев, как Пантелеев не воспитала, а Сорока-Росинский воспитал (их там много было). Потому существовал негласный ценз: «Что там у вас? Прям жуть? Ну, не страшнее «Шкида»? Ну, и давайте! Напечатаем!» Кроме прочего не забывайте, Гайдар в шестнадцать лет полком командовал, а к двадцати пяти уже был мэтром литературы — для детей.
Ориентиры были серьёзные — не травоядные. Карлсон на их фоне — божий одуванчик. И тем смешнее выглядит настороженное к нему — до сих пор — отношение на переставшем загнивать и уже окончательно сгнившем Западе.
Если что в Стране Советской решили, то всё будет обязательно. Лунгина перевела книжку Линдгрен (последовательно практически все её книжки) так, что та и сама ахнула (впоследствии). Уровень работы над текстом, а фактически, нового его написания (будем честны — гениальный переводчик, он всегда и гениальный соавтор) был запределен. Остроты, колкости, живейшие бытовые сценки, хулиганские похождения и бандитские проделки насыщали повествование под самую завязку. Иллюстрации поначалу взяли канонические, художницы и подруги Линдгрен, Илон Викланд. Нормальные иллюстрации. Но... Не цепляющие советского человека. Извините, ребёнка.
Издали. В 1957-ом.
Продали за пару-тройку лет триста (!) тысяч экземпляров.
И крепко задумались.
Надо же понимать — для советского времени такие тиражи детской литературы, это было ничто, смех на поляне. Лунгина, с ней понятно, сделала себе имя, подружилась по переписке с Линдгрен, завоевала доверие издателей, взялась за переводы Ибсена, Шиллера, Бёлля, Виана, Ажара, Кюртиса и много ещё кого, а дети?! Детям достался замечательный мир скандинавской литературы (год от года он будет в СССР расширятся, например, Владимир Смирнов блестяще переведёт сказки Туве Янссон), но на серьёзный успех вся история не тянула.
И тут.
Глаз Бориса Степанцева упал на «Малыша и Карлсона».
Великий феномен советской мультипликации вообще до сих пор нами не изучен и не понят. Вот почему мы никогда не шли протоптанной тропой? Винни-Пух у нас свой. Маугли — свой (американцы его своим детям не рекомендуют, мол «обилие сцен насилия»). Карлсон — тоже свой, да ещё какой! Советская мультипликация, она потому и лучшая в мире, что представляет собой сплошное поле творческого эксперимента. В спину не толкали, не гнали, что надо — давали, только твори! И творили.
Степанцев книгу про летающего толстяка прочитал (уж как она ему в руки попала) и пошёл к своей правой руке, художнику «номер один» (он и правда - был уникален) Анатолию Савченко. К слову, это был 1967-ой, два года назад они выпустили в тандеме мультик «Вовка в Тридевятом царстве» и мультик тот был народом и детьми разобран на цитаты до последней, что называется, пуговицы.
«Щас я как всё это замесю! Это чё, тесто? Чё она такая липкая?..»
«Ух ты, подумаешь! Килька несчастная!..»
Продолжать можно до бесконечности. Савченко перед началом работы (практически никогда) первоисточник (если он был) не смотрел, а читал только сценарий и всё придумывал из головы, каждого героя в отдельности и в во всех подробностях. Через неделю после первого разговора он принёс Степанцеву наброски и понеслось.
А надо сказать, что Анатолий Савченко был в работе человеком предельно целеустремлённым и до дела «злым» — в семнадцать (в 1941-ом) совсем мальчишкой он ушёл добровольцем на фронт, воевал в пехоте, был ранен, демобилизовался только в 1947-ом. Борис Степанцев, хоть и не воевал, а представление о дисциплине имел соответствующее — пять лет срочной службы на флоте, с 1949-го до 1954-го. Вместе они представляли собой гремучую смесь, «коктейль Молотова», помноженный на сто. Успех «Малышу и Карлсону» был обеспечен.
Раневскую на роль Фрекен Бок пригласил именно Савченко. Ливанова на роль Карлсона нашёл Степанцев. Малыша озвучила Румянова — многие «детские» голоса того времени принадлежали ей.
Когда мультфильм «Малыш и Карлслон» вышел — мир рухнул. Количество анекдотов, цитат, шуточек и прибауточек зашкаливало. Успех был тотальным. Вторая часть мультфильма «Карлсон вернулся» ввергла всех советских граждан и всех советских детей в какое-то окончательное и бесповоротное ликование.
Тиражи книг о Малыше и Карлсоне подскочили так, что не успевали печатать. К 1974-ому продали 10 миллионов экземпляров и конца-края продажам видно не было. «Ну... Это уже кое-что!», — удовлетворённо прозвучало в Главлите. Такие были времена. Эпические.
Линдгрен много раз приезжала в Москву, встречалась с Лунгиной, общалась с пионерами. Будучи давно и совершенно состоявшейся, и ни в коем случае не нуждающейся в деньгах, она, вечная защитница детей (и это чистая правда — Линдгрен всю жизнь боролась за запрет телесных наказаний) собственноручно дала разрешение «Детской литературе» на печать повестей о Карлсоне без авторских отчислений. В Швеции и мире эти три книжки и близко не имели такого успеха и таких заоблачных тиражей.
Детвора в Малыша и Карлсона влюбилась.
Да и взрослые тоже.
Для всего же прочего мира такой подход к продвижению детской литературы в массы был наглядным и абсолютно реальным примером того, что в СССР, похоже, и правда — всё лучшее принадлежало детям.
Знаете, плевать, что Карлсон «им» не нравится. Плевать, что в Америке изымают из библиотек «неполиткорректного» Марка Твена. Плевать...
Главное — у нас с головой всё в порядке. И наш Карлсон — он самый лучший в мире. Отважный, находчивый, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил и это благодаря ему мы теперь знаем, что «от пирогов не толстеют». Как и от всего, что было сделано «безжалостной советской пропагандой тоталитарного советского строя».
Так что, спокойствие, только спокойствие!
Пустяки.
Дело-то житейское!
Сергей Цветаев.
Первый — безвольный, инфантильный себялюбец. Второй — отъявленный смутьян и попиратель законности. Если смотреть на положение дел со стороны шведского, а так же американского и прочего западного общества. Эта священная для советских детей парочка одним своим существованием чуть было не похоронила блестящую карьеру фру Астрид Линдгрен. Во всём, как и всегда, виноваты были проклятые коммунисты — куда же без них. Впрочем, давайте-ка по порядку.
И про пропаганду не забудем.
И про Лёньку Пантелеева.
Интрига!
Жила-была на свете белом и в стране советской весьма миловидная девушка Лилиана Лунгина. Она была дочерью Зиновия Марковича — близкого друга и заместителя могущественного наркома просвещения Анатолия Луначарского. Её детство прошло в Германии и Франции, она вернулась в СССР в 1934-ом, ей было четырнадцать лет. Отучилась в самой, что ни на есть, советской и передовой «Школе радости» (№204 имени Максима Горького — в конце 90-ых так её отреставрировали. что от былой радости не осталось и следа), окончила с отличием филфак МГУ, потом аспирантуру ИМЛИ (Институт мировой литературы и опять же имени Максима Горького) в совершенстве владела французским и немецким — их и преподавала, но хотелось большего, багаж знаний требовал распаковки и расстановки по полкам жизни — а переводы славной девочке Лилиане не давали. Может, из-за происхождения, а может и ещё из-за чего — времена были непростые, а Луначарского не было уже очень давно.
Выход подсказал бывший сокурсник (и хороший приятель) руководитель «зарубежки» Детгиза Борис Грибанов (будущий идейный вдохновитель и куратор титанической советской 200-от томной «Библиотеки всемирной литературы): «Лиль, ну что ты упёрлась во французов с фрицами. Я ж тебе говорю — занято там, за-ня-то. Ищи в скандинавах. Языками викингов ты владеешь, вот и ищи. Найдёшь — твоё счастье. Будешь переводить. Даю слово!»
И Лилиана принялась за поиски, переворачивая в ведомстве Грибанова всё, что присылалось туда из «загнивающего западного мира», а присылалось немало. Надо ж было следить за веяниями в стане врага, вот и выписывали, что только могли.
В один очень прекрасный день Лунгиной повезло и по-крупному — она заприметила в стопке книжку с летающим толстячком на обложке и принялась спокойно себе читать её на шведском. Ей было тридцать пять. На дворе был 1955-ый. Она ухватила свою Жар-Птицу. Летающий увалень её совершеннейшим образом очаровал.
К Грибанову она направилась с решительностью, граничащей с отчаянием — в точности, как человек сорвавший бешеный куш в лотерею — могут же и не выплатить — всякое бывает. С порога заявила, что вот мол, как хорошо женщина некая неизвестная пишет (что Линдгрен ещё в 1946-ом получила шведскую литпремию, Лунгина, понятное дело, не знала — медалью Андерсена Линдгрен будет награждена в 1958-ом), Астрид Линдгрен зовут, нашим мальчишкам (да и девчонкам — чего уж там скрывать) придутся по нраву и будут в радость мелкие и чрезвычайно милые шалости счастливой парочки — Малыша и Карлсона, который живёт на крыше.
Милые шалости.
Придутся в радость.
Конечно, по сравнению с тем, что творилось на страницах полюбившейся советской детворе «Республики ШКИД» авторства Леонида Пантелеева (Алексея Еремеева, если взаправду), получившего свой псевдоним во «славу печальную» известнейшего петроградского бандита-главаря-налётчика Лёньки Пантёлкина, ликвидированного ЧК в феврале 1923-го, проделки Карлсона выглядели откровенным ребячеством и подростковой дурью. Приемлемо. Вернее — самое оно! А что он в окно к Малышу прилетает, так это ничего, не форточник же, приличный, в целом, персонаж.
Это мы о том, что грань между плохими парнями и «очень плохими парнями» в СССР была несколько условной и вовсе не такой, как на Западе. Герои революции, герои Гражданской — каких там только не было парней. Многие из них стали иконами, символами Страны Советов. И потому допускалось многое, а запрещать ребёнку лазить по крышам, пусть и семилетнему (это же сказка, как-никак), пусть и в компании оголтелого летающего друга — буржуазная заскорузлая мораль! В Великую Отечественную дети, да подростки на крышах дежурили — зажигалки тушили и ничего!
Так всё тогда было устроено — не оранжерейно.
Вон сколько исторических реальных примеров наличествовало вокруг.
И Лилиана Лунгина и Борис Грибанов «Республику ШКИД» читали и историю Пантелеева знали — он же был, как совершенно неуправляемый антисоветский элемент принудительно отправлен в Школу социально-индивидуального воспитания имени Достоевского для трудновоспитуемых (ШКИД), созданную Виктором Николаевичем Сорока-Росинским, а тот знал толк в деле выбивания дури из буйнопомешанных детей Октября — исключительно трудом и человеческим добрым участием («любовь к детям» — вот, как это называется).
А здесь что? А здесь ничего — точно, как у Линдгрен (уже в переводе Лунгиной) и написано: «На свете столько мальчишек, которым семь лет, у которых голубые глаза, немытые уши и разорванные на коленках штанишки, что сомневаться тут нечего: Малыш — самый обыкновенный мальчик». А Карлсон — никак не чуднее канонического советского Старика Хоттабыча! И это всё не пустые додумки — в 1955-ом по всей стране советской продавалась и имела бешеный успех только что переизданная (первая версия была в 1938-ом) и очень по серьёзному дополненная в объёме книга Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». И прекрасно было известно Грибанову, что Лагин пишет киносценарий и что и двух лет не пройдёт, как фильм выйдет на экраны СССР.
«Малыш и Карлсон», таким образом, идеально ложился в канву, звёзды сошлись, всё случилось и во время, и к месту. Советским детям нужны были весёлые приключения!
Секундочку!
А почему мы с такой настойчивостью говорим о Пантелееве? Он же по крышам не лазал? Ха. Извините... Ещё как лазал, почитайте биографию (как минимум в двух различных вариантах существует и оба — огонь огненный — пионеры американских прерий отдыхают точно как пенсионеры). Дело в том, что воспитателя Пантелеева, того самого Сороку-Росинского, мягко говоря, подсидела Надежда Константиновна Крупская. Методы ей, видите ли, не нравились. Только вот сама Крупская Стране Советов таких героев, как Пантелеев не воспитала, а Сорока-Росинский воспитал (их там много было). Потому существовал негласный ценз: «Что там у вас? Прям жуть? Ну, не страшнее «Шкида»? Ну, и давайте! Напечатаем!» Кроме прочего не забывайте, Гайдар в шестнадцать лет полком командовал, а к двадцати пяти уже был мэтром литературы — для детей.
Ориентиры были серьёзные — не травоядные. Карлсон на их фоне — божий одуванчик. И тем смешнее выглядит настороженное к нему — до сих пор — отношение на переставшем загнивать и уже окончательно сгнившем Западе.
Если что в Стране Советской решили, то всё будет обязательно. Лунгина перевела книжку Линдгрен (последовательно практически все её книжки) так, что та и сама ахнула (впоследствии). Уровень работы над текстом, а фактически, нового его написания (будем честны — гениальный переводчик, он всегда и гениальный соавтор) был запределен. Остроты, колкости, живейшие бытовые сценки, хулиганские похождения и бандитские проделки насыщали повествование под самую завязку. Иллюстрации поначалу взяли канонические, художницы и подруги Линдгрен, Илон Викланд. Нормальные иллюстрации. Но... Не цепляющие советского человека. Извините, ребёнка.
Издали. В 1957-ом.
Продали за пару-тройку лет триста (!) тысяч экземпляров.
И крепко задумались.
Надо же понимать — для советского времени такие тиражи детской литературы, это было ничто, смех на поляне. Лунгина, с ней понятно, сделала себе имя, подружилась по переписке с Линдгрен, завоевала доверие издателей, взялась за переводы Ибсена, Шиллера, Бёлля, Виана, Ажара, Кюртиса и много ещё кого, а дети?! Детям достался замечательный мир скандинавской литературы (год от года он будет в СССР расширятся, например, Владимир Смирнов блестяще переведёт сказки Туве Янссон), но на серьёзный успех вся история не тянула.
И тут.
Глаз Бориса Степанцева упал на «Малыша и Карлсона».
Великий феномен советской мультипликации вообще до сих пор нами не изучен и не понят. Вот почему мы никогда не шли протоптанной тропой? Винни-Пух у нас свой. Маугли — свой (американцы его своим детям не рекомендуют, мол «обилие сцен насилия»). Карлсон — тоже свой, да ещё какой! Советская мультипликация, она потому и лучшая в мире, что представляет собой сплошное поле творческого эксперимента. В спину не толкали, не гнали, что надо — давали, только твори! И творили.
Степанцев книгу про летающего толстяка прочитал (уж как она ему в руки попала) и пошёл к своей правой руке, художнику «номер один» (он и правда - был уникален) Анатолию Савченко. К слову, это был 1967-ой, два года назад они выпустили в тандеме мультик «Вовка в Тридевятом царстве» и мультик тот был народом и детьми разобран на цитаты до последней, что называется, пуговицы.
«Щас я как всё это замесю! Это чё, тесто? Чё она такая липкая?..»
«Ух ты, подумаешь! Килька несчастная!..»
Продолжать можно до бесконечности. Савченко перед началом работы (практически никогда) первоисточник (если он был) не смотрел, а читал только сценарий и всё придумывал из головы, каждого героя в отдельности и в во всех подробностях. Через неделю после первого разговора он принёс Степанцеву наброски и понеслось.
А надо сказать, что Анатолий Савченко был в работе человеком предельно целеустремлённым и до дела «злым» — в семнадцать (в 1941-ом) совсем мальчишкой он ушёл добровольцем на фронт, воевал в пехоте, был ранен, демобилизовался только в 1947-ом. Борис Степанцев, хоть и не воевал, а представление о дисциплине имел соответствующее — пять лет срочной службы на флоте, с 1949-го до 1954-го. Вместе они представляли собой гремучую смесь, «коктейль Молотова», помноженный на сто. Успех «Малышу и Карлсону» был обеспечен.
Раневскую на роль Фрекен Бок пригласил именно Савченко. Ливанова на роль Карлсона нашёл Степанцев. Малыша озвучила Румянова — многие «детские» голоса того времени принадлежали ей.
Когда мультфильм «Малыш и Карлслон» вышел — мир рухнул. Количество анекдотов, цитат, шуточек и прибауточек зашкаливало. Успех был тотальным. Вторая часть мультфильма «Карлсон вернулся» ввергла всех советских граждан и всех советских детей в какое-то окончательное и бесповоротное ликование.
Тиражи книг о Малыше и Карлсоне подскочили так, что не успевали печатать. К 1974-ому продали 10 миллионов экземпляров и конца-края продажам видно не было. «Ну... Это уже кое-что!», — удовлетворённо прозвучало в Главлите. Такие были времена. Эпические.
Линдгрен много раз приезжала в Москву, встречалась с Лунгиной, общалась с пионерами. Будучи давно и совершенно состоявшейся, и ни в коем случае не нуждающейся в деньгах, она, вечная защитница детей (и это чистая правда — Линдгрен всю жизнь боролась за запрет телесных наказаний) собственноручно дала разрешение «Детской литературе» на печать повестей о Карлсоне без авторских отчислений. В Швеции и мире эти три книжки и близко не имели такого успеха и таких заоблачных тиражей.
Детвора в Малыша и Карлсона влюбилась.
Да и взрослые тоже.
Для всего же прочего мира такой подход к продвижению детской литературы в массы был наглядным и абсолютно реальным примером того, что в СССР, похоже, и правда — всё лучшее принадлежало детям.
Знаете, плевать, что Карлсон «им» не нравится. Плевать, что в Америке изымают из библиотек «неполиткорректного» Марка Твена. Плевать...
Главное — у нас с головой всё в порядке. И наш Карлсон — он самый лучший в мире. Отважный, находчивый, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил и это благодаря ему мы теперь знаем, что «от пирогов не толстеют». Как и от всего, что было сделано «безжалостной советской пропагандой тоталитарного советского строя».
Так что, спокойствие, только спокойствие!
Пустяки.
Дело-то житейское!
Сергей Цветаев.
Буденовка Россине
В 1920 году в «Театральном вестнике» выходит статья первого Наркома просвещения РСФСР А. В. Луначарского «О народных празднествах». Начиналась она так: «Является совершенно бесспорным, что главным художественным порождением революции всегда были и будут народные празднества.»
Через три года после начала революции Анатолий Луначарский, бывший активным участником и организатором праздников новой страны, начиная с первой послеоктябрьской красной даты революционного календаря – Первомая восемнадцатого года, признается, что в этом отношении « мы оказались менее, живыми, одаренными меньшим творческим гением как в смысле организаторов, так и в смысле отзывчивости масс, чем французы конца XVIII в.». В своей статье нарком просвещения указывает на необходимость массовости городских торжеств для самого же народа. Сам народ, само шествие людей должно было стать центром праздника, где организованные люди выражают перед другими (а далее, и перед остальным миром) и самими собой свою идеологию, чаяния, протест и другие эмоции народа. Город с его зданиями, улицами, фонарями и архитектурной средой на время праздников превращался в декорации для идущих, а идущие в свою очередь должны были стать зрелищем для неподвижных зрителей. С этой статьи начался (недолгий) период «карнавальности» и театральности массовых советских праздников. В своих работах и воспоминаниях Луначарский все время возвращался к тому самому Первомаю в Петрограде 1918 года, к времени создания нового типа массового праздника, внутри которого устранялось противодействие официального и народного, сплетались воедино эстетико-культурная и функционально-социологическая сторона праздника.
В 1960-ых годах мероприятия в области искусства, проведенные советской властью в 1918-1920 годах для пропаганды своей идеологии будут названы термином «агитационно-массовое искусство».
Вопросами организаций народных празднеств был призван заниматься новый (основан в январе 1918 года) «Театральный Совет Российской республики» при Народном комиссариате по просвещению, ставший первым советским государственным органом по руководству театральной жизнью. Целью первого праздника в истории страны - Первомая 1918 стала политическая демонстрация сил победившего пролетариата. При Петросовете была создана Центральная праздничная комиссия с десятью специализированными подкомиссиями, в том числе финансовой, по устройству митингов, по освещению, по художественному оформлению, по наблюдению за санитарным порядком, оказанию медицинской помощи.
В это же время нарком Анатолий Луначарский и Давид Штеренберг, бывший тогда руководителем отдела ИЗО Наркомпроса вовлекают в активную работу отдела Евгения Баранова – Россине, знакомого им по парижскому «Улью», артистическому сообществу, основанному скульптором Альфредом Буше.
Тяжелое время, Гражданская война не помешали вернувшемуся на обновленную Родину энергичному и темпераментному художнику принимать участие во всех масштабных мероприятиях Петрограда в 1918-1919 гг. Для работы над празднованием Первой годовщины Октября Баранов-Россине выбирает военную тему. Не только изображения великих учителей и вождей коммунизма украсили площади и улицы городов СССР, советский праздник должен был стать смотром сил сторонников Октябрьской революции, частью войны, идущей с её врагами. Именно поэтому характерной частью советского празднования стало участие военных. Что, к слову, роднило молодое государство с поверженной русской империей, где ни одно массовое торжество не обходилось без демонстрации военной доблести и силы.
По эскизам Евгения Баранова-Россине огромными панно была оформлена Знаменская площадь Петрограда перед Московским вокзалом – «Красноармеец-барабанщик», «Марширующие красноармейцы», «Нет выше звания, как звания солдата социалистической революции» (ГРМ), «365 революционных дней» (Музей политической истории, Санкт-Петербург).
Для украшения других основных петроградских мест притяжения были привлечены художники, ставшие теперь мировыми классиками изобразительного искусства. Площадь Урицкого (бывшую Дворцовую) была отдана Натану Альтману, площадь Диктатуры (бывшая Лафонская) украшал Иосиф Лангбард, Борис Кустодиев работал над Ружейной площадью (нынешняя Австрийская), Кузьма Петров-Водкин оформлял Театральную площадь, Адмиралтейство, набережную и прилегающие улицы взял на себя Мстислав Добужинский, мост лейтенанта Шмидта (бывший Благовещенский) - Василий Шухаев , Давид Штеренберг - набережную Зимней канавки. В первый день годовщины Октября Марсово поле посетило более полумиллиона человек. Октябрьский праздник 1918 года стал „по великодушной мысли его организаторов, как бы громадной уличной выставкой современного искусства (благодаря привлечению к работам художников всех направлений), писал профессор Лев Пумпянский. Заметим, что уже 10 апреля 1919 года Исполкомом Петросовета было издано постановление, в котором большое значение придавалось активному участию в проведении последующих мероприятий непосредственно народу: „Ни в коем случае не передавать организацию первомайских празднеств в руки футуристов из отдела „изобразительных искусств".
Не только цвет, изображение и слово были призваны оказывать мощное эмоциональное воздействие на участников и зрителей торжества в тяжелое кризисное время. «Здесь нужна гигантская песнь, здесь нужен гигантский хор, какой-то огромный оркестр медных инструментов, который мог бы петь эту исполинскую песнь, петь песнь великана, который проснулся для творчества и для счастья… чтобы запела Россия мощную, радостную песнь знания, красоты, счастья!» - скажет Луначарский в своем докладе о работе Наркомпроса в 1920 году. Оркестрам нашлось место и в 1918. А вот от использования в мероприятиях фантастического музыкального изобретения Евгения Баранова-Россине власти тогда отказались. Называлось оно оптофон. (Его показывали на выставке РОСИЗО в этом году в «Манеже»).
Одессит Шулим Вольф-Лейб Баранов, он же Владимир Давыдович Баранов, рожденный в 1888 году, в начале века поступает в Академию художеств в Петербурге и погружается в поиски новых путей в искусстве, приведших его в авангард. Баранов принимает участие в первых выставках авангарда вместе с Михаилом Ларионовым, Натальей Гончаровой, Давидом Бурлюком, Александрой Экстер. Обосновавшись в 1910 году в Париже, Баранов набирает обороты как художник и увлекается идеей выразить динамику движения и музыкальность ритмов с помощью "закономерностей" взаимопроникновения основных цветов спектра. Переехав в Норвегию художник углубленно изучает проблемы синтеза музыки и цвета. Футуристические идеи и любовь к авангарду, идеям Скрябина и Кандинского, приводят Баранова в 1916 году к созданию необычного пианино – оптофона. Инструмент генерировал звуки и проецировал изображение на поверхности - стены, потолок, киноэкран – с помощью раскрашенных Барановым дисков, отражателей, линз, зеркал и фильтров. Вариации в яркости фильтров и самих дисков считывались электрическим фотоэлементом, который посылал сигналы на элементарный генератор звука. В итоге получался вращающийся калейдоскоп изображений под непрерывный изменяющийся звук. Баранов-Россине считал, что оптофон можно использовать и на массовых мероприятиях, проецируя изображения – лозунги на любую поверхность, включая дым и облака. Иллюзии о жизни в советском государстве развеялись к 1925 году, художник и изобретатель возвращается в Париж, чтобы сосредоточиться на основанной им Оптофонической академии, увлекается сюрреализмом. Цветомузыкальная жизнь за границей закончится для Баранова-Россине арестом и смертью в концлагере Аушвиц в 1944 году.
За свое недолгое пребывание в новом государстве Евгений Баранов-Россине принял участие еще в одном знаковом для того времени проекте, который до сих пор вызывает вопросы об его авторстве.
16 декабря 1917 года в ломающей старый строй стране выходит декрет об отмене прежних армейских чинов и званий. Основу вооружённых сил составила Красная армия, преобразованная в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА). Форма для красногвардейцев должна была быть введена срочно и максимально отличаться от белогвардейской. Приказом № 306 от 25 апреля 1918 года создаётся временная комиссия по проектированию обмундирования для РККА, приказом № 326 от 7 мая 1918 года публикуется призыв к созданию новой формы на конкурсной основе, там же опубликованы правила отбора, 21 мая 1918 года приказом № 380 был утвержден состав комиссии для оценки работ участников конкурса. Неудивительно, что идея создания военной формы активизировала многих художников, в том числе Б.М. Кустодиева, С.Г. Аркадьевского, вернувшегося из австрийского плена М.Д. Езучевского и В.Д. Баранова-Россине. Так кто же из них стал автором символа Гражданской войны, который знаком любому советскому и русскому человеку – будёновки?
18 декабря 1918 г. на основании представленных на конкурс эскизов Реввоенсовет Республики утвердил новый тип зимнего головного убора — суконный шлем, формой напоминавший средневековую «ерихонку» или шелом с бармицей, за что изначально был прозван в народе «богатырка». В одних источниках указано, что первую премию с правом осуществления проекта получил С.Г. Аркадьевский, взявший за основу одежду древнерусского воина. Другие историки утверждают, что эскизы с прототипом будёновки, как шлема витязя или богатыря появились в мастерской по изготовлению рисунков и проектов новых форм обмундирования под руководством Михаила Езучевского. Дочь же классика Бориса Кустодиева упоминала, что отец был крайне обижен, на то, что его идеи о старинном русском шлеме были присвоены и реализованы другими художниками. Также авторство будёновки приписывают Евгению Баранову-Россине.
Возможно, именно он, как член Комиссии по выработке форм обмундирования РКК собрал воедино все предложенные эскизы, доработал и оформил окончательный вид предметов новой военной формы. А может быть, и не надо было ничего придумывать, если еще по одной версии, на старых складах хранилась партия формы, созданной Василием Васнецовым для имперского парада Победы в Берлине и Константинополе по заказу Двора Его Императорского Величества и сшитая в 1915 году на заводах концерна М.А. Второва?
В июне 1920 года в разгар Гражданской войны Дмитрий Моор за одну ночь создает агитационный плакат, который впечатывается в сознание с первого взгляда. «Ты записался добровольцем?» - спрашивает каждого из нас мощный воин в подпоясанной красной рубахе. На голове его красная будёновка с красной звездой. И тебе уже неважно, кто перед тобой – древнерусский богатырь или боец РККА. Их образы для потомков слились в единый мощный символ народного защитника.
Но какова судьба автора символа революции – покинуть родину , дабы тебя сожгли немецкие нацисты в концлагере – что может быть горше?
Мария Мальцева-Самойлович.
Через три года после начала революции Анатолий Луначарский, бывший активным участником и организатором праздников новой страны, начиная с первой послеоктябрьской красной даты революционного календаря – Первомая восемнадцатого года, признается, что в этом отношении « мы оказались менее, живыми, одаренными меньшим творческим гением как в смысле организаторов, так и в смысле отзывчивости масс, чем французы конца XVIII в.». В своей статье нарком просвещения указывает на необходимость массовости городских торжеств для самого же народа. Сам народ, само шествие людей должно было стать центром праздника, где организованные люди выражают перед другими (а далее, и перед остальным миром) и самими собой свою идеологию, чаяния, протест и другие эмоции народа. Город с его зданиями, улицами, фонарями и архитектурной средой на время праздников превращался в декорации для идущих, а идущие в свою очередь должны были стать зрелищем для неподвижных зрителей. С этой статьи начался (недолгий) период «карнавальности» и театральности массовых советских праздников. В своих работах и воспоминаниях Луначарский все время возвращался к тому самому Первомаю в Петрограде 1918 года, к времени создания нового типа массового праздника, внутри которого устранялось противодействие официального и народного, сплетались воедино эстетико-культурная и функционально-социологическая сторона праздника.
В 1960-ых годах мероприятия в области искусства, проведенные советской властью в 1918-1920 годах для пропаганды своей идеологии будут названы термином «агитационно-массовое искусство».
Вопросами организаций народных празднеств был призван заниматься новый (основан в январе 1918 года) «Театральный Совет Российской республики» при Народном комиссариате по просвещению, ставший первым советским государственным органом по руководству театральной жизнью. Целью первого праздника в истории страны - Первомая 1918 стала политическая демонстрация сил победившего пролетариата. При Петросовете была создана Центральная праздничная комиссия с десятью специализированными подкомиссиями, в том числе финансовой, по устройству митингов, по освещению, по художественному оформлению, по наблюдению за санитарным порядком, оказанию медицинской помощи.
В это же время нарком Анатолий Луначарский и Давид Штеренберг, бывший тогда руководителем отдела ИЗО Наркомпроса вовлекают в активную работу отдела Евгения Баранова – Россине, знакомого им по парижскому «Улью», артистическому сообществу, основанному скульптором Альфредом Буше.
Тяжелое время, Гражданская война не помешали вернувшемуся на обновленную Родину энергичному и темпераментному художнику принимать участие во всех масштабных мероприятиях Петрограда в 1918-1919 гг. Для работы над празднованием Первой годовщины Октября Баранов-Россине выбирает военную тему. Не только изображения великих учителей и вождей коммунизма украсили площади и улицы городов СССР, советский праздник должен был стать смотром сил сторонников Октябрьской революции, частью войны, идущей с её врагами. Именно поэтому характерной частью советского празднования стало участие военных. Что, к слову, роднило молодое государство с поверженной русской империей, где ни одно массовое торжество не обходилось без демонстрации военной доблести и силы.
По эскизам Евгения Баранова-Россине огромными панно была оформлена Знаменская площадь Петрограда перед Московским вокзалом – «Красноармеец-барабанщик», «Марширующие красноармейцы», «Нет выше звания, как звания солдата социалистической революции» (ГРМ), «365 революционных дней» (Музей политической истории, Санкт-Петербург).
Для украшения других основных петроградских мест притяжения были привлечены художники, ставшие теперь мировыми классиками изобразительного искусства. Площадь Урицкого (бывшую Дворцовую) была отдана Натану Альтману, площадь Диктатуры (бывшая Лафонская) украшал Иосиф Лангбард, Борис Кустодиев работал над Ружейной площадью (нынешняя Австрийская), Кузьма Петров-Водкин оформлял Театральную площадь, Адмиралтейство, набережную и прилегающие улицы взял на себя Мстислав Добужинский, мост лейтенанта Шмидта (бывший Благовещенский) - Василий Шухаев , Давид Штеренберг - набережную Зимней канавки. В первый день годовщины Октября Марсово поле посетило более полумиллиона человек. Октябрьский праздник 1918 года стал „по великодушной мысли его организаторов, как бы громадной уличной выставкой современного искусства (благодаря привлечению к работам художников всех направлений), писал профессор Лев Пумпянский. Заметим, что уже 10 апреля 1919 года Исполкомом Петросовета было издано постановление, в котором большое значение придавалось активному участию в проведении последующих мероприятий непосредственно народу: „Ни в коем случае не передавать организацию первомайских празднеств в руки футуристов из отдела „изобразительных искусств".
Не только цвет, изображение и слово были призваны оказывать мощное эмоциональное воздействие на участников и зрителей торжества в тяжелое кризисное время. «Здесь нужна гигантская песнь, здесь нужен гигантский хор, какой-то огромный оркестр медных инструментов, который мог бы петь эту исполинскую песнь, петь песнь великана, который проснулся для творчества и для счастья… чтобы запела Россия мощную, радостную песнь знания, красоты, счастья!» - скажет Луначарский в своем докладе о работе Наркомпроса в 1920 году. Оркестрам нашлось место и в 1918. А вот от использования в мероприятиях фантастического музыкального изобретения Евгения Баранова-Россине власти тогда отказались. Называлось оно оптофон. (Его показывали на выставке РОСИЗО в этом году в «Манеже»).
Одессит Шулим Вольф-Лейб Баранов, он же Владимир Давыдович Баранов, рожденный в 1888 году, в начале века поступает в Академию художеств в Петербурге и погружается в поиски новых путей в искусстве, приведших его в авангард. Баранов принимает участие в первых выставках авангарда вместе с Михаилом Ларионовым, Натальей Гончаровой, Давидом Бурлюком, Александрой Экстер. Обосновавшись в 1910 году в Париже, Баранов набирает обороты как художник и увлекается идеей выразить динамику движения и музыкальность ритмов с помощью "закономерностей" взаимопроникновения основных цветов спектра. Переехав в Норвегию художник углубленно изучает проблемы синтеза музыки и цвета. Футуристические идеи и любовь к авангарду, идеям Скрябина и Кандинского, приводят Баранова в 1916 году к созданию необычного пианино – оптофона. Инструмент генерировал звуки и проецировал изображение на поверхности - стены, потолок, киноэкран – с помощью раскрашенных Барановым дисков, отражателей, линз, зеркал и фильтров. Вариации в яркости фильтров и самих дисков считывались электрическим фотоэлементом, который посылал сигналы на элементарный генератор звука. В итоге получался вращающийся калейдоскоп изображений под непрерывный изменяющийся звук. Баранов-Россине считал, что оптофон можно использовать и на массовых мероприятиях, проецируя изображения – лозунги на любую поверхность, включая дым и облака. Иллюзии о жизни в советском государстве развеялись к 1925 году, художник и изобретатель возвращается в Париж, чтобы сосредоточиться на основанной им Оптофонической академии, увлекается сюрреализмом. Цветомузыкальная жизнь за границей закончится для Баранова-Россине арестом и смертью в концлагере Аушвиц в 1944 году.
За свое недолгое пребывание в новом государстве Евгений Баранов-Россине принял участие еще в одном знаковом для того времени проекте, который до сих пор вызывает вопросы об его авторстве.
16 декабря 1917 года в ломающей старый строй стране выходит декрет об отмене прежних армейских чинов и званий. Основу вооружённых сил составила Красная армия, преобразованная в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА). Форма для красногвардейцев должна была быть введена срочно и максимально отличаться от белогвардейской. Приказом № 306 от 25 апреля 1918 года создаётся временная комиссия по проектированию обмундирования для РККА, приказом № 326 от 7 мая 1918 года публикуется призыв к созданию новой формы на конкурсной основе, там же опубликованы правила отбора, 21 мая 1918 года приказом № 380 был утвержден состав комиссии для оценки работ участников конкурса. Неудивительно, что идея создания военной формы активизировала многих художников, в том числе Б.М. Кустодиева, С.Г. Аркадьевского, вернувшегося из австрийского плена М.Д. Езучевского и В.Д. Баранова-Россине. Так кто же из них стал автором символа Гражданской войны, который знаком любому советскому и русскому человеку – будёновки?
18 декабря 1918 г. на основании представленных на конкурс эскизов Реввоенсовет Республики утвердил новый тип зимнего головного убора — суконный шлем, формой напоминавший средневековую «ерихонку» или шелом с бармицей, за что изначально был прозван в народе «богатырка». В одних источниках указано, что первую премию с правом осуществления проекта получил С.Г. Аркадьевский, взявший за основу одежду древнерусского воина. Другие историки утверждают, что эскизы с прототипом будёновки, как шлема витязя или богатыря появились в мастерской по изготовлению рисунков и проектов новых форм обмундирования под руководством Михаила Езучевского. Дочь же классика Бориса Кустодиева упоминала, что отец был крайне обижен, на то, что его идеи о старинном русском шлеме были присвоены и реализованы другими художниками. Также авторство будёновки приписывают Евгению Баранову-Россине.
Возможно, именно он, как член Комиссии по выработке форм обмундирования РКК собрал воедино все предложенные эскизы, доработал и оформил окончательный вид предметов новой военной формы. А может быть, и не надо было ничего придумывать, если еще по одной версии, на старых складах хранилась партия формы, созданной Василием Васнецовым для имперского парада Победы в Берлине и Константинополе по заказу Двора Его Императорского Величества и сшитая в 1915 году на заводах концерна М.А. Второва?
В июне 1920 года в разгар Гражданской войны Дмитрий Моор за одну ночь создает агитационный плакат, который впечатывается в сознание с первого взгляда. «Ты записался добровольцем?» - спрашивает каждого из нас мощный воин в подпоясанной красной рубахе. На голове его красная будёновка с красной звездой. И тебе уже неважно, кто перед тобой – древнерусский богатырь или боец РККА. Их образы для потомков слились в единый мощный символ народного защитника.
Но какова судьба автора символа революции – покинуть родину , дабы тебя сожгли немецкие нацисты в концлагере – что может быть горше?
Мария Мальцева-Самойлович.
Лица с плакатов
Даже в художественном смысле – это, конечно, был тоже весьма смелый творческий эксперимент.
На грани, что называется.
А, может, и даже – за.
Молодая и, как к ней не относись с исторической точки зрения, жутко талантливая советская власть, не просто перевернула огромную и патриархальную страну. Она, по сути, еще и поставила на поток творческое производство людей нового типа, ранее человечеству совершенно неизвестного: не только художников, писателей, музыкантов и поэтов, кстати, о которых мы вам рассказываем. Но и, прежде всего, тех, с кого они писали свои «плакаты». Тех, в кого последующие, иной раз чересчур самоироничные, поколения отказываются даже верить, обвиняя молодое советское искусство то в «ходульности», то просто в «упрощении и вульгарности». И, кстати, напрасно.
Иной раз это был отнюдь не плакат и тем более не «красный лубок», а самый, что ни на есть лютейший социалистический реализм. И сейчас, читая вполне себе документальные биографии этих людей, строителей нарисованного на оберточной бумаге грядущего, людей, будто шагнувших с «агитпроповского» плаката в жизнь молодого советского государства, понимаешь, что, если, как советовал советский поэт Николай Тихонов, «гвозди б делать из этих людей» (с), - то это был бы совершенно бездарный и бесхозяйственный, на уровне преступной халатности, перевод драгоценного человеческого материала.
Потому как едва ли не голыми руками и одним неукротимым напряжением человеческой воли эти люди реально переделывали косный материальный мир. Причем, некоторые, извините, «советские белокурые бестии» делали это, даже не обращая особого внимания на всякие глупости и условности, типа разных там революций и надоедливых гражданских войн. Или, к примеру, двух лагерных сроков в самый разгар сталинских репрессий, которые ничуть не вредили научной и творческой карьере.
И, даже, не прерывали научных исследований и геологических экспедиций, к примеру.
А пока – немного о самом Ушакове, жизнь которого постоянно превращалась то в классический авантюрный и приключенческий роман, то в советский героический эпос, то – в откровенный героический плакат с демонстрации трудящихся, изображающий пламенного и яростного молодого дальневосточного большевика. А то и в портрет мудрого и ответственного научного и партийного руководителя, старающегося не выпячивать себя на первый план: мало кто знает, что уполномоченным правительственной комиссии по спасению экипажа и пассажиров советского парохода «Челюскин», затонувшего в Чукотском море, был именно Ушаков. Как мало кто помнит и то, что, к примеру, инициатором переоборудования теплохода «Экватор» во всемирно известное научное судно «Витязь», о котором столько фильмов снято и столько спето советскими бардами в шестидесятые-семидесятые (да чего там, - до сих пор, в общем, поют), тоже стал, - уже, фактически, будучи смертельно больным человеком, большим советским ученым и очень авторитетным научным начальником, - именно этот, совершенно потрясающей неукротимости персонаж.
А еще «великий путешественник ХХ века» оказался, на удивление, очень талантливым писателем.
По крайней мере, его автобиографическими книгами «Остров метелей» и «По нехоженой земле» яростно зачитывались советские мальчишки, начиная с тридцатых годов и по восьмидесятые. Включая автора этих строк, разумеется: до сих пор помню эту книжку в непривычно яркой суперобложке, изданную не существующим уже ныне, а тогда более, чем успешным, издательством «Мысль».
Сейчас ее, разумеется, не переиздают и не потому, что она была бы коммерчески неуспешна: «Мысль» была хозрасчетным издательством и зарабатывала в советские времена вполне прилично. Просто герой Ушаков самим фактом своего существования очень мешал декларируемому «воспитанию квалифицированного потребителя», которому куда ближе гомосеки из ныне запрещенного и порицаемого «Лета в пионерском галстуке», чем героические советские полярники. Да и вообще, помните еще, наверное, это «интеллигентское»: не делайте мне тут этот ваш пошлый совковый плакат. Русским детям, по мнению этой прекрасной публики, сейчас частично сделавшей по тапкам через Верхний Ларс, было куда полезнее готовиться к ролевым играм с богатенькими западными «усыновителями», чем по снежным горкам, играя в никому не нужных героев-полярников, извините, скакать. Растрачивая, так сказать, юный горячий пыл на бесполезные северные дела.
Среди всех полярников, которые были культовыми героями в советских 30-х, почти такими же, как первые космонавты в 60-х и куда круче, чем любой Виктор Цой и прочие рок-идолы 80-х – 90-х годов прошлого века, - именно Георгий Ушаков, пожалуй, был самым эталонным. И просто по биографии, и по творческому переосмыслению судьбы.
Представьте себе мальчишку, родившегося в самом начале прошлого века в далекой казачьей станице в глухой Амурской тайге (ныне село Лазарево Еврейской АО), мягко говоря, в далеко не богатой семье. Который учился читать при помощи отца по стихам Пушкина, единственной доступной книге, потому что в далекой станице не было не то, что школы, - даже церкви не было.
Хорошо еще, что в часовенку поп время от времени приезжал, целое событие для станицы.
Мальчишку, уже к десяти годам ставшего опытным таежником и охотником, и, с благословения неважно себя чувствовавшего отца, увидевшего в сыне неуемную тягу к знаниям, отправившегося в Хабаровск, - почти без денег, в полном одиночестве, в одиннадцать с небольшим лет, - чтобы просто «учиться».
Потом, - хабаровское реальное училище, «ночлежки» (жить было просто негде), подработки разносчиком газет, переписчиком, помощником парикмахера, - да любая работа, которую Бог мальчишке пошлет.
Чуть позже, в принципе, - повезло.
Смышленого паренька, знающего дальневосточную тайгу как свой задний двор, присмотрел и определил себе в помощники, «мальчиком на побегушках» - параллельно учебе в реальном училище, разумеется, - великий путешественник и разведчик, офицер русского генерального штаба Владимир Клавдиевич Арсентьев.
Тот самый, знаменитый уже на всю Россию, если не на весь мир.
Автор в ту пору еще не опубликованных, хотя уже и, фактически, написанных, «В дебрях Уссурийского края» и, естественно, культового «Дерсу Узала».
А потом была революция и страшная гражданская война, в которой Георгий Ушаков, понятное дело, сражался на стороне «красных»: тут нечему удивляться, на их стороне был даже его учитель, полковник уже к тому времени Генерального штаба Е.И.В, русский разведчик и великий путешественник В.К. Арсентьев.
Тут выбора особого не было.
Дальний Восток - это все-таки не совсем европейская Россия.
Это у нас здесь, к примеру, адмирал Колчак – замечательный гляциолог, полярный исследователь и романтический (по телевизору показывали!) герой белого движения. В Восточной Сибири и на русском Дальнем Востоке – это, в первую очередь, - грязный палач и, не скрывающий свою ненависть к сибирякам, британский шпион. Поэтому выбор юного амурского казака был вполне понятен: Амурская красная партизанская армия, большевистское подполье во Владивостоке.
Потом, уже после победы красных, - партийная работа, позже, - направление в органы Госторговли: хозяйственная жилка в будущем великом полярном исследователе всегда была преизрядная. И она ему очень пригодилась потом, при тщательном планировании и организации безумной сложности экспедиций.
Естественно, начиная с 1921 года, параллельно службе – Дальневосточный Университет, тяга к знаниям никуда не пропала.
А вот далее, - уже первый настоящий подвиг.
Благодаря которому двадцатишестилетний Ушаков навсегда вошел если не в историю российской науки (хотя и нее тоже, справедливости ради), то, совершенно точно, в историю современной мировой политической географии: именно благодаря этому, молодому тогда парню, «родильный дом белых медведей», острова Врангеля и Геральда принадлежат России, а не Великобритании.
Сухая строка в энциклопедиях: в 1926-1929 годах тов. Г.А. Ушаков был первым представителем Советской России по управлению и заселению островов Врангеля и Геральда. Ничего особенного.
Помимо всего прочего на эти острова, из-за их выгодного географического положения, - идеальная база для аэродрома и стоянки модных тогда еще дирижаблей, - активно и не безосновательно претендовали еще и вечно сующие свой нос куда не надо англичане, отправлявшие туда экспедицию за экспедицией. Вот, молодой Советской власти и пришлось срочно основывать там поселение чтобы хотя бы просто чисто юридически доказать «хозяйственное использование». После чего острова Врангеля и Геральда и были окончательно закреплены за молодой советской Россией.
Возглавлял поселение и экспедицию молодой Георгий Алексеевич Ушаков.
Который не только сумел заставить выжить колонию, заселенную, преимущественно, чукотскими эскимосами. С которыми надо было еще уметь найти общий язык, особенно, если ты реально молодой парень, - хоть и с большим жизненным опытом, в том числе и выживания, ну, - так-то раньше была только тайга.
А тут – бесконечная белая равнина, где постоянно дуют злые ветры (свою книгу об этом периоде жизни Ушаков не просто так назовет «Остров Метелей»), дорогу которым перекрывают только безжизненные нагромождения каменных утесов. Да коварные льды великого Северного ледовитого океана, покрытые все тем же белым снегом, под которым прячутся трещины и полыньи.
А чтобы «русского начальника» и «большого большевика» эскимосы по-настоящему уважали – он должен был быть первым и тут. Как итог – сколько их было, тех полыньей, в которые он проваливался, в том числе и спасая признававших его безоговорочный авторитет эскимосов, - насмерть застуженные почки, хроническая болезнь, которая очень мешала ему в последующих экспедициях.
Но остановить, естественно, не могла.
Неслучайно же, когда его потом восторженные журналисты расспрашивали, «как стать полярником», Ушаков честно отвечал: «не знаю, я стал исследователем высоких широт еще до того, как появилось слово «полярник» (с). Ну, и с кого плакаты-то тогда еще, как не с него, простите, молодым художникам рисовать?
А еще – горы научного материала: записи, карты, зарисовки, результаты топографических наблюдений, коллекции растений и минералов, бесценные, - в том числе для военных, - сведения о ледовой обстановке и навигации в регионе, очень увлекательные этнографические наблюдения, почерпнутые в ходе повседневного общения с полудикими эскимосами: приложения с описанием обрядов, исторических и волшебных преданий, до Ушакова существовавшие только в виде устной традиции.
И, помимо всего прочего, детали эскимосского повседневного быта и запретных шаманских практик. К которым, кстати, Георгий Александрович, как истинный коммунист, относился, разумеется, с недоверием. Но как любой нормальный полярный исследователь-практик, с полным, что называется, уважением. Как кто-то справедливо отметил – с атеистами на войне не очень-то хорошо.
А Арктика – это та же война.
Ну, и, в плюс к бесценному научному материалу и хронической болезни почек Георгий Алексеевич Ушаков заслужил орден Трудового Красного Знамени и приглашение в будущий город-герой Ленинград.
В науку.
В 1930 году по прежнему молодой, но уже именитый и знаменитый Г.А. Ушаков становится заместителем директора знаменитого ленинградского Всесоюзного Арктического института И еще по дороге в Питер, в поезде, знакомится с таким же фанатиком севера геологом Николаем Урванцевым.
После чего буквально в течение года, вместе с все тем же Урванцевым, совершает свою самую великую и знаменитую экспедицию на Северную Землю. С высадкой на берегу, на который никогда не ступала нога советского человека. Еще раз, - два человека просто знакомятся в поезде в Питер, - нет, они друг о друге, безусловно, слышали.
Еще бы.
Мир полярных исследований узок.
Но – так, мельком.
Один – молодой большевик, талантливый путешественник и, как выяснится чуть позже, гениальный администратор. Другой - геолог еще русской императорской академической школы, один из самых, на тот момент времени, геологов молодого СССР.
Лично эти люди знакомы не были. Но мир в те странные годы действительно будто сошел с плаката.
И был удивительно легким на подъем.
Нет, безусловно, - кто из нас в молодости не делал разных глупостей, особенно после почти что знакомств с симпатичными и близкими по духу людьми в поездном в вагоне-ресторане. Всякое бывало, признаться.
Но чтобы вот так вот, - сбежать в количестве четырех человек, из которых только два исследователя (еще в этой головокружительной авантюре участвовали охотник Сергей Журавлев и молоденький радист Василий Ходов), на целых три года на не хоженую никем суровую полярную землю. Обойти ее всю (площадь архипелага около 37 тысяч кв км), на секундочку (!) пешком и на собаках, иногда по пояс в ледяной воде, - и это не фигура речи, - параллельно ни на секунду не прекращая научной деятельности, - это, знаете ли, на мой вкус вообще за гранью человеческих возможностей. Вот, краткие итоги этой блистательной и предельно точно, можно сказать, научно просчитанной авантюры.
Экспедиция доказала, что Северная Земля не остров, а материк.
Были открыты образующие архипелаг острова, которые получили названия Пионер, Комсомолец, Большевик, Октябрьской Революции, Шмидта (ну, да, Георгий Алексеевич был, что называется, истинный большевик, а Урванцеву было, в известной степени, по фиг). Были открыты новые проливы, в том числе пролив Шокальского, что особенно важно сейчас, когда считаются разные варианты маршрутов движения по великому Северному морскому пути. Николаем Николаевичем Урванцевым попутно было открыто и описано колоссальное месторождения оловянных руд. А бывшее название крупнейшего из островов просто стало названием всего архипелага.
Северная Земля.
Еще раз – вчетвером.
Пройдя за два года около 11 тыс. километров, пешком и на собаках (точнее втроем, радист Ходов всегда вынужденно оставался на станции), не считая «радиальных» выходов с целью оборудовать склады продовольствия на пути будущих научных маршрутов, проведя в сложнейших условиях инструментальную съёмку площади в 26 700 км², вынужденно передвигаясь только в период зима/весна, чтоб можно было вести съемку и был твердый лед. Иногда почти сутками по пояс в ледяной воде (что там со сроками гибели от переохлаждения? Этих людей это не касалось), перенося собак (!) и научное оборудование в нартах на руках, чтобы собаки и инструменты не погибли от воды и холода. И вас еще удивляет, почему они, будто сошедшие живыми с героических плакатов, стали и сами живой пропагандой того, что может настоящий русский человек модернистского советского столетия: а Ушаков еще и университетский курс, так к тому времени и не оконченный, не забывал. Но доктором наук все равно стал honoris causa, без защиты и много позже.
Когда слишком уж очевидная стала степень его заслуг.
И еще – эти люди были удивительно, просто плакатно искренни. И Урванцев, и Ушаков вспоминают в своих мемуарах, как они отмечали 7 ноября: с поднятием флага, с салютом из карабинов, даже с маршем мимо знамени в составе троих человек. Четвертый, радист, напомним, оставался на острове в экспедиционном домике.
Поэтому в парадах участия не принимал…
Дальнейшие судьбы наших героев сложились очень по-разному.
Георгий Ушаков уже в 1934 году руководил экспедицией, снимавшей челюскинцев со льдины, а 1935 прокладывал Северный морской путь, возглавив первую Высокоширотную экспедицию Главсевморпути на ледокольном пароходе «Садко». Потом занимался внедрением механизации в арктические проекты, а в 1936 году с нуля создавал Главное управление Гидрометслужбы СССР при СНК СССР. После войны принимал самое активное участие в создании великого Института океанологии при АН СССР. Похоронен, согласно завещанию, на острове Домашний (до сих пор необитаемый архипелаг Северная Земля), урну с прахом великого землепроходца и первооткрывателя его товарищи и ученики доставили туда и замуровали в бетонную пирамиду. Именем Георгия Алексеевича назван остров в Карском море, мысы на островах Врангеля и Нансена, банка Ушакова в Баренцевом море и, даже, горы на Земле Эндерби, в Антарктиде, хоть там он никогда не бывал. Просто великого путешественника и первопроходца, никогда особо не выпячивающего себя на передний план, весьма чтили те, кто дает названия: то есть в профессиональной среде.
А вот Николай Николаевич Урванцев, награжденный вместе с Ушаковым за Северную землю высшей наградой тех лет, Орденом Ленина – сел. И, в общем, откровенно так говоря, - было за что, он не очень сильно и, поговаривают, возражал: великий советский геолог Николай Урванцев был вполне себе конкретным колчаковцем и даже, отчасти, британским шпионом: есть документальные свидетельства, что в 1919 году Николай Урванцев был командирован Колчаком в район Норильска на разведку каменного угля для кораблей Антанты. И именно этой экспедицией в 1920 году на западе полуострова Таймыр в районе реки Норильской было сначала открыто очень богатое месторождение каменного угля, а чуть позже, в 1921 году им же, Урванцевым, было открыто и богатейшее месторождение медно-никелевых руд с высоким содержанием платины: Колчаку с Антантой это, по вполне понятным причинам, не пригодилось.
А, вот, сначала Советской власти, а потом и господину Потанину, - вполне.
Так что, сегодняшний «Норильский никель» и вообще город Норильск – это именно Урванцев. И норильчане это прекрасно помнят: «домик Урванцева» (на фото) там памятник и символ начала городской истории.
Ну, а в 1938 году Николай Николаевич был, как многие тогда, арестован и осуждён на 15 лет исправительных лагерей за «вредительство и участие в контрреволюционной организации». В феврале этот приговор был отменён за отсутствием состава преступления, но уже в августе Н. Н. Урванцев был снова арестован и осуждён на 8 лет: документы об участии в колчаковском движении были, скрывай не скрывай.
Сидел Урванцев, правда, тоже довольно своеобразно: советскую власть можно было назвать чрезмерно жестокой, но во глупой она, чтоб не говорили ее враги, не была никогда: иначе б просто не победила. И потому, справедливо рассудив, что «колчаковцу» Урванцеву с его любимого Таймыра бежать все равно не за чем и некуда, просто отправила его искать на все том же Таймыре секретные урановые руды: злые языки поговаривали, что не осуждения, ни освобождения в 1945 году этот фанатик геологии и севера даже особо и не заметил. Хотя это, разумеется, апокриф, и все было, некоторым образом, не так.
Тем не менее, Ушаков таки был вынужден убрать Урванцева из великой эпопеи исследования Северной Земли. Времена были суровые, да и большевиком Георгий Алексеевич был, что называется, истовым. Даже из мемуаров «По нехоженой земле», с легкой руки Максима Горького расходившихся в тридцатые-сороковые миллионными тиражами, вымарал, хоть это было и совсем не легко.
Что тут можно сказать.
Когда я был уже довольно взрослым молодым человеком и пробовал делать свои первые шаги в журналистике, кто-то из старых геологов (а я из «геологической» семьи, мама, Царствие ей Небесное, один из первых полевых исследователей бухты Тикси побережья Моря Лаптевых) рассказывал в большой компании, как на одно из «северных» совещаний в 50-е, которое проводил Ушаков зашел неторопливо Урванцев. Уже восстановленный во всех своих званиях и чинах, тогда у Сталина с этим было просто.
Не Урванцев первый…
Все замерли.
Два монстра, два айсберга, две неодолимых воли.
Ну, думают, сейчас такое начнется.
Тишина была, фактически, гробовая…
…Деды коротко, хоть и крепко, обнялись.
Смахнули слезу, чтоб никто не видел (хотя все и заметили) и уселись рядом работать: эмоции после, дело прежде всего. А маршрут, который Ушаков намечал, представлял очень серьезный интерес и для геологов.
Поэтому Урванцев и зашел.
Гвозди, говорите, из этих людей делать?!
Ага.
А зачем?
Только драгоценный человеческий материал на какую-то ерунду железную переводить…
И еще, - не стоит, знаете ли, удивляться, отчего советский агитпроп тех лет был так изумительно хорош: в прототипах там тоже были такие персонажи, которых оказаться достойным было честью для любого художника.
Такие уж были люди.
И такие, во всех отношениях удивительные, времена.
Дмитрий Лекух.
На грани, что называется.
А, может, и даже – за.
Молодая и, как к ней не относись с исторической точки зрения, жутко талантливая советская власть, не просто перевернула огромную и патриархальную страну. Она, по сути, еще и поставила на поток творческое производство людей нового типа, ранее человечеству совершенно неизвестного: не только художников, писателей, музыкантов и поэтов, кстати, о которых мы вам рассказываем. Но и, прежде всего, тех, с кого они писали свои «плакаты». Тех, в кого последующие, иной раз чересчур самоироничные, поколения отказываются даже верить, обвиняя молодое советское искусство то в «ходульности», то просто в «упрощении и вульгарности». И, кстати, напрасно.
Иной раз это был отнюдь не плакат и тем более не «красный лубок», а самый, что ни на есть лютейший социалистический реализм. И сейчас, читая вполне себе документальные биографии этих людей, строителей нарисованного на оберточной бумаге грядущего, людей, будто шагнувших с «агитпроповского» плаката в жизнь молодого советского государства, понимаешь, что, если, как советовал советский поэт Николай Тихонов, «гвозди б делать из этих людей» (с), - то это был бы совершенно бездарный и бесхозяйственный, на уровне преступной халатности, перевод драгоценного человеческого материала.
Потому как едва ли не голыми руками и одним неукротимым напряжением человеческой воли эти люди реально переделывали косный материальный мир. Причем, некоторые, извините, «советские белокурые бестии» делали это, даже не обращая особого внимания на всякие глупости и условности, типа разных там революций и надоедливых гражданских войн. Или, к примеру, двух лагерных сроков в самый разгар сталинских репрессий, которые ничуть не вредили научной и творческой карьере.
И, даже, не прерывали научных исследований и геологических экспедиций, к примеру.
А пока – немного о самом Ушакове, жизнь которого постоянно превращалась то в классический авантюрный и приключенческий роман, то в советский героический эпос, то – в откровенный героический плакат с демонстрации трудящихся, изображающий пламенного и яростного молодого дальневосточного большевика. А то и в портрет мудрого и ответственного научного и партийного руководителя, старающегося не выпячивать себя на первый план: мало кто знает, что уполномоченным правительственной комиссии по спасению экипажа и пассажиров советского парохода «Челюскин», затонувшего в Чукотском море, был именно Ушаков. Как мало кто помнит и то, что, к примеру, инициатором переоборудования теплохода «Экватор» во всемирно известное научное судно «Витязь», о котором столько фильмов снято и столько спето советскими бардами в шестидесятые-семидесятые (да чего там, - до сих пор, в общем, поют), тоже стал, - уже, фактически, будучи смертельно больным человеком, большим советским ученым и очень авторитетным научным начальником, - именно этот, совершенно потрясающей неукротимости персонаж.
А еще «великий путешественник ХХ века» оказался, на удивление, очень талантливым писателем.
По крайней мере, его автобиографическими книгами «Остров метелей» и «По нехоженой земле» яростно зачитывались советские мальчишки, начиная с тридцатых годов и по восьмидесятые. Включая автора этих строк, разумеется: до сих пор помню эту книжку в непривычно яркой суперобложке, изданную не существующим уже ныне, а тогда более, чем успешным, издательством «Мысль».
Сейчас ее, разумеется, не переиздают и не потому, что она была бы коммерчески неуспешна: «Мысль» была хозрасчетным издательством и зарабатывала в советские времена вполне прилично. Просто герой Ушаков самим фактом своего существования очень мешал декларируемому «воспитанию квалифицированного потребителя», которому куда ближе гомосеки из ныне запрещенного и порицаемого «Лета в пионерском галстуке», чем героические советские полярники. Да и вообще, помните еще, наверное, это «интеллигентское»: не делайте мне тут этот ваш пошлый совковый плакат. Русским детям, по мнению этой прекрасной публики, сейчас частично сделавшей по тапкам через Верхний Ларс, было куда полезнее готовиться к ролевым играм с богатенькими западными «усыновителями», чем по снежным горкам, играя в никому не нужных героев-полярников, извините, скакать. Растрачивая, так сказать, юный горячий пыл на бесполезные северные дела.
Среди всех полярников, которые были культовыми героями в советских 30-х, почти такими же, как первые космонавты в 60-х и куда круче, чем любой Виктор Цой и прочие рок-идолы 80-х – 90-х годов прошлого века, - именно Георгий Ушаков, пожалуй, был самым эталонным. И просто по биографии, и по творческому переосмыслению судьбы.
Представьте себе мальчишку, родившегося в самом начале прошлого века в далекой казачьей станице в глухой Амурской тайге (ныне село Лазарево Еврейской АО), мягко говоря, в далеко не богатой семье. Который учился читать при помощи отца по стихам Пушкина, единственной доступной книге, потому что в далекой станице не было не то, что школы, - даже церкви не было.
Хорошо еще, что в часовенку поп время от времени приезжал, целое событие для станицы.
Мальчишку, уже к десяти годам ставшего опытным таежником и охотником, и, с благословения неважно себя чувствовавшего отца, увидевшего в сыне неуемную тягу к знаниям, отправившегося в Хабаровск, - почти без денег, в полном одиночестве, в одиннадцать с небольшим лет, - чтобы просто «учиться».
Потом, - хабаровское реальное училище, «ночлежки» (жить было просто негде), подработки разносчиком газет, переписчиком, помощником парикмахера, - да любая работа, которую Бог мальчишке пошлет.
Чуть позже, в принципе, - повезло.
Смышленого паренька, знающего дальневосточную тайгу как свой задний двор, присмотрел и определил себе в помощники, «мальчиком на побегушках» - параллельно учебе в реальном училище, разумеется, - великий путешественник и разведчик, офицер русского генерального штаба Владимир Клавдиевич Арсентьев.
Тот самый, знаменитый уже на всю Россию, если не на весь мир.
Автор в ту пору еще не опубликованных, хотя уже и, фактически, написанных, «В дебрях Уссурийского края» и, естественно, культового «Дерсу Узала».
А потом была революция и страшная гражданская война, в которой Георгий Ушаков, понятное дело, сражался на стороне «красных»: тут нечему удивляться, на их стороне был даже его учитель, полковник уже к тому времени Генерального штаба Е.И.В, русский разведчик и великий путешественник В.К. Арсентьев.
Тут выбора особого не было.
Дальний Восток - это все-таки не совсем европейская Россия.
Это у нас здесь, к примеру, адмирал Колчак – замечательный гляциолог, полярный исследователь и романтический (по телевизору показывали!) герой белого движения. В Восточной Сибири и на русском Дальнем Востоке – это, в первую очередь, - грязный палач и, не скрывающий свою ненависть к сибирякам, британский шпион. Поэтому выбор юного амурского казака был вполне понятен: Амурская красная партизанская армия, большевистское подполье во Владивостоке.
Потом, уже после победы красных, - партийная работа, позже, - направление в органы Госторговли: хозяйственная жилка в будущем великом полярном исследователе всегда была преизрядная. И она ему очень пригодилась потом, при тщательном планировании и организации безумной сложности экспедиций.
Естественно, начиная с 1921 года, параллельно службе – Дальневосточный Университет, тяга к знаниям никуда не пропала.
А вот далее, - уже первый настоящий подвиг.
Благодаря которому двадцатишестилетний Ушаков навсегда вошел если не в историю российской науки (хотя и нее тоже, справедливости ради), то, совершенно точно, в историю современной мировой политической географии: именно благодаря этому, молодому тогда парню, «родильный дом белых медведей», острова Врангеля и Геральда принадлежат России, а не Великобритании.
Сухая строка в энциклопедиях: в 1926-1929 годах тов. Г.А. Ушаков был первым представителем Советской России по управлению и заселению островов Врангеля и Геральда. Ничего особенного.
Помимо всего прочего на эти острова, из-за их выгодного географического положения, - идеальная база для аэродрома и стоянки модных тогда еще дирижаблей, - активно и не безосновательно претендовали еще и вечно сующие свой нос куда не надо англичане, отправлявшие туда экспедицию за экспедицией. Вот, молодой Советской власти и пришлось срочно основывать там поселение чтобы хотя бы просто чисто юридически доказать «хозяйственное использование». После чего острова Врангеля и Геральда и были окончательно закреплены за молодой советской Россией.
Возглавлял поселение и экспедицию молодой Георгий Алексеевич Ушаков.
Который не только сумел заставить выжить колонию, заселенную, преимущественно, чукотскими эскимосами. С которыми надо было еще уметь найти общий язык, особенно, если ты реально молодой парень, - хоть и с большим жизненным опытом, в том числе и выживания, ну, - так-то раньше была только тайга.
А тут – бесконечная белая равнина, где постоянно дуют злые ветры (свою книгу об этом периоде жизни Ушаков не просто так назовет «Остров Метелей»), дорогу которым перекрывают только безжизненные нагромождения каменных утесов. Да коварные льды великого Северного ледовитого океана, покрытые все тем же белым снегом, под которым прячутся трещины и полыньи.
А чтобы «русского начальника» и «большого большевика» эскимосы по-настоящему уважали – он должен был быть первым и тут. Как итог – сколько их было, тех полыньей, в которые он проваливался, в том числе и спасая признававших его безоговорочный авторитет эскимосов, - насмерть застуженные почки, хроническая болезнь, которая очень мешала ему в последующих экспедициях.
Но остановить, естественно, не могла.
Неслучайно же, когда его потом восторженные журналисты расспрашивали, «как стать полярником», Ушаков честно отвечал: «не знаю, я стал исследователем высоких широт еще до того, как появилось слово «полярник» (с). Ну, и с кого плакаты-то тогда еще, как не с него, простите, молодым художникам рисовать?
А еще – горы научного материала: записи, карты, зарисовки, результаты топографических наблюдений, коллекции растений и минералов, бесценные, - в том числе для военных, - сведения о ледовой обстановке и навигации в регионе, очень увлекательные этнографические наблюдения, почерпнутые в ходе повседневного общения с полудикими эскимосами: приложения с описанием обрядов, исторических и волшебных преданий, до Ушакова существовавшие только в виде устной традиции.
И, помимо всего прочего, детали эскимосского повседневного быта и запретных шаманских практик. К которым, кстати, Георгий Александрович, как истинный коммунист, относился, разумеется, с недоверием. Но как любой нормальный полярный исследователь-практик, с полным, что называется, уважением. Как кто-то справедливо отметил – с атеистами на войне не очень-то хорошо.
А Арктика – это та же война.
Ну, и, в плюс к бесценному научному материалу и хронической болезни почек Георгий Алексеевич Ушаков заслужил орден Трудового Красного Знамени и приглашение в будущий город-герой Ленинград.
В науку.
В 1930 году по прежнему молодой, но уже именитый и знаменитый Г.А. Ушаков становится заместителем директора знаменитого ленинградского Всесоюзного Арктического института И еще по дороге в Питер, в поезде, знакомится с таким же фанатиком севера геологом Николаем Урванцевым.
После чего буквально в течение года, вместе с все тем же Урванцевым, совершает свою самую великую и знаменитую экспедицию на Северную Землю. С высадкой на берегу, на который никогда не ступала нога советского человека. Еще раз, - два человека просто знакомятся в поезде в Питер, - нет, они друг о друге, безусловно, слышали.
Еще бы.
Мир полярных исследований узок.
Но – так, мельком.
Один – молодой большевик, талантливый путешественник и, как выяснится чуть позже, гениальный администратор. Другой - геолог еще русской императорской академической школы, один из самых, на тот момент времени, геологов молодого СССР.
Лично эти люди знакомы не были. Но мир в те странные годы действительно будто сошел с плаката.
И был удивительно легким на подъем.
Нет, безусловно, - кто из нас в молодости не делал разных глупостей, особенно после почти что знакомств с симпатичными и близкими по духу людьми в поездном в вагоне-ресторане. Всякое бывало, признаться.
Но чтобы вот так вот, - сбежать в количестве четырех человек, из которых только два исследователя (еще в этой головокружительной авантюре участвовали охотник Сергей Журавлев и молоденький радист Василий Ходов), на целых три года на не хоженую никем суровую полярную землю. Обойти ее всю (площадь архипелага около 37 тысяч кв км), на секундочку (!) пешком и на собаках, иногда по пояс в ледяной воде, - и это не фигура речи, - параллельно ни на секунду не прекращая научной деятельности, - это, знаете ли, на мой вкус вообще за гранью человеческих возможностей. Вот, краткие итоги этой блистательной и предельно точно, можно сказать, научно просчитанной авантюры.
Экспедиция доказала, что Северная Земля не остров, а материк.
Были открыты образующие архипелаг острова, которые получили названия Пионер, Комсомолец, Большевик, Октябрьской Революции, Шмидта (ну, да, Георгий Алексеевич был, что называется, истинный большевик, а Урванцеву было, в известной степени, по фиг). Были открыты новые проливы, в том числе пролив Шокальского, что особенно важно сейчас, когда считаются разные варианты маршрутов движения по великому Северному морскому пути. Николаем Николаевичем Урванцевым попутно было открыто и описано колоссальное месторождения оловянных руд. А бывшее название крупнейшего из островов просто стало названием всего архипелага.
Северная Земля.
Еще раз – вчетвером.
Пройдя за два года около 11 тыс. километров, пешком и на собаках (точнее втроем, радист Ходов всегда вынужденно оставался на станции), не считая «радиальных» выходов с целью оборудовать склады продовольствия на пути будущих научных маршрутов, проведя в сложнейших условиях инструментальную съёмку площади в 26 700 км², вынужденно передвигаясь только в период зима/весна, чтоб можно было вести съемку и был твердый лед. Иногда почти сутками по пояс в ледяной воде (что там со сроками гибели от переохлаждения? Этих людей это не касалось), перенося собак (!) и научное оборудование в нартах на руках, чтобы собаки и инструменты не погибли от воды и холода. И вас еще удивляет, почему они, будто сошедшие живыми с героических плакатов, стали и сами живой пропагандой того, что может настоящий русский человек модернистского советского столетия: а Ушаков еще и университетский курс, так к тому времени и не оконченный, не забывал. Но доктором наук все равно стал honoris causa, без защиты и много позже.
Когда слишком уж очевидная стала степень его заслуг.
И еще – эти люди были удивительно, просто плакатно искренни. И Урванцев, и Ушаков вспоминают в своих мемуарах, как они отмечали 7 ноября: с поднятием флага, с салютом из карабинов, даже с маршем мимо знамени в составе троих человек. Четвертый, радист, напомним, оставался на острове в экспедиционном домике.
Поэтому в парадах участия не принимал…
Дальнейшие судьбы наших героев сложились очень по-разному.
Георгий Ушаков уже в 1934 году руководил экспедицией, снимавшей челюскинцев со льдины, а 1935 прокладывал Северный морской путь, возглавив первую Высокоширотную экспедицию Главсевморпути на ледокольном пароходе «Садко». Потом занимался внедрением механизации в арктические проекты, а в 1936 году с нуля создавал Главное управление Гидрометслужбы СССР при СНК СССР. После войны принимал самое активное участие в создании великого Института океанологии при АН СССР. Похоронен, согласно завещанию, на острове Домашний (до сих пор необитаемый архипелаг Северная Земля), урну с прахом великого землепроходца и первооткрывателя его товарищи и ученики доставили туда и замуровали в бетонную пирамиду. Именем Георгия Алексеевича назван остров в Карском море, мысы на островах Врангеля и Нансена, банка Ушакова в Баренцевом море и, даже, горы на Земле Эндерби, в Антарктиде, хоть там он никогда не бывал. Просто великого путешественника и первопроходца, никогда особо не выпячивающего себя на передний план, весьма чтили те, кто дает названия: то есть в профессиональной среде.
А вот Николай Николаевич Урванцев, награжденный вместе с Ушаковым за Северную землю высшей наградой тех лет, Орденом Ленина – сел. И, в общем, откровенно так говоря, - было за что, он не очень сильно и, поговаривают, возражал: великий советский геолог Николай Урванцев был вполне себе конкретным колчаковцем и даже, отчасти, британским шпионом: есть документальные свидетельства, что в 1919 году Николай Урванцев был командирован Колчаком в район Норильска на разведку каменного угля для кораблей Антанты. И именно этой экспедицией в 1920 году на западе полуострова Таймыр в районе реки Норильской было сначала открыто очень богатое месторождение каменного угля, а чуть позже, в 1921 году им же, Урванцевым, было открыто и богатейшее месторождение медно-никелевых руд с высоким содержанием платины: Колчаку с Антантой это, по вполне понятным причинам, не пригодилось.
А, вот, сначала Советской власти, а потом и господину Потанину, - вполне.
Так что, сегодняшний «Норильский никель» и вообще город Норильск – это именно Урванцев. И норильчане это прекрасно помнят: «домик Урванцева» (на фото) там памятник и символ начала городской истории.
Ну, а в 1938 году Николай Николаевич был, как многие тогда, арестован и осуждён на 15 лет исправительных лагерей за «вредительство и участие в контрреволюционной организации». В феврале этот приговор был отменён за отсутствием состава преступления, но уже в августе Н. Н. Урванцев был снова арестован и осуждён на 8 лет: документы об участии в колчаковском движении были, скрывай не скрывай.
Сидел Урванцев, правда, тоже довольно своеобразно: советскую власть можно было назвать чрезмерно жестокой, но во глупой она, чтоб не говорили ее враги, не была никогда: иначе б просто не победила. И потому, справедливо рассудив, что «колчаковцу» Урванцеву с его любимого Таймыра бежать все равно не за чем и некуда, просто отправила его искать на все том же Таймыре секретные урановые руды: злые языки поговаривали, что не осуждения, ни освобождения в 1945 году этот фанатик геологии и севера даже особо и не заметил. Хотя это, разумеется, апокриф, и все было, некоторым образом, не так.
Тем не менее, Ушаков таки был вынужден убрать Урванцева из великой эпопеи исследования Северной Земли. Времена были суровые, да и большевиком Георгий Алексеевич был, что называется, истовым. Даже из мемуаров «По нехоженой земле», с легкой руки Максима Горького расходившихся в тридцатые-сороковые миллионными тиражами, вымарал, хоть это было и совсем не легко.
Что тут можно сказать.
Когда я был уже довольно взрослым молодым человеком и пробовал делать свои первые шаги в журналистике, кто-то из старых геологов (а я из «геологической» семьи, мама, Царствие ей Небесное, один из первых полевых исследователей бухты Тикси побережья Моря Лаптевых) рассказывал в большой компании, как на одно из «северных» совещаний в 50-е, которое проводил Ушаков зашел неторопливо Урванцев. Уже восстановленный во всех своих званиях и чинах, тогда у Сталина с этим было просто.
Не Урванцев первый…
Все замерли.
Два монстра, два айсберга, две неодолимых воли.
Ну, думают, сейчас такое начнется.
Тишина была, фактически, гробовая…
…Деды коротко, хоть и крепко, обнялись.
Смахнули слезу, чтоб никто не видел (хотя все и заметили) и уселись рядом работать: эмоции после, дело прежде всего. А маршрут, который Ушаков намечал, представлял очень серьезный интерес и для геологов.
Поэтому Урванцев и зашел.
Гвозди, говорите, из этих людей делать?!
Ага.
А зачем?
Только драгоценный человеческий материал на какую-то ерунду железную переводить…
И еще, - не стоит, знаете ли, удивляться, отчего советский агитпроп тех лет был так изумительно хорош: в прототипах там тоже были такие персонажи, которых оказаться достойным было честью для любого художника.
Такие уж были люди.
И такие, во всех отношениях удивительные, времена.
Дмитрий Лекух.
Савва Бродский - архитектор книг
Архитектор книжного дела, мастер иллюстрации наших чаяний сокровенных, страхов и снов, гений построения мощных крепостных стен и изящных в бесконечности своей аркад — вкруг текста, запирая его семью таинственными печатями скрытых смыслов и при том — давая читающему и созерцающему полнейшую свободу собственного восприятия, не обременённую назойливым вниманием «майстера».
Довольно ли сказано перед тем, чтобы начать?
Несколько месяцев назад питерское издательство «Речь» допустило «чудовищную ошибку» — выпустило переиздание романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Устрашающий вой либеральной братии поднялся со всех окрестных болот, бывалым спецам от науки зоологии впору бы разузнать — не объявилось ли где многочисленное потомство печально известной собаки...
Греха за издателями нет, они всего лишь продолжили победное шествие самой издаваемой, да-да, если вы не знали, книги в советской истории. Голову на плаху класть за «точность до копейки» не будем, но вот вам общие факты: 536 изданий за период с 1936-го по 1986-ой год общим тиражом в 36 миллионов 416 тысяч экземпляров. Поговаривают (злые языки и нет от них спасенья), что на 1-ое января 1991-го роман был издан на 75-ти языках народов СССР 773 раза и суммарно перевалил за 53 миллиона 854 тысячи экземпляров.
Это такая советская бетонно-титановая пропаганда самой советской на всём свете белом цитаты — ещё более советской просто не существует:
«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать её...»
Издатели, они что — ровно дети малые. Всё-то в облаках кисейных витают. Вот и опять — вздумали переиздать все книги, проиллюстрированные во времена тёмные и мрачные, никак не менее мрачным (но никак не тёмным, отсутствие цвета не есть тьма) Саввой Бродским. И напоролись на айсберг истории. Она, та история, тётка коварная, расчётливая, холодная до жути, и неприветливая — иногда и до смерти.
Савва Бродский той советской истории приходиться названным сыном.
Савва Бродский в ту советскую историю вписан буквами, отлитыми из космических сплавов.
Издана «Как закалялась сталь» (это я про новое время — про старое советское уже сказано) исключительно — полиграфия наивысшего качества - только такая и способна передать всю мощь графики Бродского, он ведь всё больше работал в оттенках чёрного и цвет иной у него — крайняя выразительная степень, оттого и сражает наповал. 45 иллюстраций, страшных, цепляющих за живое. Глаза в глаза смотрят на нас и лица «комсы», и «белые» виселицы, и пулемёт «Максим». И сход рабочих. И сход красноармейцев. На первом титуле, прямо наотмашь — красные «разговоры» — клапаны шинельные внахлёст, что с детства отпечатались в сознании — «Революции солдаты». Помните клапаны? Разные они были, и с окантовками тоже, а засело в голове одно — три полосы огненных посреди груди. Понимаете, как Бродский работал? Один разворот, одна иллюстрация и вы там, в огне Октября, и нет, и не может быть сомнений в его, Октября, правде.
Пропаганда? Да.
Наивысшего из возможных уровня.
Вот и взъярилась либеральная общественность... Почуяла... Книга, как книга, это только на первый взгляд. «Советский хлам макулатурный». С потайным механизмом внутри. Нажал на щеколду, дверка и открылась. Сунул в «садик волшебный» голову, считай, пропал-попался — делай нравственный выбор, дружок.
Важно, что? Важно самим себе говорить правду. И вот она какая — текст Островского силён. Точной, безжалостной очевидностью неистовства тех лет. Вот ты строишь железную дорогу, потому что надо. Потому что нужны и хлеб, и дрова, а подвезти их не на чем. Вот тебе и банды под боком. Вот и смерть от простуд и надрывного труда, вот тебе и шальная бандитская пуля. Читать сейчас такое, как оказаться в потустороннем мире — быть такого не может, однако же происходит и глаз от происходящего не оторвать.
Бродский, это такая большая проблема нынешних времён. В кальку не ложится. В схему не укладывается. «Возвысить нельзя охаять». Знак препинания не поставлен. Потому как на гения замахнуться, дорогого может стоить.
Выжидают.
Помалкивают.
Вернее — подвывают, всё тише.
Вот его «Бабий Яр». Вернее, «Бабий Яр» писателя Анатолия Кузнецова, что мальчишкой пережил оккупацию Киева, да вы и сами знаете — читали. Потом, летом 1969-го рванул из творческой поездки в Лондон — окончательно в Лондон. И двенадцать иллюстраций Бродского «исчезли» до времени вместе с опальным текстом. Который до того «триумфального бегства» разошёлся миллионными тиражами, как и иллюстрации. Советская власть не могла стерпеть такого унижения, в особенности, учитывая, какая страшная тема поднималась в книге. Не могла — от сына своего блудного такого стерпеть. А должна была — поступить по-другому! Поднять на флаг и книгу и те самые рисунки Бродского, от которых и сейчас мороз по коже (один только «безучастный» фриц с гармошкой губной чего стоит — рука тянется к несуществующему пистолету, а и того лучше, к топору...). поднять и сказать: «И так бывает, братья и сёстры. И такие, хоть и всё видели, а уезжают и клевещут на нас. Смотрите, помните, знайте в лицо!»
Затылок фрица, мёртвый, тупой как чугунная болванка, и за ним — лица детей-мучеников, выглядывающих из вагонного проёма... Пепел сожжённых тысяч и тысяч — в руках обезумевшей от горя женщины. Руки в кандалах, рвущие колючую проволоку в день побега 330-ти — лишь пятнадцать из них уцелели... Плачущие женщины, окружившие русского солдата-освободителя и лицо того солдата — полное ярости и тоски от увиденного. И самая главная, корабельного калибра — истерзанные руины Киева и кресты с немецкими касками, уходящие в бесконечность. С теми самыми касками, что и на «безучастном», и на чугунно-тупом — отвоевались, гадины.
Никак нельзя было такое прятать...
Кто бы там и куда бы не сбежал.
А теперь опять к дню сегодняшнему.
«Речь» переиздала «Бабий Яр» с иллюстрациями Бродского в 2019-ом. По привычке кинулся всем, а в особенности молодёжи, советовать немедленно покупать, читать, как ярчайший первоисточник, свидетельство того ужаса что всем нам, ныне живущим, удалось избежать. И тут началось... «Это дестабилизирует психику». «Текст страшный, картинки ещё страшнее!» «Такое, наверно, нельзя держать дома...» «Очень тяжёлая энергетика, приходится после приходить в себя, это не полезно».
Это не полезно. Подумалось: «Какая хорошая пропаганда. Как точно бьёт куда надо, прямо в солнечное сплетение. Когда уже «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского переиздаст «Речь»?! Там такая женщина-комиссар в кожанке с пистолетами, что вся японская манга отдыхает навсегда!!! И пусть лежит на прилавках! И сам куплю!».
Бьёт Бродский куда и чем, помимо авторского текста? Изображением. Бродский прочитывает авторский текст своим собственным алфавитом, будь то Шекспир, Ибсен, Стивенсон, Войнич, Гоголь, Грин, Беляев, Цвейг, Сервантес, или Островский с Вишневским и Васильев с Полевым (а ещё Флобер, Драйзер, Мериме, Мопассан, Гюго...). Прочитывает и преобразует в мыслеобразы. От которых то хорошеет, то плохеет — высокая литература, она не для исключительно услаждения тонких чувств наших создана. Она, для «чтобы проснуться». Иногда — чтобы опознать в себе не самое... ээээ... лучшее из возможного.
Павка Корчагин, осунувшийся, в будёновском богатырском шлеме, с горящими глазами фанатика жизнь готового отдать за идею — вот таков Бродский. Акварелька здесь не потянет. Только суровый стиль. Тот Павка Корчагин, он, что, идиот? На таких воду возят? Нет... Он тот, кто и сейчас, прямо в эти дни, делает невозможное, вопреки, «Отечества ради».
Тут о грустном — Корчагины есть, а вот с Бродскими беда, перевелись (надеюсь, нет) Бродские, как и пропаганда. Потому как пропаганда, это не «взвейся-развейся по Булгакову, это смыслы. Смыслы!!!
«Спартак» Джованьоли.
Снова Савва Бродский.
Попадание — в десятку десятки.
24 полноформатных разворота, 24 окна в ту жизнь, в тот Рим, в те дни войны и «мира». 22-е отдельные иллюстрации к каждой из глав. Обложка — Спартак в ошейнике раба, величественный и живой, словно бог сошедший с небес. Все оттенки чёрного и красный. «Октябрь» и храмовая роспись. Клич погибшей миллионы лет тому назад цивилизации: «Мы были! Будете и вы! А после — всё пройдёт...» Там ещё пророческое письмо в начале романа. Письмо Джузеппе Гарибальди, обращённое к автору «Спартака», Рафаэлло Джованьоли. Есть там и такие слова:
«Вы изваяли Спартака, этого Христа — искупителя рабов, резцом Микеланджело. Я, как раб, получивший свободу, благодарю Вас за это, а также за то глубокое волнение, которое я испытал, читая Ваше произведение...
Пусть же воспрянет дух наших сограждан при воспоминании о великих героях, почивших в нашей родной земле, где больше не будет ни гладиаторов, ни господ».
Проспала либеральная интеллигенция переиздание «Спартака» в иллюстративном прочтении Бродского. Проспала.
Читая такого «Спартака» с такими окнами такой пропаганды, не сможешь, не захочешь остаться безучастным, «в стороне-сторонке». И в этом гениальность Бродского: «Не смей закрывать книгу до тех пор, пока мозг не взорвался и пока ты не считал послание! Не строки, нет! Между строк!»
Как можем мы хаять «Советский проект», если на сегодня и близко не способны подступиться к основам — к умению говорить с людьми и умными текстами и умными изображениями? Немыслимо... Какое-то затмение...
«Дон Кихот».
Саввы Бродского.
40 полноформатных разворотов, портрет Сервантеса (нет никаких слов, как это круто) и больше сотни виньеток к каждой из глав. А что это, тот Дон Кихот, так популярен был в СССР у «красных»? А то это — по духу близок, борец за идею, пусть и вопреки, пусть и в одиночку, почти. Красная Империя умела определить, что важно, а что... На свалку истории.
Помните такой фильм (советская пропаганда, ясное дело) — «Дети Дон Кихота»? Папанов там в главной роли. Про жизнь. Самую обычную жизнь самых обычных людей. Достойных. Людей. По сети мем один гуляет, крохотный диалог двух школьников, сына Дон Кихота-Папанова и его закадычного друга: «А, может, домой пойдём? — Что ты! Там негров угнетают, а ты домой! Пошли!»
Вопросы исчерпаны.
За работу, товарищи.
Бродский был архитектором. Музей Александра Грина в Феодосии — его работа. Как и вся внутренняя морская атмосфера. Бродский умел про настроение, по созвучность автору. Может, и потому, его, Саввы Бродского иллюстрации к Грину, невероятно трогательны, пронзительны и величественны.
Бродский был архитектором. Поначалу. Вот откуда монументальность и объём. Ощущение пространств и бесконечностей. Вот откуда сцена, вот буквально сцена в четверных разворотах (их 12, помимо прочих иллюстраций и портретов героев) к поистине уникальному советскому изданию Шекспира — «Гамлет. Сонеты. Ромео и Джульетта» («Речь» переиздала).
«...Нет, я ничуть не жалею о годах, посвященных архитектуре. Я даже рад, что судьба моя сложилась так, а не иначе. Разумеется, вовсе не обязательно книжному графику проходить школу зодчества, но и бесполезной я ее не считаю. Прежде всего потому, что архитектура воспитывает в художнике потрясающее чувство ответственности за каждую проведенную на бумаге линию, за любое творческое решение.
Как только представишь, что от прихоти твоего карандаша зависят существенные обстоятельства жизни людей, что ты обязан соразмерить свою выдумку с тем, чтобы будущим посетителям или жильцам здания было уютно, так сразу же начинаешь гораздо строже и серьезнее относиться к своему делу. Убежден, что такой подход необходим и в книжной графике...»
Про всё не расскажешь.
Но, даже если после прочтения этой статьи хоть одна книга с иллюстрациями Саввы Бродского окажется у вас на полке, дело можно считать сделанным.
И, да.
«Пер Гюнт» Генрика Ибсена!
Вызывает желание кардинально пересмотреть (под мощным микроскопом) всю свою жизнь — через призму иллюстраций Бродского. Книги, дело такое. Это вам не шутки шутить.
Сергей Цветаев.
Довольно ли сказано перед тем, чтобы начать?
Несколько месяцев назад питерское издательство «Речь» допустило «чудовищную ошибку» — выпустило переиздание романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Устрашающий вой либеральной братии поднялся со всех окрестных болот, бывалым спецам от науки зоологии впору бы разузнать — не объявилось ли где многочисленное потомство печально известной собаки...
Греха за издателями нет, они всего лишь продолжили победное шествие самой издаваемой, да-да, если вы не знали, книги в советской истории. Голову на плаху класть за «точность до копейки» не будем, но вот вам общие факты: 536 изданий за период с 1936-го по 1986-ой год общим тиражом в 36 миллионов 416 тысяч экземпляров. Поговаривают (злые языки и нет от них спасенья), что на 1-ое января 1991-го роман был издан на 75-ти языках народов СССР 773 раза и суммарно перевалил за 53 миллиона 854 тысячи экземпляров.
Это такая советская бетонно-титановая пропаганда самой советской на всём свете белом цитаты — ещё более советской просто не существует:
«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать её...»
Издатели, они что — ровно дети малые. Всё-то в облаках кисейных витают. Вот и опять — вздумали переиздать все книги, проиллюстрированные во времена тёмные и мрачные, никак не менее мрачным (но никак не тёмным, отсутствие цвета не есть тьма) Саввой Бродским. И напоролись на айсберг истории. Она, та история, тётка коварная, расчётливая, холодная до жути, и неприветливая — иногда и до смерти.
Савва Бродский той советской истории приходиться названным сыном.
Савва Бродский в ту советскую историю вписан буквами, отлитыми из космических сплавов.
Издана «Как закалялась сталь» (это я про новое время — про старое советское уже сказано) исключительно — полиграфия наивысшего качества - только такая и способна передать всю мощь графики Бродского, он ведь всё больше работал в оттенках чёрного и цвет иной у него — крайняя выразительная степень, оттого и сражает наповал. 45 иллюстраций, страшных, цепляющих за живое. Глаза в глаза смотрят на нас и лица «комсы», и «белые» виселицы, и пулемёт «Максим». И сход рабочих. И сход красноармейцев. На первом титуле, прямо наотмашь — красные «разговоры» — клапаны шинельные внахлёст, что с детства отпечатались в сознании — «Революции солдаты». Помните клапаны? Разные они были, и с окантовками тоже, а засело в голове одно — три полосы огненных посреди груди. Понимаете, как Бродский работал? Один разворот, одна иллюстрация и вы там, в огне Октября, и нет, и не может быть сомнений в его, Октября, правде.
Пропаганда? Да.
Наивысшего из возможных уровня.
Вот и взъярилась либеральная общественность... Почуяла... Книга, как книга, это только на первый взгляд. «Советский хлам макулатурный». С потайным механизмом внутри. Нажал на щеколду, дверка и открылась. Сунул в «садик волшебный» голову, считай, пропал-попался — делай нравственный выбор, дружок.
Важно, что? Важно самим себе говорить правду. И вот она какая — текст Островского силён. Точной, безжалостной очевидностью неистовства тех лет. Вот ты строишь железную дорогу, потому что надо. Потому что нужны и хлеб, и дрова, а подвезти их не на чем. Вот тебе и банды под боком. Вот и смерть от простуд и надрывного труда, вот тебе и шальная бандитская пуля. Читать сейчас такое, как оказаться в потустороннем мире — быть такого не может, однако же происходит и глаз от происходящего не оторвать.
Бродский, это такая большая проблема нынешних времён. В кальку не ложится. В схему не укладывается. «Возвысить нельзя охаять». Знак препинания не поставлен. Потому как на гения замахнуться, дорогого может стоить.
Выжидают.
Помалкивают.
Вернее — подвывают, всё тише.
Вот его «Бабий Яр». Вернее, «Бабий Яр» писателя Анатолия Кузнецова, что мальчишкой пережил оккупацию Киева, да вы и сами знаете — читали. Потом, летом 1969-го рванул из творческой поездки в Лондон — окончательно в Лондон. И двенадцать иллюстраций Бродского «исчезли» до времени вместе с опальным текстом. Который до того «триумфального бегства» разошёлся миллионными тиражами, как и иллюстрации. Советская власть не могла стерпеть такого унижения, в особенности, учитывая, какая страшная тема поднималась в книге. Не могла — от сына своего блудного такого стерпеть. А должна была — поступить по-другому! Поднять на флаг и книгу и те самые рисунки Бродского, от которых и сейчас мороз по коже (один только «безучастный» фриц с гармошкой губной чего стоит — рука тянется к несуществующему пистолету, а и того лучше, к топору...). поднять и сказать: «И так бывает, братья и сёстры. И такие, хоть и всё видели, а уезжают и клевещут на нас. Смотрите, помните, знайте в лицо!»
Затылок фрица, мёртвый, тупой как чугунная болванка, и за ним — лица детей-мучеников, выглядывающих из вагонного проёма... Пепел сожжённых тысяч и тысяч — в руках обезумевшей от горя женщины. Руки в кандалах, рвущие колючую проволоку в день побега 330-ти — лишь пятнадцать из них уцелели... Плачущие женщины, окружившие русского солдата-освободителя и лицо того солдата — полное ярости и тоски от увиденного. И самая главная, корабельного калибра — истерзанные руины Киева и кресты с немецкими касками, уходящие в бесконечность. С теми самыми касками, что и на «безучастном», и на чугунно-тупом — отвоевались, гадины.
Никак нельзя было такое прятать...
Кто бы там и куда бы не сбежал.
А теперь опять к дню сегодняшнему.
«Речь» переиздала «Бабий Яр» с иллюстрациями Бродского в 2019-ом. По привычке кинулся всем, а в особенности молодёжи, советовать немедленно покупать, читать, как ярчайший первоисточник, свидетельство того ужаса что всем нам, ныне живущим, удалось избежать. И тут началось... «Это дестабилизирует психику». «Текст страшный, картинки ещё страшнее!» «Такое, наверно, нельзя держать дома...» «Очень тяжёлая энергетика, приходится после приходить в себя, это не полезно».
Это не полезно. Подумалось: «Какая хорошая пропаганда. Как точно бьёт куда надо, прямо в солнечное сплетение. Когда уже «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского переиздаст «Речь»?! Там такая женщина-комиссар в кожанке с пистолетами, что вся японская манга отдыхает навсегда!!! И пусть лежит на прилавках! И сам куплю!».
Бьёт Бродский куда и чем, помимо авторского текста? Изображением. Бродский прочитывает авторский текст своим собственным алфавитом, будь то Шекспир, Ибсен, Стивенсон, Войнич, Гоголь, Грин, Беляев, Цвейг, Сервантес, или Островский с Вишневским и Васильев с Полевым (а ещё Флобер, Драйзер, Мериме, Мопассан, Гюго...). Прочитывает и преобразует в мыслеобразы. От которых то хорошеет, то плохеет — высокая литература, она не для исключительно услаждения тонких чувств наших создана. Она, для «чтобы проснуться». Иногда — чтобы опознать в себе не самое... ээээ... лучшее из возможного.
Павка Корчагин, осунувшийся, в будёновском богатырском шлеме, с горящими глазами фанатика жизнь готового отдать за идею — вот таков Бродский. Акварелька здесь не потянет. Только суровый стиль. Тот Павка Корчагин, он, что, идиот? На таких воду возят? Нет... Он тот, кто и сейчас, прямо в эти дни, делает невозможное, вопреки, «Отечества ради».
Тут о грустном — Корчагины есть, а вот с Бродскими беда, перевелись (надеюсь, нет) Бродские, как и пропаганда. Потому как пропаганда, это не «взвейся-развейся по Булгакову, это смыслы. Смыслы!!!
«Спартак» Джованьоли.
Снова Савва Бродский.
Попадание — в десятку десятки.
24 полноформатных разворота, 24 окна в ту жизнь, в тот Рим, в те дни войны и «мира». 22-е отдельные иллюстрации к каждой из глав. Обложка — Спартак в ошейнике раба, величественный и живой, словно бог сошедший с небес. Все оттенки чёрного и красный. «Октябрь» и храмовая роспись. Клич погибшей миллионы лет тому назад цивилизации: «Мы были! Будете и вы! А после — всё пройдёт...» Там ещё пророческое письмо в начале романа. Письмо Джузеппе Гарибальди, обращённое к автору «Спартака», Рафаэлло Джованьоли. Есть там и такие слова:
«Вы изваяли Спартака, этого Христа — искупителя рабов, резцом Микеланджело. Я, как раб, получивший свободу, благодарю Вас за это, а также за то глубокое волнение, которое я испытал, читая Ваше произведение...
Пусть же воспрянет дух наших сограждан при воспоминании о великих героях, почивших в нашей родной земле, где больше не будет ни гладиаторов, ни господ».
Проспала либеральная интеллигенция переиздание «Спартака» в иллюстративном прочтении Бродского. Проспала.
Читая такого «Спартака» с такими окнами такой пропаганды, не сможешь, не захочешь остаться безучастным, «в стороне-сторонке». И в этом гениальность Бродского: «Не смей закрывать книгу до тех пор, пока мозг не взорвался и пока ты не считал послание! Не строки, нет! Между строк!»
Как можем мы хаять «Советский проект», если на сегодня и близко не способны подступиться к основам — к умению говорить с людьми и умными текстами и умными изображениями? Немыслимо... Какое-то затмение...
«Дон Кихот».
Саввы Бродского.
40 полноформатных разворотов, портрет Сервантеса (нет никаких слов, как это круто) и больше сотни виньеток к каждой из глав. А что это, тот Дон Кихот, так популярен был в СССР у «красных»? А то это — по духу близок, борец за идею, пусть и вопреки, пусть и в одиночку, почти. Красная Империя умела определить, что важно, а что... На свалку истории.
Помните такой фильм (советская пропаганда, ясное дело) — «Дети Дон Кихота»? Папанов там в главной роли. Про жизнь. Самую обычную жизнь самых обычных людей. Достойных. Людей. По сети мем один гуляет, крохотный диалог двух школьников, сына Дон Кихота-Папанова и его закадычного друга: «А, может, домой пойдём? — Что ты! Там негров угнетают, а ты домой! Пошли!»
Вопросы исчерпаны.
За работу, товарищи.
Бродский был архитектором. Музей Александра Грина в Феодосии — его работа. Как и вся внутренняя морская атмосфера. Бродский умел про настроение, по созвучность автору. Может, и потому, его, Саввы Бродского иллюстрации к Грину, невероятно трогательны, пронзительны и величественны.
Бродский был архитектором. Поначалу. Вот откуда монументальность и объём. Ощущение пространств и бесконечностей. Вот откуда сцена, вот буквально сцена в четверных разворотах (их 12, помимо прочих иллюстраций и портретов героев) к поистине уникальному советскому изданию Шекспира — «Гамлет. Сонеты. Ромео и Джульетта» («Речь» переиздала).
«...Нет, я ничуть не жалею о годах, посвященных архитектуре. Я даже рад, что судьба моя сложилась так, а не иначе. Разумеется, вовсе не обязательно книжному графику проходить школу зодчества, но и бесполезной я ее не считаю. Прежде всего потому, что архитектура воспитывает в художнике потрясающее чувство ответственности за каждую проведенную на бумаге линию, за любое творческое решение.
Как только представишь, что от прихоти твоего карандаша зависят существенные обстоятельства жизни людей, что ты обязан соразмерить свою выдумку с тем, чтобы будущим посетителям или жильцам здания было уютно, так сразу же начинаешь гораздо строже и серьезнее относиться к своему делу. Убежден, что такой подход необходим и в книжной графике...»
Про всё не расскажешь.
Но, даже если после прочтения этой статьи хоть одна книга с иллюстрациями Саввы Бродского окажется у вас на полке, дело можно считать сделанным.
И, да.
«Пер Гюнт» Генрика Ибсена!
Вызывает желание кардинально пересмотреть (под мощным микроскопом) всю свою жизнь — через призму иллюстраций Бродского. Книги, дело такое. Это вам не шутки шутить.
Сергей Цветаев.
За что боролись ..
«За что борется ЛЕФ?», «В кого вгрызается ЛЕФ?», «Кого предостерегает ЛЕФ?». Представьте себе, что вы держите в руках первый выпуск журнала об искусстве, но открыв его, вы будто оказались на поле боевых действий. Вместо призывов к созерцанию и эстетическому наслаждению — активные, динамичные слоганы, программные положения и манифесты. Здесь нашли место отказ от искусства прошлого, особое внимание к формотворчеству — соцзаказ, «литература факта», утилитарность и агитационно-производственное искусство. Вместо Бенуа, Бакста, Дягилева, Репина, Васнецова, Серова и всякого «Мира искусства» - Н. Асеев, Б. Арватов, О.Брик, А. Крученых, Б. Кушнер, С. Третьяков, Б. Пастернак, В. Каменский, А. Родченко, В. Степанова, С. Эйзенштейн, Д. Вертов, Я.Чернихов, В.Шкловский, Г.Винокур. Забудьте про «жаждущее красоты поколение», в первом же номере журнала товарищ Третьяков требовал противопоставить «бытоотобразительству — агитвоздействие; лирике — энергическую словообработку; психологизму беллетристики — авантюрную изобретательную новеллу; чистому искусству — газетный фельетон, агитку; декларации — ораторскую трибуну; мещанской драме—трагедию и фарс; переживаниям — производственные движения».
Уже первым номером в марте 1923 года Левый Фронт Искусств вызвал на себя такой поток критики, в том числе от «Известий» и «Правды», что третий номер был полностью посвящен ответному бою с использованием специальной техники — речевой агрессии. Организации ЛЕФа предшествовали постоянные попытки в постреволюционной среде «собрать воедино левые силы… объединить фронт для взрыва старья, для драки за охват новой культуры» (За что борется Леф? - №1, 1923). Это были и АСИС (Ассоциация социалистического искусства, 1918), Летучая федерация футуристов (1918), ИМО (Искусство молодых, 1919), комфут (коммунисты-футуристы, 1919-21), МАФ (Московская, она же Международная ассоциация футуристов, 1922). Владимир Маяковский, который пять лет активно участвовал во всех подобных мероприятиях, решил обратиться в Агитотдел ЦК РКП(б) за разрешением на издание журнала, цели которого «способствовать нахождению коммунистического пути для всех родов искусства; пересмотреть идеологию и практику так называемому левого искусства, отбросив от него индивидуалистические кривлянья и развивая его ценные коммунистические стороны… служить авангардом для искусства российского и мирового». Он же стал ответственным редактором, а коллектив практически состоял из футуристов. «Люди работали вместе и не представляли, что отдельные искусства изолированы друг от друга спецификой способа осуществления», писал Виктор Шкловский.
Штаб-квартира «Лефа» находилась на втором этаже, в доме, где была булочная, на углу Водопьяного переулка и Мясницкой, напротив Почтамта. Это была московская квартира Осипа Максимовича и Лили Юрьевны Брик. Здесь не развенчивали, а «развинчивали искусство, чтобы посмотреть как оно сделано, чтобы потом сделать другое» Н. Асеев, С. Третьяков, молодой Б. Пастернак, А. Крученых, В. Каменский, П. Незнамов. Многие другие то прибивались к «Лефу», то уходили на месяц или год. Постоянно бывали Б. Арватов, Н. Чужак, Б. Кушнер, А. Лавинский, В. Степанов, Р. Якобсон, Г. Винокур, Эсфирь Шуб, реже — Л. Кулешов, который предпочитал свой коллектив, Андрей Буров, Евгений Поливанов и много молодежи, к которой было особое внимание. На страницах «ЛЕФа» часто появлялись работы студентов ВХУТЕМАСа, рабочих поэтов. По словам В.Шкловского - «Мы надеялись создать научную систему, а не хаотическое накопление фактов и личных мнений, считали себя воспитателями литературной пролетарской молодежи и строителями новой жизни.» В крохотной статье «Формальный метод», говоря про Опояз, в 1-м номере «Лефа» (1923) Осип Брик писал: «Поэт — мастер своего дела. И только. Но чтобы быть хорошим мастером, надо знать потребности тех, на кого работаешь, надо жить с ними одной жизнью. Иначе работа не пойдет, не пригодится». Слишком много в ЛЕФе было поэтов, зато если проза, то Бабель (потому что «Леф» не идет по линии трафаретной критики, — напечатал самые лучшие рассказы Бабеля — «Соль», «Смерть Долгушова». - В.В. Маяковский) Поэты писали, что поэзия больше не нужна, а нужна для оформления жизни, в итоге в январе 1927 года, когда ЛЕФ был переименован в «Новый ЛЕФ», в предисловии отмечалась «разрозненность работников, отсутствие общего, спрессованного журналом голоса».
За двести лет до этого Крылов написал про трудности, возникающие при попытке собрать в оркестр разношерстных зверей. ЛЕФовцы, отменив поэтический мир Крылова, как показало время, не отменили проблемы. Вначале под руководством Маяковского, а с января 1928 — Третьякова журнал высказывался против лозунгов Российской Ассоциаа Пролетарских Писателей «назад к классикам», к «психоложеству» и «живому человеку». Маяковский понимал, что лефовские принципы превращаются в догму, которая служит узкой группе людей, на что указывал и Вячеслав Полонский в статье «Леф или блеф?» (Известия. 1927. 25 и 27 февраля). Выступая с докладом «Левей Лефа» в сентябре 1928, Маяковский заявил о выходе из ЛЕФа, тем самым прекратив его существование. Спустя год он попытался возродить его вначале как редакцию альманаха «РЕФ» (Революционный фронт искусств), затем как организацию: «Из всей левизны мы берем только ту, которая революционна». Однако деятельность РЕФа была непродолжительной. В осуществление лозунга консолидации сил в литературе Маяковский и Асеев в феврале 1930 вступили в РАПП, что привело к окончательному распаду группы. Всего у «ЛЕФа» вышло 7 номеров, у еженедельного «Нового ЛЕФа» - 22.
Еще в 1923 году Маяковский в заявлении о основании журнала в ЦК так обозначил список авторов "ЛЕФа": «Практика: Маяковский, Асеев, Третьяков, Пастернак, Крученых, Незнамов, Каменский». Вспомним же избранных из этой великолепной семерки.
Пётр Васильевич Незнамов (наст. фамилия Лежанкин) (1889-1941) - поэт, родился в Нерчинском заводе, Забайкальская область, изначально входил в дальневосточную литературную группу "Творчество", затем, после переезда почти всей группы в 1922 г. в Москву, вошел в ЛЕФ и стал секретарем журнала. По словам Н.Асеева Незнамов относился"к числу безраздельнейших и бескорыстнейших друзей" В.В.Маяковского. И сам Маяковский высоко ценил Петра Васильевича как поэта и надежного товарища. Тихий, скромный, необычайно требовательный к поэтическому слову, Пётр Незнамов издал за всю жизнь три тонкие книжки своих стихов, работал в Литературной газете, стал автором воспоминаний о Эдуарде Багрицком и Николае Асееве. Участник Первой мировой войны, ушел в ряды московских ополченцев в 1941 году и погиб в бою под Дорогобужем, Смоленская область. Николай Асеев писал: «Если пожелать представить себе духовный, да, пожалуй, и физический облик этого прелестного человека, стоит вспомнить офицера Тушина из “Войны и мира”. Та же скромность, то же воодушевление делаемым делом, то же упрямство или упорство в том, в чем убежден делающий. Когда началась Великая Отечественная война, Незнамов очень волновался: возьмут ли его в ополчение?
Волновался — а вдруг не возьмут, памятуя службу в офицерских чинах дореволюционной эпохи. И каково же было его торжество, когда, войдя ко мне в июле сорок первого года, он, не скрывая радостной усмешки, воскликнул с порога:
— А меня записали.
— Куда записали?
— В ополчение, я записан в ополченцы!
— Да что вам там делать? Ведь за вами еще санитара нужно приставить, с вашей контузией!
— Ну нет, ничего, там ведь все время на воздухе.
— Да кто вас записал, нужно сейчас же позвонить, сообщить, что вы беспомощны в походе!
— Нет, нет, ни в коем случае! Я так рад, что меня приняли, я боялся, что анкета подведет.
И ничем нельзя было его уговорить заявить о своем плохом здоровье, о беззубости.
“Что же вы есть будете?” — “А что все, то и я: кашу, кулеш”.
Ну, недолго он ел эту кашу. В скором времени часть ополченцев попала в кольцо окружения, и Петр Васильевич Незнамов, тихий упрямец, чистейший человек советской совести, хороший поэт и достойный соратник Владимира Владимировича Маяковского, был уничтожен гитлеровцами...»
«Этот может: хватка у него моя» - писал о Николае Асееве Маяковский, тот же вспоминал: « Со времени встречи с ним изменилась вся моя судьба. Он стал одним из немногих самых близких мне людей». В военной части, куда призвали уроженца Льгова Николая Асеева (настоящая фамилия Ассеев) в 1915 году, Николай устраивал чтения стихов и был посажен под арест за попытку поставить спектакль по рассказу Льва Толстого, туберкулез и революция освободили «рафинированного интеллигента» от «костюма каторжника — … рядового 34 запасного полка». В 1917 году Асеев с женой едут во Владивосток, где он начинает издавать в газете стихи футуристов, в том числе Маяковского, который лично ответил будущему соратнику о своем восхищении поэтическим сборником Асеева «Бомба». В 1922 году Луначарский возвращает Асеева в Москву. «Сейчас следует учиться поэзии у станка и комбайна» - писал один из основателей «ЛЕФа». В те годы Маяковскйи и Асеев были неразлучны, что послужило поводом для дружеского шаржа от Кукрыниксов: Владимир — в виде созвездия Большой медведицы, Николай - Малой. Алексей Крученых писал: «Маяковский служит стихом, он служащий. А Коля — служит стиху. Он — импульс, иголка, звёздочка, чистое золото». После смерти Маяковского Асеев много писал о друге, в 1940 году издал поэму «Маяковский начинается», за которую получил Сталинскую премию. «Мы говорили; вот, если запретить писать стихи? <…> Нельзя никак — просто стихи будут исключены из жизни общества. Что будут делать поэты? <…> Асеев перестанет жить» - Варлам Шаламов
Сергей Михайлович Третьяков (1892–1937) – поэт, драматург, переводчик и теоретик левого искусства родился в Гольдингене, Курляндская губернии Российской империи. Еще в студенчестве сблизизлся с эгофутуристами Москвы, где учился в Университете, но подготовленную тогда книгу стихов «Железная пауза» издал только в 1919 во Владивостоке, куда вынужден был уехать. Там во время Гражданской войны вместе с Насеевым и другими поэтами, близкими к футуризму, входит в кружок журнала «Творчество», осознает себя революционным поэтом. В начале 20-х возвращается в Москву, активно включается в практику экспериментального «коммунистического» искусства. В первой половине 20-х работал вместе с С. Эйзенштейном в театре Пролеткульта и с Вс. Мейерхольдом в его театре, получил шумную известность как драматург (пьесы «Рычи, Китай!», «Противогазы» и др.). Затем перешел на прозу – романы и очерки о социалистическом строительстве. В 1923 году Третьяков сближается с группой Маяковского, становится участником ЛЕФа (Левый фронт искусств), членом редакции журналов «Леф» и «Новый Леф», одним из теоретиков производственного искусства и литературы факта. Редактировал журнал «Новый Леф» после ухода Маяковского (пять последних номеров за 1928 год)
Борис Пастернак не верил, что кто-либо из группы на самом деле хотел уничтожить дореволюционное искусство, за одним исключением: "Единственным последовательным и честным человеком в этой группе отрицателей был Сергей Третьяков, который довел свое отрицание до естественного завершения. Подобно Платону, Третьяков считал, что в молодом социалистическом государстве нет места искусству»
Сергей Третьяков является автором Непорочности, - пародии на создание комсомола с использованием темы Рождества Христова. Ученики Мейерхольда гастролировали по молодежным и рабочим клубам, ставя этот спектакль.
10 сентября 1937 года Военная коллегия Верховного суда признала его виновным, приговорив к высшей мере по обвинению в шпионаже. В этот же день приговор был приведен в исполнение. Третьякову было 45 лет. На протяжении многих лет судебные органы выдавали родным справки с неправильной датой смерти Третьякова — 1939 год. И только в 1990-е годы была установлена точная дата его гибели, хотя реабилитирован он был в 1956 году. «Обвинение основано на показаниях С. Третьякова, данных на предварительном следствии и в суде. Эти показания в процессе следствия не проверялись ˂…˃ Объективных доказательств виновности в деле нет», — говорится в справке о реабилитации.
Оцифрованные в наше время номера журналов «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ» могут дать современному человеку и самому задуматься над вопросом, поставленным почти сто лет назад Вячеславом Поклонским: так ЛЕФ или все-таки БЛЕФ. И возможно ли построение нового искусства на критике и обломках разваленной же самими классической формы видения мира.
Уже первым номером в марте 1923 года Левый Фронт Искусств вызвал на себя такой поток критики, в том числе от «Известий» и «Правды», что третий номер был полностью посвящен ответному бою с использованием специальной техники — речевой агрессии. Организации ЛЕФа предшествовали постоянные попытки в постреволюционной среде «собрать воедино левые силы… объединить фронт для взрыва старья, для драки за охват новой культуры» (За что борется Леф? - №1, 1923). Это были и АСИС (Ассоциация социалистического искусства, 1918), Летучая федерация футуристов (1918), ИМО (Искусство молодых, 1919), комфут (коммунисты-футуристы, 1919-21), МАФ (Московская, она же Международная ассоциация футуристов, 1922). Владимир Маяковский, который пять лет активно участвовал во всех подобных мероприятиях, решил обратиться в Агитотдел ЦК РКП(б) за разрешением на издание журнала, цели которого «способствовать нахождению коммунистического пути для всех родов искусства; пересмотреть идеологию и практику так называемому левого искусства, отбросив от него индивидуалистические кривлянья и развивая его ценные коммунистические стороны… служить авангардом для искусства российского и мирового». Он же стал ответственным редактором, а коллектив практически состоял из футуристов. «Люди работали вместе и не представляли, что отдельные искусства изолированы друг от друга спецификой способа осуществления», писал Виктор Шкловский.
Штаб-квартира «Лефа» находилась на втором этаже, в доме, где была булочная, на углу Водопьяного переулка и Мясницкой, напротив Почтамта. Это была московская квартира Осипа Максимовича и Лили Юрьевны Брик. Здесь не развенчивали, а «развинчивали искусство, чтобы посмотреть как оно сделано, чтобы потом сделать другое» Н. Асеев, С. Третьяков, молодой Б. Пастернак, А. Крученых, В. Каменский, П. Незнамов. Многие другие то прибивались к «Лефу», то уходили на месяц или год. Постоянно бывали Б. Арватов, Н. Чужак, Б. Кушнер, А. Лавинский, В. Степанов, Р. Якобсон, Г. Винокур, Эсфирь Шуб, реже — Л. Кулешов, который предпочитал свой коллектив, Андрей Буров, Евгений Поливанов и много молодежи, к которой было особое внимание. На страницах «ЛЕФа» часто появлялись работы студентов ВХУТЕМАСа, рабочих поэтов. По словам В.Шкловского - «Мы надеялись создать научную систему, а не хаотическое накопление фактов и личных мнений, считали себя воспитателями литературной пролетарской молодежи и строителями новой жизни.» В крохотной статье «Формальный метод», говоря про Опояз, в 1-м номере «Лефа» (1923) Осип Брик писал: «Поэт — мастер своего дела. И только. Но чтобы быть хорошим мастером, надо знать потребности тех, на кого работаешь, надо жить с ними одной жизнью. Иначе работа не пойдет, не пригодится». Слишком много в ЛЕФе было поэтов, зато если проза, то Бабель (потому что «Леф» не идет по линии трафаретной критики, — напечатал самые лучшие рассказы Бабеля — «Соль», «Смерть Долгушова». - В.В. Маяковский) Поэты писали, что поэзия больше не нужна, а нужна для оформления жизни, в итоге в январе 1927 года, когда ЛЕФ был переименован в «Новый ЛЕФ», в предисловии отмечалась «разрозненность работников, отсутствие общего, спрессованного журналом голоса».
За двести лет до этого Крылов написал про трудности, возникающие при попытке собрать в оркестр разношерстных зверей. ЛЕФовцы, отменив поэтический мир Крылова, как показало время, не отменили проблемы. Вначале под руководством Маяковского, а с января 1928 — Третьякова журнал высказывался против лозунгов Российской Ассоциаа Пролетарских Писателей «назад к классикам», к «психоложеству» и «живому человеку». Маяковский понимал, что лефовские принципы превращаются в догму, которая служит узкой группе людей, на что указывал и Вячеслав Полонский в статье «Леф или блеф?» (Известия. 1927. 25 и 27 февраля). Выступая с докладом «Левей Лефа» в сентябре 1928, Маяковский заявил о выходе из ЛЕФа, тем самым прекратив его существование. Спустя год он попытался возродить его вначале как редакцию альманаха «РЕФ» (Революционный фронт искусств), затем как организацию: «Из всей левизны мы берем только ту, которая революционна». Однако деятельность РЕФа была непродолжительной. В осуществление лозунга консолидации сил в литературе Маяковский и Асеев в феврале 1930 вступили в РАПП, что привело к окончательному распаду группы. Всего у «ЛЕФа» вышло 7 номеров, у еженедельного «Нового ЛЕФа» - 22.
Еще в 1923 году Маяковский в заявлении о основании журнала в ЦК так обозначил список авторов "ЛЕФа": «Практика: Маяковский, Асеев, Третьяков, Пастернак, Крученых, Незнамов, Каменский». Вспомним же избранных из этой великолепной семерки.
Пётр Васильевич Незнамов (наст. фамилия Лежанкин) (1889-1941) - поэт, родился в Нерчинском заводе, Забайкальская область, изначально входил в дальневосточную литературную группу "Творчество", затем, после переезда почти всей группы в 1922 г. в Москву, вошел в ЛЕФ и стал секретарем журнала. По словам Н.Асеева Незнамов относился"к числу безраздельнейших и бескорыстнейших друзей" В.В.Маяковского. И сам Маяковский высоко ценил Петра Васильевича как поэта и надежного товарища. Тихий, скромный, необычайно требовательный к поэтическому слову, Пётр Незнамов издал за всю жизнь три тонкие книжки своих стихов, работал в Литературной газете, стал автором воспоминаний о Эдуарде Багрицком и Николае Асееве. Участник Первой мировой войны, ушел в ряды московских ополченцев в 1941 году и погиб в бою под Дорогобужем, Смоленская область. Николай Асеев писал: «Если пожелать представить себе духовный, да, пожалуй, и физический облик этого прелестного человека, стоит вспомнить офицера Тушина из “Войны и мира”. Та же скромность, то же воодушевление делаемым делом, то же упрямство или упорство в том, в чем убежден делающий. Когда началась Великая Отечественная война, Незнамов очень волновался: возьмут ли его в ополчение?
Волновался — а вдруг не возьмут, памятуя службу в офицерских чинах дореволюционной эпохи. И каково же было его торжество, когда, войдя ко мне в июле сорок первого года, он, не скрывая радостной усмешки, воскликнул с порога:
— А меня записали.
— Куда записали?
— В ополчение, я записан в ополченцы!
— Да что вам там делать? Ведь за вами еще санитара нужно приставить, с вашей контузией!
— Ну нет, ничего, там ведь все время на воздухе.
— Да кто вас записал, нужно сейчас же позвонить, сообщить, что вы беспомощны в походе!
— Нет, нет, ни в коем случае! Я так рад, что меня приняли, я боялся, что анкета подведет.
И ничем нельзя было его уговорить заявить о своем плохом здоровье, о беззубости.
“Что же вы есть будете?” — “А что все, то и я: кашу, кулеш”.
Ну, недолго он ел эту кашу. В скором времени часть ополченцев попала в кольцо окружения, и Петр Васильевич Незнамов, тихий упрямец, чистейший человек советской совести, хороший поэт и достойный соратник Владимира Владимировича Маяковского, был уничтожен гитлеровцами...»
«Этот может: хватка у него моя» - писал о Николае Асееве Маяковский, тот же вспоминал: « Со времени встречи с ним изменилась вся моя судьба. Он стал одним из немногих самых близких мне людей». В военной части, куда призвали уроженца Льгова Николая Асеева (настоящая фамилия Ассеев) в 1915 году, Николай устраивал чтения стихов и был посажен под арест за попытку поставить спектакль по рассказу Льва Толстого, туберкулез и революция освободили «рафинированного интеллигента» от «костюма каторжника — … рядового 34 запасного полка». В 1917 году Асеев с женой едут во Владивосток, где он начинает издавать в газете стихи футуристов, в том числе Маяковского, который лично ответил будущему соратнику о своем восхищении поэтическим сборником Асеева «Бомба». В 1922 году Луначарский возвращает Асеева в Москву. «Сейчас следует учиться поэзии у станка и комбайна» - писал один из основателей «ЛЕФа». В те годы Маяковскйи и Асеев были неразлучны, что послужило поводом для дружеского шаржа от Кукрыниксов: Владимир — в виде созвездия Большой медведицы, Николай - Малой. Алексей Крученых писал: «Маяковский служит стихом, он служащий. А Коля — служит стиху. Он — импульс, иголка, звёздочка, чистое золото». После смерти Маяковского Асеев много писал о друге, в 1940 году издал поэму «Маяковский начинается», за которую получил Сталинскую премию. «Мы говорили; вот, если запретить писать стихи? <…> Нельзя никак — просто стихи будут исключены из жизни общества. Что будут делать поэты? <…> Асеев перестанет жить» - Варлам Шаламов
Сергей Михайлович Третьяков (1892–1937) – поэт, драматург, переводчик и теоретик левого искусства родился в Гольдингене, Курляндская губернии Российской империи. Еще в студенчестве сблизизлся с эгофутуристами Москвы, где учился в Университете, но подготовленную тогда книгу стихов «Железная пауза» издал только в 1919 во Владивостоке, куда вынужден был уехать. Там во время Гражданской войны вместе с Насеевым и другими поэтами, близкими к футуризму, входит в кружок журнала «Творчество», осознает себя революционным поэтом. В начале 20-х возвращается в Москву, активно включается в практику экспериментального «коммунистического» искусства. В первой половине 20-х работал вместе с С. Эйзенштейном в театре Пролеткульта и с Вс. Мейерхольдом в его театре, получил шумную известность как драматург (пьесы «Рычи, Китай!», «Противогазы» и др.). Затем перешел на прозу – романы и очерки о социалистическом строительстве. В 1923 году Третьяков сближается с группой Маяковского, становится участником ЛЕФа (Левый фронт искусств), членом редакции журналов «Леф» и «Новый Леф», одним из теоретиков производственного искусства и литературы факта. Редактировал журнал «Новый Леф» после ухода Маяковского (пять последних номеров за 1928 год)
Борис Пастернак не верил, что кто-либо из группы на самом деле хотел уничтожить дореволюционное искусство, за одним исключением: "Единственным последовательным и честным человеком в этой группе отрицателей был Сергей Третьяков, который довел свое отрицание до естественного завершения. Подобно Платону, Третьяков считал, что в молодом социалистическом государстве нет места искусству»
Сергей Третьяков является автором Непорочности, - пародии на создание комсомола с использованием темы Рождества Христова. Ученики Мейерхольда гастролировали по молодежным и рабочим клубам, ставя этот спектакль.
10 сентября 1937 года Военная коллегия Верховного суда признала его виновным, приговорив к высшей мере по обвинению в шпионаже. В этот же день приговор был приведен в исполнение. Третьякову было 45 лет. На протяжении многих лет судебные органы выдавали родным справки с неправильной датой смерти Третьякова — 1939 год. И только в 1990-е годы была установлена точная дата его гибели, хотя реабилитирован он был в 1956 году. «Обвинение основано на показаниях С. Третьякова, данных на предварительном следствии и в суде. Эти показания в процессе следствия не проверялись ˂…˃ Объективных доказательств виновности в деле нет», — говорится в справке о реабилитации.
Оцифрованные в наше время номера журналов «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ» могут дать современному человеку и самому задуматься над вопросом, поставленным почти сто лет назад Вячеславом Поклонским: так ЛЕФ или все-таки БЛЕФ. И возможно ли построение нового искусства на критике и обломках разваленной же самими классической формы видения мира.
Боевой карандаш, от оттепели до конца
Никита Сергеевич сказал «надо», и художники ответили «есть»! В 1956-ом. Когда «Боевой карандаш» третий раз был призван на фронт агитпропаганды. Виной тому, сколь это ни странно, был вовсе не Хрущёв. Виной тому был действующий 34-ый (1953-61) президент США, генерал армии Дэвид Дуайт Эйзенхауэр.
Однако, давайте уже по порядку.
Мы здесь про пропаганду, вот и начнём с «плакатиков».
Это так пренебрежительно отзывалась о них, о советских агитационных плакатах, творческая советская интеллигенция. Что ж... По прошествии времени приходиться признать — судьба не лишена иронии. «Плакатики», все как один, не только не утратили актуальности, но ещё и прилично прибавили в политическом, историческом весе. При условии, между тем, некоторой, весьма присущей поздней Советской власти травоядности.
«Какая ещё травоядность!»
«У демонов краснопузых!»
Поспокойнее, граждане. Поспокойнее. Сейчас разберёмся. А то, вдруг — ошибочка какая вышла. И «плакатики» те — сущая ерунда на верчёной палочке. На палочке. Да. Ерунда. Очёчки розовые снимаем, пожалуйста, чтобы «плакатики» получше рассмотреть.
Жозеф Ефимовский, график, карикатурист, плакатист, ученик Осипа Авсияна (его работы хранятся в Симферопольском художественном музее), 27 лет непрерывного, как раньше говорили, стажа в послевоенном «Боевом карандаше». На его личном счету 600 агитплакатов. Был бы лётчик, весь бы самолёт в звёздах. Он, кстати, вот как отзывался о «Боевом карандаше»: «Всё хорошо придуманное и сработанное принималось и печаталось». Вот и проверим: «Где бы еще поджечь?..» (1968) — такую харю увидеть, склонившуюся над глобусом, с ядерно-ракетным тлеющим факелом в ручище, не приведи господи, особенно, если к ночи. Что он там рассматривает, этот стрёмный чел в форме с лейбаком «US»? Полюбопытствуем. Вьетнам — уже горит, прямо таки полыхает. Африка, Ближний Восток — приготовиться. Индия — на разминочку, на разминочку, нечего под баньянами рассиживаться!
Что тут сказать?
«Плакатик», судя по всему глубоко лживый. Ведь так? Ведь повсюду, где с небес всматривается в жизнь людскую этот стрёмный чел, царят «мир, благополучие и справедливость». Автор, кажется, ничего не перепутал? Помниться, в малоизвестном городке Асунсьон, где-то в Латинской Америке, лет двадцать верных висел себе никем не срываемый лозунг: «Стресснер — это мир, благополучие и справедливость!» Тоже, тот ещё «плакатик». Только другой...
Разобрались, верно? Перед нами образец «вредоносной коммунистической пропаганды». Идём дальше.
Владимир Гальба, известнейший советский график-сатирик, выдающийся иллюстратор и мастер политической карикатуры, а ещё замечательный анималист и личный враг Гитлера (об этом отдельно). Уроженец Харькова, с двух лет и до конца жизни — ленинградец, пережил блокаду и в общей сложности проработал в «Боевом карандаше» без малого 45 лет. В 1942-ом буквально, на линии фронта, доказал что «сатира убивает», нарисовав крайне неприличные портреты «фюрера немецкой нации» — в кителе, но без брюк, в состоянии возбуждения в 1941-ом и в состоянии убывания того возбуждения в 1942-ом. Портреты были выполнены на огромных, сшитых простынях, метра три на четыре каждый. И ночью закреплены на уцелевших столбах фрицам на обозрение. Фрицы по утру открыли по простыням шквальный огонь, кинулись их сдирать штурмовой командой, наши снайперы их и встретили и проводили. До места тихого, покойного.
Примерно так становятся «личным врагом Гитлера». Гальбу полагалось по мысли Геббельса «повесить на фонарном столбе, как только доблестные немецкие войска войдут в большевистский Ленинград!» К слову, пустоголовая википедия пишет (омерзительно так, буковками) про Владимира Гальбу: «В российских текстах получивший статус «личного врага Адольфа Гитлера». Сволочи. Что с них взять. А взять бы надо, и полной мерой.
Ну, так хорошо.
Мы же разбираемся с «красными агитками».
Давайте посмотрим, что это за такой известнейший «плакатик» Гальбы.
О! «Прожорливая НАТОчка» (1976): «Монополисты и магнаты вовсю «подкармливают» НАТО... Неужто в счет своих доходов? Да нет, за счет своих народов!» Совершенно отвратительного вида существо возраста младенца, в пинетках, с ядерной соской на животе и оголовком авиабомбы заместо волосяного пучка, натурально жрёт пастью ненасытной с ложечки протянутой золотые монеты... На руке кормящей, вернее, на манжете, трогательная, небезызвестная несчастному миру, черепушка с фуражечек «электрических войск».
Насквозь лживый плакат.
Просто пробу ставить негде!
Особенно — на «младенце» и «кормильце».
Вот же коммунисты треклятые...
Злобные «карандашисты»...
Впрочем, дадим ещё один шанс. Гуманизм и всё такое. Этакое. Смотрим, скрипя зубами.
Фёдор Нелюбин, график, иллюстратор, плакатист. В «Боевом карандаше» оттрубил 30 с лихом дет. Выходит, продукт системы — бдительность, бдительность и ещё раз бдительность — сейчас всех нас будут вводить в заблуждение. За ручку... «Ракетоносец» (1980) — «Подобный товар капиталу в угоду ложится на плечи простому народу. Бюджет пожирая, в копеечку станет — кто руки погреет, кто ноги протянет». Дивно. Типичнейший американский реднек-трудяга-пахарь прёт на своей спине ворох стратегических, баллистических ракет, прёт, на ходу загибаясь, а впереди него гордо вышагивают генерал с капиталистом. Мда... Просто стыд какой-то... Бессовестный поклёп на западных людей... «Авианосец» (1981) — «Дядя Сэм в чужие страны нос сует свой постоянно...». И дядя Сэм в цилиндре со «звёздно-полосатым», и взлетающие с его авианесущего носа самолётики, всё это как-то пошло, правда? Ну откуда у него такой нос? И откуда на носу самолётики? Ложь. Чистейшая большевистская агитика. И, кстати!!! Тот реднек, он ни в жизнь столько ракет зараз не поднимет. Это британские учёные доказали.
Ууууу!!!!!
Ненавистные краснопузые...
Ещё смотреть??? Ну, если только один! Два... Ой!.. Это тот неприятный Ефимовский, с которого всё началось... (1986): «Над нами нависла угроза со стороны Никарагуа!» — «Уж вот кому кричать-то нет резону. Ведь знаю все — и взрослые и дети: никто не угрожает Вашингтону. Он сам — угроза миру и планете». Опять дядя Сэм, милый, милый дядя Сэм, изображён каким-то инфернальным господином, тычущим пальцем в объёмную карту c крохотной Никарагуа. И зачем она ему? Он же всегда тыкал пальцем в такую, там, которая побольше, вся красная, что ли?..
Стоп!!!
Это опечатка!!!
Этого всего не может быть!!!
Мы начали, помнится, с Хрущёва и Эйзенхауэра, вот и продолжим, в том же духе. Чтобы жизнь протеиновым батончиком не казалась, и чтобы последние сомнения в травоядности и каком-то запредельном миролюбии советской агитпропаганды развеялись. В головах. Обезжиренных телемылом последних тридцати лет.
Вся Америка в страшном смятеньи.
Эйзенхауэр болен войной.
Но в публичных своих выступлениях
Говорит, что за мир он стеной.
Пой, ласточка, пой.
Мир дышит весной.
Пусть поджигатель шипит и вопит,
Голубь летит.
Сделаем отступ в историю.
Небольшой, как будто поехали отдохнуть.
В Евпаторию.
Не только лишь один Велюров из «Покровских ворот», он выступал орудием и рупором, весь советский народ в 1956-ом (год третьего пришествия «Боевого карандаша») был прекрасно осведомлён касаемо внешнеполитических проделок старика Айка (Ike) — в то время люди у нас вообще лучше понимали в «происходящем на международной арене». И тем больше горечи те проделки нам доставляли, чем чаще приходилось вспоминать — это же бывшие, мать их, союзники! А ещё Эйзенхауэр был награждён высшим советским военным орденом «Победа» — 5-го июня 1945-го, «за выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба, в результате которых была достигнута победа Объединённых наций над гитлеровской Германией».
И вот такой вот славный парень, а вернее, славный старикан (в 45-ом Айку 55), с размаху «ложит» первому в мире государству рабочих и крестьян, крепкую такую свинью. Или, сказать точнее, свинью за свиньёй. Все как на подбор, крепкие. И тут, пожалуйста, без иллюзий. Очень любят глубоко-европейские и всякие-заокеанские «братья» нам предъявлять и неслыханную жестокость в военное время, и дикое варварство в мирные времена, вот только дивную аббревиатуру «Разоружённые Силы Неприятеля (Disarmed Enemy Forces (DEF)», для немецко-фашистских военнопленных, придумал в марте 45-го именно он, Айк. И он же добился их, и аббревиатуры и «новшества», внедрения в жизнь. С того самого момента на фрицев и иже с ними, попавших, с удовольствием превеликим сдавшихся в плен к американцам, не распространялись условия Женевской конвенции по правам военнопленных, а значит, их можно было не кормить, не лечить, и дохнуть они могли свободно, добровольно, в любых желаемых количествах. И дохли.
Не то чтобы за «пожалеть солдат вермахта» речь. Чёрт бы с ними. Всех их в ад. И добавить градуса. Но! Знать инициатора идеи — всегда полезно.
Не Париж ли столица Франции?
Нет. Не Париж...
Не красные такое удумали.
Отлично. Прекрасно. Продолжим. Айк был одержим. Красной угрозой. Это в его бытность главнокомандующим американскими войсками в Европе был подготовлен один из первых планов нападения на СССР — Totality. Ничего личного, президент Трумэн приказал, солдат Эйзенхауэр исполнил. 20-30 атомных бомб на 20-30 советских городов. Исключительно для общего спокойствия. Такое не стоит принимать слишком уж близко к сердцу. Америка встревожена... СССР должен понять...
Планов будет много, не менее девяти. Аппетиты будут расти. Айк будет их всей душой поддерживать. В условно финальной версии переустройства мира по-американски через войну с СССР (Operation Dropshot — утверждён 19-го декабря 1949-го Комитетом начальников штабов США) предлагалось сбросить 300 ядерных бомб (и для некоторого закрепления результата — 29 тысяч фугасных) на 200 целей и 100 городов Советского Союза для того чтобы «одним ударом уничтожить 85 процентов промышленного потенциала Советского Союза».
Союзники — это важно.
«Союзники» — это навсегда.
Пропаганда — это важно.
Пропаганда — это навсегда.
Нам бы проснуться. Нам бы провести, в Манеже что ли, грандиозную выставку ПРАВДЫ. Вот так было. И мы о том говорили, предупреждали. Вот так стало. И мы о том...
Так удобно, так безопасно тыкать в заколоченную дверь «Боевого карандаша» Ленинграда. Улюлюкать под окнами. Клеить на обветшалые стены всякие фенечки пацифистские.
Как бы прятаться в тех стенах не пришлось. От собственного безумия. И от стыда за высказывания в духе: «Вся эта дрянь на вроде «Крокодила»...» Конечно, сатира на пороки общества у «карандашистов» была. Вплоть до последнего дня. Вплоть до закрытия. И, надо признать, пороков тех хватало. И воровали, и разгильдяйство цвело, и круговая порука и прочая несусветная дрянь. А это, позвольте, только у нас было? А... тогда, конечно. Тогда — дрянь дело.
Нет, сестрицы и братцы. Ленинградцы нам такого позора, если что, не простят. Про улюлюканья, может, и не спросят — кто без греха, шаг вперёд. А вот за историческую слепоту спросят по полной. И те, кто пережил блокаду и воевал, и те кого называют детьми войны и послевоенного времени, они же бить будут не по «общим представлениям», а сразу по морде. И коль всё, что они нарисовали оказалось ПРАВДОЙ, где гарантия что не встретят они нас лично в царстве ином?
И будем мы мычать, в духе Данелии, мол: «Всё негативное, что советская пропаганда говорила о капитализме, оказалось правдой и даже хуже... А мы не знали... Нас обманули...»
Но, «карандашистам» такое не прокатит.
Потому — давайте-ка задумаемся.
Однако, давайте уже по порядку.
Мы здесь про пропаганду, вот и начнём с «плакатиков».
Это так пренебрежительно отзывалась о них, о советских агитационных плакатах, творческая советская интеллигенция. Что ж... По прошествии времени приходиться признать — судьба не лишена иронии. «Плакатики», все как один, не только не утратили актуальности, но ещё и прилично прибавили в политическом, историческом весе. При условии, между тем, некоторой, весьма присущей поздней Советской власти травоядности.
«Какая ещё травоядность!»
«У демонов краснопузых!»
Поспокойнее, граждане. Поспокойнее. Сейчас разберёмся. А то, вдруг — ошибочка какая вышла. И «плакатики» те — сущая ерунда на верчёной палочке. На палочке. Да. Ерунда. Очёчки розовые снимаем, пожалуйста, чтобы «плакатики» получше рассмотреть.
Жозеф Ефимовский, график, карикатурист, плакатист, ученик Осипа Авсияна (его работы хранятся в Симферопольском художественном музее), 27 лет непрерывного, как раньше говорили, стажа в послевоенном «Боевом карандаше». На его личном счету 600 агитплакатов. Был бы лётчик, весь бы самолёт в звёздах. Он, кстати, вот как отзывался о «Боевом карандаше»: «Всё хорошо придуманное и сработанное принималось и печаталось». Вот и проверим: «Где бы еще поджечь?..» (1968) — такую харю увидеть, склонившуюся над глобусом, с ядерно-ракетным тлеющим факелом в ручище, не приведи господи, особенно, если к ночи. Что он там рассматривает, этот стрёмный чел в форме с лейбаком «US»? Полюбопытствуем. Вьетнам — уже горит, прямо таки полыхает. Африка, Ближний Восток — приготовиться. Индия — на разминочку, на разминочку, нечего под баньянами рассиживаться!
Что тут сказать?
«Плакатик», судя по всему глубоко лживый. Ведь так? Ведь повсюду, где с небес всматривается в жизнь людскую этот стрёмный чел, царят «мир, благополучие и справедливость». Автор, кажется, ничего не перепутал? Помниться, в малоизвестном городке Асунсьон, где-то в Латинской Америке, лет двадцать верных висел себе никем не срываемый лозунг: «Стресснер — это мир, благополучие и справедливость!» Тоже, тот ещё «плакатик». Только другой...
Разобрались, верно? Перед нами образец «вредоносной коммунистической пропаганды». Идём дальше.
Владимир Гальба, известнейший советский график-сатирик, выдающийся иллюстратор и мастер политической карикатуры, а ещё замечательный анималист и личный враг Гитлера (об этом отдельно). Уроженец Харькова, с двух лет и до конца жизни — ленинградец, пережил блокаду и в общей сложности проработал в «Боевом карандаше» без малого 45 лет. В 1942-ом буквально, на линии фронта, доказал что «сатира убивает», нарисовав крайне неприличные портреты «фюрера немецкой нации» — в кителе, но без брюк, в состоянии возбуждения в 1941-ом и в состоянии убывания того возбуждения в 1942-ом. Портреты были выполнены на огромных, сшитых простынях, метра три на четыре каждый. И ночью закреплены на уцелевших столбах фрицам на обозрение. Фрицы по утру открыли по простыням шквальный огонь, кинулись их сдирать штурмовой командой, наши снайперы их и встретили и проводили. До места тихого, покойного.
Примерно так становятся «личным врагом Гитлера». Гальбу полагалось по мысли Геббельса «повесить на фонарном столбе, как только доблестные немецкие войска войдут в большевистский Ленинград!» К слову, пустоголовая википедия пишет (омерзительно так, буковками) про Владимира Гальбу: «В российских текстах получивший статус «личного врага Адольфа Гитлера». Сволочи. Что с них взять. А взять бы надо, и полной мерой.
Ну, так хорошо.
Мы же разбираемся с «красными агитками».
Давайте посмотрим, что это за такой известнейший «плакатик» Гальбы.
О! «Прожорливая НАТОчка» (1976): «Монополисты и магнаты вовсю «подкармливают» НАТО... Неужто в счет своих доходов? Да нет, за счет своих народов!» Совершенно отвратительного вида существо возраста младенца, в пинетках, с ядерной соской на животе и оголовком авиабомбы заместо волосяного пучка, натурально жрёт пастью ненасытной с ложечки протянутой золотые монеты... На руке кормящей, вернее, на манжете, трогательная, небезызвестная несчастному миру, черепушка с фуражечек «электрических войск».
Насквозь лживый плакат.
Просто пробу ставить негде!
Особенно — на «младенце» и «кормильце».
Вот же коммунисты треклятые...
Злобные «карандашисты»...
Впрочем, дадим ещё один шанс. Гуманизм и всё такое. Этакое. Смотрим, скрипя зубами.
Фёдор Нелюбин, график, иллюстратор, плакатист. В «Боевом карандаше» оттрубил 30 с лихом дет. Выходит, продукт системы — бдительность, бдительность и ещё раз бдительность — сейчас всех нас будут вводить в заблуждение. За ручку... «Ракетоносец» (1980) — «Подобный товар капиталу в угоду ложится на плечи простому народу. Бюджет пожирая, в копеечку станет — кто руки погреет, кто ноги протянет». Дивно. Типичнейший американский реднек-трудяга-пахарь прёт на своей спине ворох стратегических, баллистических ракет, прёт, на ходу загибаясь, а впереди него гордо вышагивают генерал с капиталистом. Мда... Просто стыд какой-то... Бессовестный поклёп на западных людей... «Авианосец» (1981) — «Дядя Сэм в чужие страны нос сует свой постоянно...». И дядя Сэм в цилиндре со «звёздно-полосатым», и взлетающие с его авианесущего носа самолётики, всё это как-то пошло, правда? Ну откуда у него такой нос? И откуда на носу самолётики? Ложь. Чистейшая большевистская агитика. И, кстати!!! Тот реднек, он ни в жизнь столько ракет зараз не поднимет. Это британские учёные доказали.
Ууууу!!!!!
Ненавистные краснопузые...
Ещё смотреть??? Ну, если только один! Два... Ой!.. Это тот неприятный Ефимовский, с которого всё началось... (1986): «Над нами нависла угроза со стороны Никарагуа!» — «Уж вот кому кричать-то нет резону. Ведь знаю все — и взрослые и дети: никто не угрожает Вашингтону. Он сам — угроза миру и планете». Опять дядя Сэм, милый, милый дядя Сэм, изображён каким-то инфернальным господином, тычущим пальцем в объёмную карту c крохотной Никарагуа. И зачем она ему? Он же всегда тыкал пальцем в такую, там, которая побольше, вся красная, что ли?..
Стоп!!!
Это опечатка!!!
Этого всего не может быть!!!
Мы начали, помнится, с Хрущёва и Эйзенхауэра, вот и продолжим, в том же духе. Чтобы жизнь протеиновым батончиком не казалась, и чтобы последние сомнения в травоядности и каком-то запредельном миролюбии советской агитпропаганды развеялись. В головах. Обезжиренных телемылом последних тридцати лет.
Вся Америка в страшном смятеньи.
Эйзенхауэр болен войной.
Но в публичных своих выступлениях
Говорит, что за мир он стеной.
Пой, ласточка, пой.
Мир дышит весной.
Пусть поджигатель шипит и вопит,
Голубь летит.
Сделаем отступ в историю.
Небольшой, как будто поехали отдохнуть.
В Евпаторию.
Не только лишь один Велюров из «Покровских ворот», он выступал орудием и рупором, весь советский народ в 1956-ом (год третьего пришествия «Боевого карандаша») был прекрасно осведомлён касаемо внешнеполитических проделок старика Айка (Ike) — в то время люди у нас вообще лучше понимали в «происходящем на международной арене». И тем больше горечи те проделки нам доставляли, чем чаще приходилось вспоминать — это же бывшие, мать их, союзники! А ещё Эйзенхауэр был награждён высшим советским военным орденом «Победа» — 5-го июня 1945-го, «за выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба, в результате которых была достигнута победа Объединённых наций над гитлеровской Германией».
И вот такой вот славный парень, а вернее, славный старикан (в 45-ом Айку 55), с размаху «ложит» первому в мире государству рабочих и крестьян, крепкую такую свинью. Или, сказать точнее, свинью за свиньёй. Все как на подбор, крепкие. И тут, пожалуйста, без иллюзий. Очень любят глубоко-европейские и всякие-заокеанские «братья» нам предъявлять и неслыханную жестокость в военное время, и дикое варварство в мирные времена, вот только дивную аббревиатуру «Разоружённые Силы Неприятеля (Disarmed Enemy Forces (DEF)», для немецко-фашистских военнопленных, придумал в марте 45-го именно он, Айк. И он же добился их, и аббревиатуры и «новшества», внедрения в жизнь. С того самого момента на фрицев и иже с ними, попавших, с удовольствием превеликим сдавшихся в плен к американцам, не распространялись условия Женевской конвенции по правам военнопленных, а значит, их можно было не кормить, не лечить, и дохнуть они могли свободно, добровольно, в любых желаемых количествах. И дохли.
Не то чтобы за «пожалеть солдат вермахта» речь. Чёрт бы с ними. Всех их в ад. И добавить градуса. Но! Знать инициатора идеи — всегда полезно.
Не Париж ли столица Франции?
Нет. Не Париж...
Не красные такое удумали.
Отлично. Прекрасно. Продолжим. Айк был одержим. Красной угрозой. Это в его бытность главнокомандующим американскими войсками в Европе был подготовлен один из первых планов нападения на СССР — Totality. Ничего личного, президент Трумэн приказал, солдат Эйзенхауэр исполнил. 20-30 атомных бомб на 20-30 советских городов. Исключительно для общего спокойствия. Такое не стоит принимать слишком уж близко к сердцу. Америка встревожена... СССР должен понять...
Планов будет много, не менее девяти. Аппетиты будут расти. Айк будет их всей душой поддерживать. В условно финальной версии переустройства мира по-американски через войну с СССР (Operation Dropshot — утверждён 19-го декабря 1949-го Комитетом начальников штабов США) предлагалось сбросить 300 ядерных бомб (и для некоторого закрепления результата — 29 тысяч фугасных) на 200 целей и 100 городов Советского Союза для того чтобы «одним ударом уничтожить 85 процентов промышленного потенциала Советского Союза».
Союзники — это важно.
«Союзники» — это навсегда.
Пропаганда — это важно.
Пропаганда — это навсегда.
Нам бы проснуться. Нам бы провести, в Манеже что ли, грандиозную выставку ПРАВДЫ. Вот так было. И мы о том говорили, предупреждали. Вот так стало. И мы о том...
Так удобно, так безопасно тыкать в заколоченную дверь «Боевого карандаша» Ленинграда. Улюлюкать под окнами. Клеить на обветшалые стены всякие фенечки пацифистские.
Как бы прятаться в тех стенах не пришлось. От собственного безумия. И от стыда за высказывания в духе: «Вся эта дрянь на вроде «Крокодила»...» Конечно, сатира на пороки общества у «карандашистов» была. Вплоть до последнего дня. Вплоть до закрытия. И, надо признать, пороков тех хватало. И воровали, и разгильдяйство цвело, и круговая порука и прочая несусветная дрянь. А это, позвольте, только у нас было? А... тогда, конечно. Тогда — дрянь дело.
Нет, сестрицы и братцы. Ленинградцы нам такого позора, если что, не простят. Про улюлюканья, может, и не спросят — кто без греха, шаг вперёд. А вот за историческую слепоту спросят по полной. И те, кто пережил блокаду и воевал, и те кого называют детьми войны и послевоенного времени, они же бить будут не по «общим представлениям», а сразу по морде. И коль всё, что они нарисовали оказалось ПРАВДОЙ, где гарантия что не встретят они нас лично в царстве ином?
И будем мы мычать, в духе Данелии, мол: «Всё негативное, что советская пропаганда говорила о капитализме, оказалось правдой и даже хуже... А мы не знали... Нас обманули...»
Но, «карандашистам» такое не прокатит.
Потому — давайте-ка задумаемся.
Последний суперматист
Вот редкий фрукт в корзине русского авангарда — русский дворянин. Правда, из рода не слишком знатного уж точно не богатого: отец служил начальником станции. Станция Мятлевская — за Калугой, по дороге к Брянску. В Калуге окончил гимназию, немного послужил на железной дороге, после чего отправился в Петербург, в Кадетский корпус. Часть расквартирована в Витебске. В 1918-ом вступает в Красную армию, правда, повоевать не пришлось, так в Витебске и оставался.
С этого момента судьба дворянина Николая Михайловича Суетина почти неотличима от судьбы ближайшего друга — Ильи Чашника, о котором разговор уже был. Оба учились в витебской художественной школе, оба вслед за Малевичем отправились в Петроград, вместе работали с учителем в ГИНХУКе и на ГФЗ, даже жили, по общей нищете, вместе. (Однажды дочь Суетина и сын Чашника поженятся: прямо Диккенс какой-то.)
Как и Чашник, Суетин в русском авангарде не то чтобы суперзвезда. Ну да, прожил куда дольше и больше успел сделать, даже Орден Ленина, высшую, на секундочку, государственную награду, получить, однако для условного краткого словаря всеобщей истории искусств — скорее все же «ученик Малевича», никуда не деться.
«Последний супрематист» — пишут искусствоведы, имея в виду, что Суетин преданно хранил идеалы учителя до самой смерти, причем тогда, когда это было уже страшно опасно для жизни, в атмосфере террора и идеологического давления.
Тут, впрочем, следует сделать замечание в сторону. История советского искусства, написанная за последние тридцать лет, исходит из того, что если художник зевнул, то он сделал это против советской власти. А если не дай бог закашлял — то уж конечно по вине советской власти. И что художник мог быть только либо бездарным подлецом-приспособленцем, либо страдающим под тоталитарной пятой талантом, третьего не дано. И, наконец, что при советской власти можно было только в соцреализм, а кто не хотел под копирку рисовать портреты вождей, того ставили лицом к стенке и пускали пулю в лоб.
Надо ли говорить, что все это рассказывают люди, которые уверены, что вышли из-под гнета идеологии и теперь пишут историю искусств безо всякой идеологии, совершенно объективно.
Увы, другой истории советского искусства вообще и русского авангарда в частности у нас нет. И это значит, что адекватная и актуальная их история до сих пор не написана.
Чтобы убедиться в том, что советские художники рисовали разное и по-разному, а не только фотографически точные портреты вождей и героических рабочих, — достаточно пролистать несколько подряд, ну ладно, хотя бы один альбом какой-нибудь отчетной выставки СХ СССР. Страшную вещь скажу: художник мог быть талантлив и при этом искренне за советскую власть, а мог быть против нее и при этом абсолютно бездарен. Более того: художнику могло быть абсолютно по барабану на советскую власть, он мог вообще ее не замечать, просто спокойно работать. А советская власть могла не трогать художника и просто давать ему спокойно работать. Даже если художник «из бывших». И даже если родной брат воевал за белых и теперь живет в Штатах.
Это как раз и есть случай Суетина.
И если Суетин и был «последним супрематистом», то уж совершенно точно не по линии противостояния с какой бы то ни было властью.
Да и от формулы «ученик Малевича» стоило бы отказаться. Не потому что не был — был, конечно: на фотографии 1922 года он в шинели с нашивкой с «Черным квадратом», — а потому что эта формула как будто подытоживает и закрывает вопрос. Вот, мол, был Малевич, а были его ученики, все понятно, поехали дальше. Нет, не понятно. В 1924 году Чашник с Суетиным пишут Малевичу письмо: «Нам не надо главкомов, а пусть они будут нашими старшими товарищами, и Казимиру Севериновичу пора давно это учесть». При всем уважении, которое оба испытывали к учителю, каждый из них хотел двигаться в свою сторону, причем знал, в какую именно, только Чашник не очень-то успел, умер в 1929-ом, но Суетин дожил до 1954-го и чем-то таким своим занимался. Имеет смысл разобраться, чем именно.
Ну поначалу тем же, чем и все окружение. В Витебске — городские праздники и агитационные трамваи, вывески и роспись столовой. В Питере — архитектоны, проуны и проекты мебели, работа в т.н. «лаборатории супрематического ордера» в ГИНХУКе, в Декоративном институте и в Комитете художественной промышленности при нем, под руководством Александра Никольского. Реальная, а не теоретическая работа тут — только росписи домов на Нарвской заставе. Ну если не считать обложек журналов и рекламных плакатов — это уж как водится.
Зато в 1922 году Суетин вместе с Чашником по рекомендации Пунина попадают на ГФЗ. Для Чашника и Малевича фарфор — проходной эпизод в творческой биографии. В жизни Суетина фарфор остается навсегда. Поначалу это просто заказы, один, другой, третий — но через десять лет Суетин сначала возглавит Художественную лабораторию завода, а вскоре станет его главным художником. Таким образом, весь фарфор ЛФЗ с 1932-го по 1954-ый, вся его слава и величие, — это так или иначе Суетин, его сотрудники и его ученики, ибо Суетин был не просто начальником, но именно наставником, он заботливо и терпеливо выращивал художников по фарфору.
О фарфоре ЛФЗ сказано слишком много, чтобы тут специально на нем останавливаться. Только одно: был ли он супрематическим? Ну разумеется. Правда, эксперименты с формами довольно быстро зашли в тупик: все-таки квадратную чашку придумать можно, но человечество не зря всю свою историю пьет из круглых. Однако суетинская роспись узнается сразу, хоть двадцатых годов, хоть тридцатых, хоть сороковых: тот же супрематический алфавит: красные прямоугольники, синие прямоугольники, черные квадратики и зеленые полосы.
Но вот что любопытно. Параллельно с работой в мастерских завода Суетин наедине с собой продолжает заниматься собственно живописью, и вот в ней-то он довольно далеко от беспредметного супрематического идеала уходит — настолько далеко, что доходит уже едва ли не до реализма. Кажется, если где-то собака и зарыта, то именно тут. Важно спросить: в чем тут дело?
Можно ли сказать, что где-то он настоящий, следует за музой, опирается на вдохновение, а где-то, наоборот, тянет конформистскую лямку, мимикрирует под соцреализм? Ну допустим. Но почему тогда супрематизм на работе и (скажем для простоты) реализм наедине с собой дома? Почему не наоборот?
Или все-таки наоборот? Втайне от всех экспериментировал, нащупывал пути преодоления супрематизма и выхода к реализму, возможно, даже соцреализму, но боялся репрессий и поэтому на людях продолжал лепить постылые супрематические композиции? Абсурд.
Нет, похоже, дело в чем-то другом. И поскольку (анти)советское искусствоведение не дает нам ответа на этот вопрос, придется предложить свой — ну просто в качестве рабочей гипотезы.
Суетин не предавал, не мимикрировал и не страдал под гнетом, но довольно рано увидел пределы супрематизма. Универсальный язык дизайна новой эпохи был найден и хорошо работал. Хоть в фарфоре, хоть в оформлении советских павильонов на всемирных выставках в Париже в 1936-ом и в Нью-Йорке в 1938-ом. На них, кстати, Суетин трудился вместе с Иофаном и Дейнекой, Алабяном и Мухиной: «Рабочий и колхозница» венчали павильон, интерьеры которого оформлял Суетин; за них — получил гран-при выставки.
Оформление выставок — отдельная интересная тема, можно было бы поговорить подробно, но нет места. (И все же отметим, что страшно страдающий от тоталитарного гнета художник полгода проводит в Париже и полгода в Нью-Йорке, и у него даже мысли не возникает остаться, не возвращаться на родину. Семья? Да нет, судя по нескольким прижитым от разных женщин детям, дело не в Лепорской; отношения с ней были скорее товарищескими. Хотя была дочь и от нее тоже.)
Так вот. Супрематический язык прекрасно работал в дизайне фарфора, интерьеров, мебели, плакатов и так далее. Но живопись? Невозможно же теперь всегда писать только разных цветов квадраты и располагать на плоскости прямоугольники. Как бы того ни хотелось Малевичу, живопись не умерла. Малевичу и самому надоели квадраты с плоскостями — известное дело, все помнят поздний автопортрет.
Между тем Суетин все-таки считал себя (в отличие, кстати, от Чашника с Лисицким) живописцем. Но как и они — кажется, был лишен тщеславия; Малевич вообще с тщеславными не уживался, его собственного тщеславия с лихвой хватало на всех.
Кажется, живопись была для Суетина не столько полем реализации амбиций, сколько формой медитации, духовной практикой. Иначе зачем практически точь-в-точь переписывать «Черный квадрат»? Зачем вслед за Малевичем делать едва ли не точные копии его крестьянок? Уже позже, со второй половины тридцатых, из овалов и прямоугольников Суетин делает женские портреты и даже Богородицу с Младенцем, из прямоугольников и квадратов — городской пейзаж.
Мы уже говорили, когда речь шла об Илье Чашнике, о том, что главная идея супрематизма — разъять изображение на мельчайшие составляющие: простейшие цвета, простейшие формы. Разобрать видимый мир на элементарные кванты. Зачем? Ответ может быть только один: чтобы из найденных элементов затем собрать мир и изображение заново. Представляется, что Суетин последовательно шел именно по этому пути.
Правда, разобрать мир — после того как Малевич пробил лед — было несложно. А вот собрать заново — оказалось той еще задачей. И Суетин на протяжении многих лет, урывая время между работой на производстве, госзаказами и бесконечными романами, с трудом идет по этому пути, преодолевая какое-то непонятное внутреннее сопротивление. Работа эта не была никак связана с текущей политической обстановкой, партией и правительством, вообще с внешней жизнью — она шла совсем в другом измерении, в параллельной вселенной.
Суетин всю Блокаду будет в Ленинграде, в 1944-ом оформит выставку «Героическая оборона Ленинграда», которая потом станет Музеем Блокады. Очевидно, сил и времени на живопись будет оставаться все меньше и меньше. В ГРМ хранится эскиз к так никогда и не написанной картине «Победа» то ли 1942 года, то ли конца сороковых, голова женщины — никаких квадратов и супремов: поразительной простоты и мощи рисунок. Лицо, в котором сразу — и блокадное мужество, и блокадное горе, и святость, и подвиг. Будто с иконы лицо.
И вот, может быть, ответ на вопрос, в каком все-таки смысле «последний супрематист». А вот в таком: разъятый на составные части мир собирается обратно в искусстве изображения человеческого лица или лика святой, другого пути нет — но сам этот путь для первой половины двадцатого века оказывается важнейшей внутренней работой. И в данном случае эту работу совершил русский дворянин и кавалер Ордена Ленина Николай Михайлович Суетин.
Вадим Левенталь.
С этого момента судьба дворянина Николая Михайловича Суетина почти неотличима от судьбы ближайшего друга — Ильи Чашника, о котором разговор уже был. Оба учились в витебской художественной школе, оба вслед за Малевичем отправились в Петроград, вместе работали с учителем в ГИНХУКе и на ГФЗ, даже жили, по общей нищете, вместе. (Однажды дочь Суетина и сын Чашника поженятся: прямо Диккенс какой-то.)
Как и Чашник, Суетин в русском авангарде не то чтобы суперзвезда. Ну да, прожил куда дольше и больше успел сделать, даже Орден Ленина, высшую, на секундочку, государственную награду, получить, однако для условного краткого словаря всеобщей истории искусств — скорее все же «ученик Малевича», никуда не деться.
«Последний супрематист» — пишут искусствоведы, имея в виду, что Суетин преданно хранил идеалы учителя до самой смерти, причем тогда, когда это было уже страшно опасно для жизни, в атмосфере террора и идеологического давления.
Тут, впрочем, следует сделать замечание в сторону. История советского искусства, написанная за последние тридцать лет, исходит из того, что если художник зевнул, то он сделал это против советской власти. А если не дай бог закашлял — то уж конечно по вине советской власти. И что художник мог быть только либо бездарным подлецом-приспособленцем, либо страдающим под тоталитарной пятой талантом, третьего не дано. И, наконец, что при советской власти можно было только в соцреализм, а кто не хотел под копирку рисовать портреты вождей, того ставили лицом к стенке и пускали пулю в лоб.
Надо ли говорить, что все это рассказывают люди, которые уверены, что вышли из-под гнета идеологии и теперь пишут историю искусств безо всякой идеологии, совершенно объективно.
Увы, другой истории советского искусства вообще и русского авангарда в частности у нас нет. И это значит, что адекватная и актуальная их история до сих пор не написана.
Чтобы убедиться в том, что советские художники рисовали разное и по-разному, а не только фотографически точные портреты вождей и героических рабочих, — достаточно пролистать несколько подряд, ну ладно, хотя бы один альбом какой-нибудь отчетной выставки СХ СССР. Страшную вещь скажу: художник мог быть талантлив и при этом искренне за советскую власть, а мог быть против нее и при этом абсолютно бездарен. Более того: художнику могло быть абсолютно по барабану на советскую власть, он мог вообще ее не замечать, просто спокойно работать. А советская власть могла не трогать художника и просто давать ему спокойно работать. Даже если художник «из бывших». И даже если родной брат воевал за белых и теперь живет в Штатах.
Это как раз и есть случай Суетина.
И если Суетин и был «последним супрематистом», то уж совершенно точно не по линии противостояния с какой бы то ни было властью.
Да и от формулы «ученик Малевича» стоило бы отказаться. Не потому что не был — был, конечно: на фотографии 1922 года он в шинели с нашивкой с «Черным квадратом», — а потому что эта формула как будто подытоживает и закрывает вопрос. Вот, мол, был Малевич, а были его ученики, все понятно, поехали дальше. Нет, не понятно. В 1924 году Чашник с Суетиным пишут Малевичу письмо: «Нам не надо главкомов, а пусть они будут нашими старшими товарищами, и Казимиру Севериновичу пора давно это учесть». При всем уважении, которое оба испытывали к учителю, каждый из них хотел двигаться в свою сторону, причем знал, в какую именно, только Чашник не очень-то успел, умер в 1929-ом, но Суетин дожил до 1954-го и чем-то таким своим занимался. Имеет смысл разобраться, чем именно.
Ну поначалу тем же, чем и все окружение. В Витебске — городские праздники и агитационные трамваи, вывески и роспись столовой. В Питере — архитектоны, проуны и проекты мебели, работа в т.н. «лаборатории супрематического ордера» в ГИНХУКе, в Декоративном институте и в Комитете художественной промышленности при нем, под руководством Александра Никольского. Реальная, а не теоретическая работа тут — только росписи домов на Нарвской заставе. Ну если не считать обложек журналов и рекламных плакатов — это уж как водится.
Зато в 1922 году Суетин вместе с Чашником по рекомендации Пунина попадают на ГФЗ. Для Чашника и Малевича фарфор — проходной эпизод в творческой биографии. В жизни Суетина фарфор остается навсегда. Поначалу это просто заказы, один, другой, третий — но через десять лет Суетин сначала возглавит Художественную лабораторию завода, а вскоре станет его главным художником. Таким образом, весь фарфор ЛФЗ с 1932-го по 1954-ый, вся его слава и величие, — это так или иначе Суетин, его сотрудники и его ученики, ибо Суетин был не просто начальником, но именно наставником, он заботливо и терпеливо выращивал художников по фарфору.
О фарфоре ЛФЗ сказано слишком много, чтобы тут специально на нем останавливаться. Только одно: был ли он супрематическим? Ну разумеется. Правда, эксперименты с формами довольно быстро зашли в тупик: все-таки квадратную чашку придумать можно, но человечество не зря всю свою историю пьет из круглых. Однако суетинская роспись узнается сразу, хоть двадцатых годов, хоть тридцатых, хоть сороковых: тот же супрематический алфавит: красные прямоугольники, синие прямоугольники, черные квадратики и зеленые полосы.
Но вот что любопытно. Параллельно с работой в мастерских завода Суетин наедине с собой продолжает заниматься собственно живописью, и вот в ней-то он довольно далеко от беспредметного супрематического идеала уходит — настолько далеко, что доходит уже едва ли не до реализма. Кажется, если где-то собака и зарыта, то именно тут. Важно спросить: в чем тут дело?
Можно ли сказать, что где-то он настоящий, следует за музой, опирается на вдохновение, а где-то, наоборот, тянет конформистскую лямку, мимикрирует под соцреализм? Ну допустим. Но почему тогда супрематизм на работе и (скажем для простоты) реализм наедине с собой дома? Почему не наоборот?
Или все-таки наоборот? Втайне от всех экспериментировал, нащупывал пути преодоления супрематизма и выхода к реализму, возможно, даже соцреализму, но боялся репрессий и поэтому на людях продолжал лепить постылые супрематические композиции? Абсурд.
Нет, похоже, дело в чем-то другом. И поскольку (анти)советское искусствоведение не дает нам ответа на этот вопрос, придется предложить свой — ну просто в качестве рабочей гипотезы.
Суетин не предавал, не мимикрировал и не страдал под гнетом, но довольно рано увидел пределы супрематизма. Универсальный язык дизайна новой эпохи был найден и хорошо работал. Хоть в фарфоре, хоть в оформлении советских павильонов на всемирных выставках в Париже в 1936-ом и в Нью-Йорке в 1938-ом. На них, кстати, Суетин трудился вместе с Иофаном и Дейнекой, Алабяном и Мухиной: «Рабочий и колхозница» венчали павильон, интерьеры которого оформлял Суетин; за них — получил гран-при выставки.
Оформление выставок — отдельная интересная тема, можно было бы поговорить подробно, но нет места. (И все же отметим, что страшно страдающий от тоталитарного гнета художник полгода проводит в Париже и полгода в Нью-Йорке, и у него даже мысли не возникает остаться, не возвращаться на родину. Семья? Да нет, судя по нескольким прижитым от разных женщин детям, дело не в Лепорской; отношения с ней были скорее товарищескими. Хотя была дочь и от нее тоже.)
Так вот. Супрематический язык прекрасно работал в дизайне фарфора, интерьеров, мебели, плакатов и так далее. Но живопись? Невозможно же теперь всегда писать только разных цветов квадраты и располагать на плоскости прямоугольники. Как бы того ни хотелось Малевичу, живопись не умерла. Малевичу и самому надоели квадраты с плоскостями — известное дело, все помнят поздний автопортрет.
Между тем Суетин все-таки считал себя (в отличие, кстати, от Чашника с Лисицким) живописцем. Но как и они — кажется, был лишен тщеславия; Малевич вообще с тщеславными не уживался, его собственного тщеславия с лихвой хватало на всех.
Кажется, живопись была для Суетина не столько полем реализации амбиций, сколько формой медитации, духовной практикой. Иначе зачем практически точь-в-точь переписывать «Черный квадрат»? Зачем вслед за Малевичем делать едва ли не точные копии его крестьянок? Уже позже, со второй половины тридцатых, из овалов и прямоугольников Суетин делает женские портреты и даже Богородицу с Младенцем, из прямоугольников и квадратов — городской пейзаж.
Мы уже говорили, когда речь шла об Илье Чашнике, о том, что главная идея супрематизма — разъять изображение на мельчайшие составляющие: простейшие цвета, простейшие формы. Разобрать видимый мир на элементарные кванты. Зачем? Ответ может быть только один: чтобы из найденных элементов затем собрать мир и изображение заново. Представляется, что Суетин последовательно шел именно по этому пути.
Правда, разобрать мир — после того как Малевич пробил лед — было несложно. А вот собрать заново — оказалось той еще задачей. И Суетин на протяжении многих лет, урывая время между работой на производстве, госзаказами и бесконечными романами, с трудом идет по этому пути, преодолевая какое-то непонятное внутреннее сопротивление. Работа эта не была никак связана с текущей политической обстановкой, партией и правительством, вообще с внешней жизнью — она шла совсем в другом измерении, в параллельной вселенной.
Суетин всю Блокаду будет в Ленинграде, в 1944-ом оформит выставку «Героическая оборона Ленинграда», которая потом станет Музеем Блокады. Очевидно, сил и времени на живопись будет оставаться все меньше и меньше. В ГРМ хранится эскиз к так никогда и не написанной картине «Победа» то ли 1942 года, то ли конца сороковых, голова женщины — никаких квадратов и супремов: поразительной простоты и мощи рисунок. Лицо, в котором сразу — и блокадное мужество, и блокадное горе, и святость, и подвиг. Будто с иконы лицо.
И вот, может быть, ответ на вопрос, в каком все-таки смысле «последний супрематист». А вот в таком: разъятый на составные части мир собирается обратно в искусстве изображения человеческого лица или лика святой, другого пути нет — но сам этот путь для первой половины двадцатого века оказывается важнейшей внутренней работой. И в данном случае эту работу совершил русский дворянин и кавалер Ордена Ленина Николай Михайлович Суетин.
Вадим Левенталь.
Илья Чашник и "Октябрь"
Все как обычно. Маленькое местечко в Великом княжестве Литовском — Люцин, нынешняя Лудза. Большая еврейская семья, восемь человек детей. Нищета. Однажды мама привезла из Петербурга дешевенький альбом с репродукциями, и мальчик влюбился в искусство. Но учиться некогда — не то, что рисованию учиться, а и просто в школе. Из школы приходится уйти в 11 лет и поступить на производство. По десять часов в день у станка. Но тяга к искусству непреодолима.
Нюанс вот какой: родившийся в 1902 году Илья Чашник умрет в 1929-ом. Еще один из Клуба-27.
Много ли успел сделать? Да не то чтобы. Успел ли вписать свое имя в историю? Ну да, но скорее на полях. Стыдно не знать, кто такой Малевич, но кто такой Чашник — это, пожалуй, уже для специалистов.
Тут напрашивается продолжение: мол, да нет, на самом-то деле Чашник очень даже значительная фигура, сейчас докажем… Нет, не такая уж значительная. Из тени Малевича, учителя, гуру, пророка — так и не вышел.
А все-таки поговорить про него интересно. Хотя бы потому что, может быть, именно там, где судьба художника, его идеи и его труд не засвечены излучением величия — будет виднее общий нерв времени, Zeitgeist, прости господи.
Так, чтобы понять общее движение литературы, увидеть движение тектонических плит ее истории, лучше читать не гениев, а крепких рядовых авторов-современников. Не Толстого, грубо говоря, а Лажечникова с Решетниковым. Гений ослепляет и всегда значительной частью стоит вне времени.
Так вот. Одиннадцать лет, надо кормить семью. По десять часов в день у станка. 1913 год (в терновом венке революций, ага). Тут как-то сам собой станешь коммунистом, хотя бы и стихийным. А вот стать художником — тот еще фокус. Знакомство с парнем из Питера: тот ходил в Рисовальную школу при ОПХ. Рассказывает про выставки, вернисажи, занятия, музеи. И вот после десятичасовых смен мальчик, вместо того чтобы спать, по несколько часов еще каждую ночь рисует.
Как только появляется возможность — подросли старшие, стали зарабатывать, можно наконец учиться, — Чашник начинает ходить в школу Пэна. Дело происходит уже в Витебске — да, в той самой школе: Шагал, Лисицкий и все-все-все. Только Чашник намного младше.
В 1919 году ему семнадцать лет, он на несколько месяцев едет в Москву, записывается там в архитектурную мастерскую при ГСМХ (пока еще не ВХУТЕМАС), но почти сразу возвращается в Витебск — обратно в ту же самую школу, только теперь ее возглавляет Шагал. У Шагала занимается недолго, почти тут же переходит к Малевичу и Лисицкому.
Почему? Видимо, потому же, почему в Москве записался именно на архитектурный курс: потому что идея живописи, чистого искусства — не круто. А круто — переустройство жизни. Живопись умерла. Искусство никому не сдалось. Искусство вообще буржуазно. В коммунистическом обществе не будет искусства и не будет художников — просто сама жизнь станет искусством и каждый — художником. И одновременно ученым.
Малевича в записях этого времени называет только ученым. Чуть позже, уже в Питере, будет подписывать документы: научный сотрудник. Ни в коем случае не художник.
Нужно ли изучать искусство прошлого? Нет, оно ничем не может помочь построению новой жизни. Все — на свалку истории. (Ну семнадцать лет человеку! Вы в семнадцать лет не высказывали подобных офигительных идей? Сбросим Пушкина с парохода современности!) У нас есть супрематизм — первое в истории научное направление в искусстве, которое перешагнет границы искусства и выведет общие законы для всех сфер жизни, от строительства жилья до покорения космоса. Да, мечты о космосе. Где-то тут же парня похлопывают по плечу Циолковский и Федоров.
Но для начала — оформление улиц Витебска к праздникам, агитационные трамваи, декорирование залов к торжественным заседаниям. И кстати, художник теперь не то что при старом режиме, он больше не монах в келье-мастерской, он общественник. Поэтому — Уновис, Утвердители нового искусства. Пишут, что Уновис — это художественное объединение, и это безусловно так, но критически важно тут то, что Уновис был устроен как партия. Устав, подробная анкета для желающих вступить, структура, должности, заседания, резолюции, партийная пресса — идея была в том, чтобы устроить общество художников на манер РСДРП.
Революция для семнадцатилетнего Чашника — все. То есть вообще все, все содержание жизни. До конца недолгой жизни будет чиновников, мешающих творческому полету фантазии, — клеймить контрреволюционерами.
Так что помимо выставок и журналов, помимо оформления улиц в Витебске, к праздникам и просто так, — столь же важна для Чашника общественная, партийная работа в Уновисе. Заседания, выступления, листки, прочая агитация и пропаганда — это не от желания поймать за хвост какую-то карьеру, влиться в толпу, встроиться в систему, как может показаться из нашего циничного времени. Это искренняя и горячая юношеская убежденность в том, что вот прямо сейчас мы держим в руках «миров приводные ремни», и от нас напрямую зависит, каким будет завтрашний день. Для России в первую очередь, но не только — вообще для всего человечества.
Есть, однако, проблема. Светлое будущее светлым будущим и судьба человечества судьбой человечества, а кушать надо уже прямо сегодня. А денег нет. Когда Чашник вместе с Суетиным вслед за Малевичем переедут в Петроград, им придется жить вместе. Ни одна из биографий, кстати, не уточняет, что именно они снимали, но есть подозрение, что скорее всего комнату, одну на двоих. Не потому что лгбт, а потому что так дешевле.
В Витебске Чашник оставил жену, юную Цилю. Почему так и не перевез к себе в Петроград? Нежная переписка, «предполагается еще работа, которая, если не треснет, то даст возможность заработать тебе на пальто» — да просто денег нет.
В Петрограде Чашник поступает в Академию художеств, но это не для того чтобы получить академическое образование, мы помним, что «изучение классицизма, реализма и т.д. может существовать только для гробокопателей», а для того чтобы не идти в армию. Правда, он и в Академии пытается развести пропаганду, выступает на митинге с призывом всем вступать в Уновис: «Революция в живописи была, но «Октября» в ней не было. Да здравствуют великие новаторы живописной революции!». Бурные аплодисменты, все встают.
Малевич устраивает Чашника с Суетиным в ГИНХУК, а Пунин — на ГФЗ (пока еще не ЛФЗ). В ГИНХУКе маленькая ставка, на ГФЗ — маленькие гонорары, кое-как выжить можно. И все-таки все время приходится искать возможность подработать. Так помимо знаменитых супрематических чашек, сконструированных Малевичем и расписанных Чашником (чашки — Чашником, ну что поделаешь: не мы такие, жизнь такая), чашек, которые и по нынешний день копируют на ЛФЗ и продают за бешеные деньги, Чашник берется за росписи жилых зданий с полуарками на Нарвской заставе, проектирует мебель, интерьеры, рисует архитектурные эскизы, делает рисунки раппортов для тканей, проекты трибун, рекламных стендов и даже газетных киосков, киноафиши и плакаты.
Интерьеры Чашника выглядят так, будто их вот только что нарисовали специалисты в «Икее», здания Чашника выглядят так, будто ты их где-то видел, то ли в Лондоне, то ли в Гамбурге. Ничего удивительного — в голодном Петрограде начала двадцатых варилось то, что потом выльется в принципы дизайна и архитектуры двадцатого века в мировом масштабе. Чашник не был тут главным действующим лицом, но свою лепту, безусловно, внес.
А вот газетный киоск Чашника и по сей день выглядит несколько футуристически. Большой красный круг, белый квадрат, желтые, серые и синие прямоугольники — динамика и энергия. Что-то подобное в оформлении книжных магазинов мы встречали, но поставить такое на улице как-то до сих пор, видимо, несколько стремно.
Отдельно нас интересуют плакаты. Что ж, политических плакатов Чашник не рисовал, но рекламные — довольно много. Рекламный стенд «Советский экран», плакат «Подписался ли ты на облигацию выигрышного займа», стенд «Рекламбюро КУБУЧа и Детком». КУБУЧ, если что, это Комиссия по улучшению быта учащихся. Киноафиши. Реклама газеты «Кино»: «Все о кино в газете «Кино»!». Тоже своего рода пропаганда.
Кстати, по поводу «Кино». Вот юмор большой истории. Когда в 1988 году Андрей Крисанов по просьбе Цоя будет рисовать обложку для альбома «Группа крови», за основу он возьмет афишу фильма «Доктор Мабузе» 1922 года. Ту афишу сделал Малевич, но стоит бегло взглянуть на «Супрематические композиции» Чашника, как становится понятно, что в данном случае учитель взял композицию, которую из раза в раз упорно воспроизводил его ученик. А значит, по сути, всем знакомая обложка «Группы крови» — это Чашник.
Выполняя для заработка поденную работу, афиши, плакаты, эскизы того, эскизы другого — Чашник все время жалуется на то, что не остается времени на «свою работу», то есть главную свою миссию он видит все-таки в том, что мы бы сегодня назвали живописью, а Чашник, скорее всего, назвал бы супрематическими исследованиями — он ведь не художник, а ученый.
Чашник претендует на то, что он развивает науку, открытую Малевичем, его амбиция (а он, конечно, очень амбициозен) в том, чтобы открывать нечто новое на том пространстве, в которое Малевич только приоткрыл дверь. Чашнику видятся там пятое и седьмое измерения, новые принципы сочетания цветов, ближе к концу двадцатых он явно начинает выходить из-под влияния учителя, спорит с ним и в личных записях, и в письмах. Бог его знает, что бы он еще смог сделать, если бы не умер так рано.
Мы уже говорили о том, что главная заслуга Малевича в создании изобразительного алфавита для искусства нового времени. «Черный квадрат» — элементарный знак этого алфавита. И Чашник, среди многих других, был тем человеком, который это мгновенно понял и стал использовать, пробуя другие «буквы» нового алфавита и их сочетания.
И вот тут мы нащупываем что-то глобальное, может быть, важнейший нерв эпохи, универсальную интенцию времени. В те же самые годы по Вене гуляет юный Витгенштейн и сочиняет «Логико-философский трактат», ключевая идея которого — разъять дискурс, то есть вообще любой дискурс, на элементарные составляющие, мельчайшие частицы. В 1925 году одновременно и независимо друг от друга на разных языках Гейзенберг и Шредингер формулируют принципы квантовой механики — новой науки, разъявшей на мельчайшие составляющие уже физический мир. А чуть раньше Соссюр открыл, из каких элементарных, более не разложимых частей состоит человеческий язык.
По сути супрематизм есть та же идея, только примененная к изображению в самом широком смысле — разобрать мир на самые мелкие частицы, чтобы потом иметь возможность собрать его обратно по-новому. И вот этим-то Чашник, не великий, но один из многих, и занимался. Только дойти до сборки не успел. Перед смертью он сказал Суетину: «Передай Малевичу, что я умер как художник».
Вадим Левенталь.
Нюанс вот какой: родившийся в 1902 году Илья Чашник умрет в 1929-ом. Еще один из Клуба-27.
Много ли успел сделать? Да не то чтобы. Успел ли вписать свое имя в историю? Ну да, но скорее на полях. Стыдно не знать, кто такой Малевич, но кто такой Чашник — это, пожалуй, уже для специалистов.
Тут напрашивается продолжение: мол, да нет, на самом-то деле Чашник очень даже значительная фигура, сейчас докажем… Нет, не такая уж значительная. Из тени Малевича, учителя, гуру, пророка — так и не вышел.
А все-таки поговорить про него интересно. Хотя бы потому что, может быть, именно там, где судьба художника, его идеи и его труд не засвечены излучением величия — будет виднее общий нерв времени, Zeitgeist, прости господи.
Так, чтобы понять общее движение литературы, увидеть движение тектонических плит ее истории, лучше читать не гениев, а крепких рядовых авторов-современников. Не Толстого, грубо говоря, а Лажечникова с Решетниковым. Гений ослепляет и всегда значительной частью стоит вне времени.
Так вот. Одиннадцать лет, надо кормить семью. По десять часов в день у станка. 1913 год (в терновом венке революций, ага). Тут как-то сам собой станешь коммунистом, хотя бы и стихийным. А вот стать художником — тот еще фокус. Знакомство с парнем из Питера: тот ходил в Рисовальную школу при ОПХ. Рассказывает про выставки, вернисажи, занятия, музеи. И вот после десятичасовых смен мальчик, вместо того чтобы спать, по несколько часов еще каждую ночь рисует.
Как только появляется возможность — подросли старшие, стали зарабатывать, можно наконец учиться, — Чашник начинает ходить в школу Пэна. Дело происходит уже в Витебске — да, в той самой школе: Шагал, Лисицкий и все-все-все. Только Чашник намного младше.
В 1919 году ему семнадцать лет, он на несколько месяцев едет в Москву, записывается там в архитектурную мастерскую при ГСМХ (пока еще не ВХУТЕМАС), но почти сразу возвращается в Витебск — обратно в ту же самую школу, только теперь ее возглавляет Шагал. У Шагала занимается недолго, почти тут же переходит к Малевичу и Лисицкому.
Почему? Видимо, потому же, почему в Москве записался именно на архитектурный курс: потому что идея живописи, чистого искусства — не круто. А круто — переустройство жизни. Живопись умерла. Искусство никому не сдалось. Искусство вообще буржуазно. В коммунистическом обществе не будет искусства и не будет художников — просто сама жизнь станет искусством и каждый — художником. И одновременно ученым.
Малевича в записях этого времени называет только ученым. Чуть позже, уже в Питере, будет подписывать документы: научный сотрудник. Ни в коем случае не художник.
Нужно ли изучать искусство прошлого? Нет, оно ничем не может помочь построению новой жизни. Все — на свалку истории. (Ну семнадцать лет человеку! Вы в семнадцать лет не высказывали подобных офигительных идей? Сбросим Пушкина с парохода современности!) У нас есть супрематизм — первое в истории научное направление в искусстве, которое перешагнет границы искусства и выведет общие законы для всех сфер жизни, от строительства жилья до покорения космоса. Да, мечты о космосе. Где-то тут же парня похлопывают по плечу Циолковский и Федоров.
Но для начала — оформление улиц Витебска к праздникам, агитационные трамваи, декорирование залов к торжественным заседаниям. И кстати, художник теперь не то что при старом режиме, он больше не монах в келье-мастерской, он общественник. Поэтому — Уновис, Утвердители нового искусства. Пишут, что Уновис — это художественное объединение, и это безусловно так, но критически важно тут то, что Уновис был устроен как партия. Устав, подробная анкета для желающих вступить, структура, должности, заседания, резолюции, партийная пресса — идея была в том, чтобы устроить общество художников на манер РСДРП.
Революция для семнадцатилетнего Чашника — все. То есть вообще все, все содержание жизни. До конца недолгой жизни будет чиновников, мешающих творческому полету фантазии, — клеймить контрреволюционерами.
Так что помимо выставок и журналов, помимо оформления улиц в Витебске, к праздникам и просто так, — столь же важна для Чашника общественная, партийная работа в Уновисе. Заседания, выступления, листки, прочая агитация и пропаганда — это не от желания поймать за хвост какую-то карьеру, влиться в толпу, встроиться в систему, как может показаться из нашего циничного времени. Это искренняя и горячая юношеская убежденность в том, что вот прямо сейчас мы держим в руках «миров приводные ремни», и от нас напрямую зависит, каким будет завтрашний день. Для России в первую очередь, но не только — вообще для всего человечества.
Есть, однако, проблема. Светлое будущее светлым будущим и судьба человечества судьбой человечества, а кушать надо уже прямо сегодня. А денег нет. Когда Чашник вместе с Суетиным вслед за Малевичем переедут в Петроград, им придется жить вместе. Ни одна из биографий, кстати, не уточняет, что именно они снимали, но есть подозрение, что скорее всего комнату, одну на двоих. Не потому что лгбт, а потому что так дешевле.
В Витебске Чашник оставил жену, юную Цилю. Почему так и не перевез к себе в Петроград? Нежная переписка, «предполагается еще работа, которая, если не треснет, то даст возможность заработать тебе на пальто» — да просто денег нет.
В Петрограде Чашник поступает в Академию художеств, но это не для того чтобы получить академическое образование, мы помним, что «изучение классицизма, реализма и т.д. может существовать только для гробокопателей», а для того чтобы не идти в армию. Правда, он и в Академии пытается развести пропаганду, выступает на митинге с призывом всем вступать в Уновис: «Революция в живописи была, но «Октября» в ней не было. Да здравствуют великие новаторы живописной революции!». Бурные аплодисменты, все встают.
Малевич устраивает Чашника с Суетиным в ГИНХУК, а Пунин — на ГФЗ (пока еще не ЛФЗ). В ГИНХУКе маленькая ставка, на ГФЗ — маленькие гонорары, кое-как выжить можно. И все-таки все время приходится искать возможность подработать. Так помимо знаменитых супрематических чашек, сконструированных Малевичем и расписанных Чашником (чашки — Чашником, ну что поделаешь: не мы такие, жизнь такая), чашек, которые и по нынешний день копируют на ЛФЗ и продают за бешеные деньги, Чашник берется за росписи жилых зданий с полуарками на Нарвской заставе, проектирует мебель, интерьеры, рисует архитектурные эскизы, делает рисунки раппортов для тканей, проекты трибун, рекламных стендов и даже газетных киосков, киноафиши и плакаты.
Интерьеры Чашника выглядят так, будто их вот только что нарисовали специалисты в «Икее», здания Чашника выглядят так, будто ты их где-то видел, то ли в Лондоне, то ли в Гамбурге. Ничего удивительного — в голодном Петрограде начала двадцатых варилось то, что потом выльется в принципы дизайна и архитектуры двадцатого века в мировом масштабе. Чашник не был тут главным действующим лицом, но свою лепту, безусловно, внес.
А вот газетный киоск Чашника и по сей день выглядит несколько футуристически. Большой красный круг, белый квадрат, желтые, серые и синие прямоугольники — динамика и энергия. Что-то подобное в оформлении книжных магазинов мы встречали, но поставить такое на улице как-то до сих пор, видимо, несколько стремно.
Отдельно нас интересуют плакаты. Что ж, политических плакатов Чашник не рисовал, но рекламные — довольно много. Рекламный стенд «Советский экран», плакат «Подписался ли ты на облигацию выигрышного займа», стенд «Рекламбюро КУБУЧа и Детком». КУБУЧ, если что, это Комиссия по улучшению быта учащихся. Киноафиши. Реклама газеты «Кино»: «Все о кино в газете «Кино»!». Тоже своего рода пропаганда.
Кстати, по поводу «Кино». Вот юмор большой истории. Когда в 1988 году Андрей Крисанов по просьбе Цоя будет рисовать обложку для альбома «Группа крови», за основу он возьмет афишу фильма «Доктор Мабузе» 1922 года. Ту афишу сделал Малевич, но стоит бегло взглянуть на «Супрематические композиции» Чашника, как становится понятно, что в данном случае учитель взял композицию, которую из раза в раз упорно воспроизводил его ученик. А значит, по сути, всем знакомая обложка «Группы крови» — это Чашник.
Выполняя для заработка поденную работу, афиши, плакаты, эскизы того, эскизы другого — Чашник все время жалуется на то, что не остается времени на «свою работу», то есть главную свою миссию он видит все-таки в том, что мы бы сегодня назвали живописью, а Чашник, скорее всего, назвал бы супрематическими исследованиями — он ведь не художник, а ученый.
Чашник претендует на то, что он развивает науку, открытую Малевичем, его амбиция (а он, конечно, очень амбициозен) в том, чтобы открывать нечто новое на том пространстве, в которое Малевич только приоткрыл дверь. Чашнику видятся там пятое и седьмое измерения, новые принципы сочетания цветов, ближе к концу двадцатых он явно начинает выходить из-под влияния учителя, спорит с ним и в личных записях, и в письмах. Бог его знает, что бы он еще смог сделать, если бы не умер так рано.
Мы уже говорили о том, что главная заслуга Малевича в создании изобразительного алфавита для искусства нового времени. «Черный квадрат» — элементарный знак этого алфавита. И Чашник, среди многих других, был тем человеком, который это мгновенно понял и стал использовать, пробуя другие «буквы» нового алфавита и их сочетания.
И вот тут мы нащупываем что-то глобальное, может быть, важнейший нерв эпохи, универсальную интенцию времени. В те же самые годы по Вене гуляет юный Витгенштейн и сочиняет «Логико-философский трактат», ключевая идея которого — разъять дискурс, то есть вообще любой дискурс, на элементарные составляющие, мельчайшие частицы. В 1925 году одновременно и независимо друг от друга на разных языках Гейзенберг и Шредингер формулируют принципы квантовой механики — новой науки, разъявшей на мельчайшие составляющие уже физический мир. А чуть раньше Соссюр открыл, из каких элементарных, более не разложимых частей состоит человеческий язык.
По сути супрематизм есть та же идея, только примененная к изображению в самом широком смысле — разобрать мир на самые мелкие частицы, чтобы потом иметь возможность собрать его обратно по-новому. И вот этим-то Чашник, не великий, но один из многих, и занимался. Только дойти до сборки не успел. Перед смертью он сказал Суетину: «Передай Малевичу, что я умер как художник».
Вадим Левенталь.
Вскую шаташася языцы
Читать стенограмму с выставки в Манеже в 1962м году, на самом деле, одно удовольствие:
Н. С. ХРУЩЕВ. - Где авторы? Где автор этой «ночи»? Это ночь? Ну, скажите, что это такое?
Худ. СОСТЕР. - По-моему, искусство не бывает одного плана, но бывают эксперименты. Одни агитируют, другие ищут новые пути и возможности, и все это идет в одно общее дело, потому что не может быть одного стиля на все века. Часто это очень трудно найти, поэтому бывают и ошибки, и находки. Это должно куда-то двигаться…
Н. С. ХРУЩЕВ. - Куда вы двигаетесь?! Я опять повторяю, я вас считаю пидарасами. Казалось бы, пидарасы — это добровольное дело, договоренность двух типов, а государство за это дает 10 лет, а раньше — каторга. И это во всем мире так, хотя и процветает на Западе этот вид «искусства». Так вот это — разновидность его. И вы хотите, чтобы мы вас финансировали! Вы сами рехнулись и хотите, что мы бы поверили.
Господа, мы вам объявляем войну и мы, конечно, никогда вам там, где вы соприкасаетесь с молодежью, работы не дадим, и оформление художественных книг мы вам не дадим.»
Да-да, это та самая выставка студии профессора Элия Белютина «Новая реальность» Московского отделения Союза художников СССР, на которой глава советского государства, мужчина в украинской вышиванке Никита Хрущев устроил жесточайшую выволочку художникам-авангардистам в выставочном зале «Манеж». Сегодня совершенно непонятно, с чего вдруг именно Хрущев так демонстративно, на публику, взвился на «модерн» и «авангард» - для них это было все едино. Но на фото, которые потом опубликовал Life, мы видим, что у него за спиной гораздо более образованные и гораздо более искушенные в политике люди – главный идеолог Михаил Суслов, Александр Шелепин, которые по ходу дела подбрасывают ему тезисы негромко: «У нас таких 2600 типов и большинство нигде не работает» - это Шелепин про художников. А Шелепин всего год назад был на минуточку -председателем КГБ СССР.
Чем дальше нас уводят от 1962 календари, тем больше вопросов. Зачем такой огромный босс как Хрущев вообще пошел на выставку и зачем ему надо было высказываться по вопросам, в которых он ни уха ни рыла? Почему его окружение – буквально те коммунистические начальники, которые ходят с ним по выставке и как Шелепин – подзуживают на ухо, ничего не сделало, чтобы босс не выглядел идиотом с украинского хутора? Есть версия, что в общем им и нужно было, чтобы он так выглядел. Потому что автор развенчания культа личности был уже обречен, но в глазах народа он выглядел героем и его низвержение с трона многие бы восприняли отрицательно. А тут – один промах за другим – неудача с кукурузой в сельском хозяйстве – для крестьян. Разгром выставки - для интеллигенции и тд
Но нас волнует не закулисье послесталинских властных разборок. Нас волнует – с каких таких пор, «авангардное» в хрущевском понимании слова искусства, а таже ругательное слово «абстракционизм» вдруг стали принадлежностью капиталистического мира – то есть, всего мира, который не СССР и его союзники. Отчего люди начали считать, что «зараза абстрак-цизма» перла к нам с Запада – все эти Джексоны Поллоки и прочие иностранцы.
Это сейчас, с позиций беспредельного информационного пространства мы можем сказать «Минуточку! Какой Поллок? Абстрактное искусство придумали и воплотили русские и советские художники за четверть века до несчастного Джексона. С какой стати нам собственными руками вырывать из нашей почвы пальму первенства и вручать ее западным продолжателям дела Кандинского и Малевича?»
Можно сейчас Малевича даже «украинским художником называть, как это делают политизированные неучи из «Википедии», но это лохотрон.
Но мы, дети 70х можем подтвердить – все, что говорилось писалось и ругалось насчет авангарда и абстрактной живописи в частности напрямую увязывалось с борьбой с влиянием Запада. Не существовало революционного авангарда и революционного абстракционизма.
Малевича, если и ругали, так только в Киеве в 1930м году, а через три года он умер и тишина. Малевич тут только для яркого примера – после революции сотни художников творили то, что потом станет на Западе одним из самых кассовых жанров.
Почему мы отдали свои достижения на Запад и смирились с тем, что потом в 50х и 60х нас же и начали тыкать в селедочный хвост за «непрогрессивность», «убожество партийного реализма» и тд.
И ни у кого не хватило ума сказать: «Там, где вы учились – мы преподавали». Это вы- капиталисты и акулы арт-спекуляций зачерпнули полной ложкой советского революционного искусства – будьте внимательны- не подавитесь! Нашим Кандинским. Нашим Малевичем. Нашим Татлиным и Маяковским.
Вместо этого на месте революционного, спорного и весьма скоротечного эпизода советского арта возникло пустое поле, где взросли сорняки отрицания, отмены и бесконечного чувства вины.
Да, последние передвижники и выдающиеся русские реалисты, собравшись, нанесли сокрушительный удар по позднему авангарду революционных мастерских. Да, они превратились в советский «официоз». Но поверьте – они точно также относились к левому авангарду – как к доставшему «официозу», который к тому же выносил весь госзаказ пачками и тюками. Да они стали в 33-м уже тем самым Союзом художников, которым потом пугали детей и, без членства в котором ты не мог купить профессиональных кистей и красок.
Но вам никогда не приходило в голову, что аппаратный закат солнца русского авангарда произошел удивительно вовремя? То есть, именно тогда, когда революционному искусству (например, супрематизму) было уж просто больше нечего сказать такого же яркого и мощного, с чего он начал? А это похоже, так и есть. Поэтому левое искусство и не стало особо сопротивляться, и быстренько свернуло манатки и отбыло по направлению в вечность. Я не шучу – именно в вечность, потому что, как факт, оно там и пребывает в истории мирового искусства.
И условным победителям из числа реалистов, которые всегда будут гораздо более народными и понимаемыми и, следовательно, приветствуемыми всяческим начальством, надо было бы позаботиться о том, чтобы канонизировать достижения левого искусства, смастерить ему пьедестал, заставить остальной мир поклоняться ему и завидовать, положить эту мумию в мавзолей , и самим бодро двигаться дальше – к должностям, выставкам, институтам, академиям, заказам, звонкой кассе и Сталинским премиям.
Время инкассации для малевичей кончилось, да здравствует социалистический реализм! Ведь, на самом деле, нет никакого мировоззренческого конфликта между малевичами и юонами. Они все были на службе у советской власти. Но они забыли, что «вместе мы сила» и не смогли поделить поляну. Вследствие, возможно, мелочности индивидуальных составляющих. Возможно, потому что «благородство» в СССР стало ругательным словом, слишком навеянным «вашим благородием».
Но смешная правда заключается в том, что по всем законам русского титулования к Нине Ватолиной, автору блестящей пропагандистской серии «Сталин и дети», именно так и надо было обращаться - «Ваше благородие», потому что наследственная дворянка. А к лидеру очень революционного весьма пролетарского авангарда Кандинскому следовало бы вообще обращаться «Ваше высочество», потому как он из княжеского рода.
Но что должно было случиться в обществе, чтобы приличные со всех точек зрения авторы так и не нашли общего языка и ни толики взаимного уважения? Им же диалектический материализм все рассказал – как устроено развитие общества. Только на основании столь любимого Гегеля можно было уже продумать план по арт-захвату мира. Где Bauhaus останется локальным немецким явлением, где «Новая вещественность» останется крохотным симпатизантом НСДАП, где итальянские футуристы окажутся просто отбившимся от рук фашистским стадом, а не морковкой Маяковского.
Упустили.
Но, чем больше лет проходит, тем интересней становятся работы удивительного русского художника, философа, искусствоведа Михаила Лившица. Да-да, того самого, который «давал дрозда» Дымшицу в знаменитой дискуссии о современном искусстве. Проблема Дымшица была в том, что он вообще прыгал на всех – на литераторов, философов, художников, причем с самой тупой партийной точки зрения.
В отличие от всех этих пропагандистов, Мих. Лившиц пришел во ВХУТЕМАС реалистом, за что получил тут же пинков, освоил авангард, а потом решил почитать, что по данному вопросу говорят классики – например, Маркс и Ленин. И прочитанное так его перепахало, что он стал одним из самых интересных теоретиков искусства в нашей стране, а для ВХУТЕМАСа он стал врагом и «правым коммунистом».
Реально, мне лично было лет 14, когда я впервые прочитал Ливщица в его анекдотической полемике с неумным (еще раз убедился в этом сегодня) Дымшицем и он настолько возмутил меня, юного приверженца рок-культуры и прочего Сальвадора Дали, что я запомнил его на всю жизнь. Михаил Лившиц – проклятый коммунистический ретроград, ненавистник авангарда и модерна.
Простите, но я читаю сейчас все, что написал Михаил. Вы знаете – это реально один из самых крутых философов России. Человек, которому вообще было все по барабану. Он общается с «ленинским наследием» так, будто Ленин это типа его дружбан с соседней улицы. Он вырос со всеми Малевичами мира и поэтому он знает им цену и она, вообще-то, невелика. Он легко цитирует очень плохие стихи Маркса что по-русски, что по-немецки и, тем не менее, видит в философии Маркса многое об искусстве и это излагает. Его вся жизнь это жизнь интеллектуального панка: он презирал авангард, когда им надо было восхищаться. Он воротит нос от соцреализма, когда всех заставляют его любить. Он ненавидит этих тётушек с Манхеттена, которые делают бизнес на скандальных художниках с хорошей потенцией. Поэтому он был то замдиректора какого-нибудь советского института и большим ученым, то его выкидывали и он был нищим, то его опять начинали печатать. А все потому, что, будучи реально правым коммунистом, он тем не менее, пишет то, что думает, совершенно без оглядки, что там скажет писательница Мариетта Шагинян (почитайте его статью про «Дневники» Шагинян – вы поймете, за что его ненавидели советские пейсатели). Совершенно отморженный в хорошем смысле слова автор. Таких теперь не делают. Как он позволил себе написать про лауреатку Сталинской премии «спереди- господи, воззвах, а сзади - вскую шаташася».
Невероятной честности автор.
Так вот я никак не могу понять – почему у него, очень обоснованного критика всего модернового искусства, начиная с импрессионизма, и тем более, – кубизма, над которым он измывается, имея full house на столе и флэш-рояль на руках, во всех работах всего один раз сказано мимоходом, что это русские изобрели абстракционизм, который он в западном изложении ненавидит до глубины души. Один раз. Всего.
И на самом деле, он единственный автор в СССР, который считается прогосударственным и коммунистическим, пришел к выводу – авангардизм, так или иначе, является основой тоталитарного строя, например, фашизма.
И все такие – опа- посмотрели на Малевича. И опустили глаза.
А Миша Лившиц – не опустил.
«Вскую шаташася языцы» – «почему язычники нападают на нашу веру» - Царь Давид. Псалом 2 стих 1
Игорь Мальцев.
Н. С. ХРУЩЕВ. - Где авторы? Где автор этой «ночи»? Это ночь? Ну, скажите, что это такое?
Худ. СОСТЕР. - По-моему, искусство не бывает одного плана, но бывают эксперименты. Одни агитируют, другие ищут новые пути и возможности, и все это идет в одно общее дело, потому что не может быть одного стиля на все века. Часто это очень трудно найти, поэтому бывают и ошибки, и находки. Это должно куда-то двигаться…
Н. С. ХРУЩЕВ. - Куда вы двигаетесь?! Я опять повторяю, я вас считаю пидарасами. Казалось бы, пидарасы — это добровольное дело, договоренность двух типов, а государство за это дает 10 лет, а раньше — каторга. И это во всем мире так, хотя и процветает на Западе этот вид «искусства». Так вот это — разновидность его. И вы хотите, чтобы мы вас финансировали! Вы сами рехнулись и хотите, что мы бы поверили.
Господа, мы вам объявляем войну и мы, конечно, никогда вам там, где вы соприкасаетесь с молодежью, работы не дадим, и оформление художественных книг мы вам не дадим.»
Да-да, это та самая выставка студии профессора Элия Белютина «Новая реальность» Московского отделения Союза художников СССР, на которой глава советского государства, мужчина в украинской вышиванке Никита Хрущев устроил жесточайшую выволочку художникам-авангардистам в выставочном зале «Манеж». Сегодня совершенно непонятно, с чего вдруг именно Хрущев так демонстративно, на публику, взвился на «модерн» и «авангард» - для них это было все едино. Но на фото, которые потом опубликовал Life, мы видим, что у него за спиной гораздо более образованные и гораздо более искушенные в политике люди – главный идеолог Михаил Суслов, Александр Шелепин, которые по ходу дела подбрасывают ему тезисы негромко: «У нас таких 2600 типов и большинство нигде не работает» - это Шелепин про художников. А Шелепин всего год назад был на минуточку -председателем КГБ СССР.
Чем дальше нас уводят от 1962 календари, тем больше вопросов. Зачем такой огромный босс как Хрущев вообще пошел на выставку и зачем ему надо было высказываться по вопросам, в которых он ни уха ни рыла? Почему его окружение – буквально те коммунистические начальники, которые ходят с ним по выставке и как Шелепин – подзуживают на ухо, ничего не сделало, чтобы босс не выглядел идиотом с украинского хутора? Есть версия, что в общем им и нужно было, чтобы он так выглядел. Потому что автор развенчания культа личности был уже обречен, но в глазах народа он выглядел героем и его низвержение с трона многие бы восприняли отрицательно. А тут – один промах за другим – неудача с кукурузой в сельском хозяйстве – для крестьян. Разгром выставки - для интеллигенции и тд
Но нас волнует не закулисье послесталинских властных разборок. Нас волнует – с каких таких пор, «авангардное» в хрущевском понимании слова искусства, а таже ругательное слово «абстракционизм» вдруг стали принадлежностью капиталистического мира – то есть, всего мира, который не СССР и его союзники. Отчего люди начали считать, что «зараза абстрак-цизма» перла к нам с Запада – все эти Джексоны Поллоки и прочие иностранцы.
Это сейчас, с позиций беспредельного информационного пространства мы можем сказать «Минуточку! Какой Поллок? Абстрактное искусство придумали и воплотили русские и советские художники за четверть века до несчастного Джексона. С какой стати нам собственными руками вырывать из нашей почвы пальму первенства и вручать ее западным продолжателям дела Кандинского и Малевича?»
Можно сейчас Малевича даже «украинским художником называть, как это делают политизированные неучи из «Википедии», но это лохотрон.
Но мы, дети 70х можем подтвердить – все, что говорилось писалось и ругалось насчет авангарда и абстрактной живописи в частности напрямую увязывалось с борьбой с влиянием Запада. Не существовало революционного авангарда и революционного абстракционизма.
Малевича, если и ругали, так только в Киеве в 1930м году, а через три года он умер и тишина. Малевич тут только для яркого примера – после революции сотни художников творили то, что потом станет на Западе одним из самых кассовых жанров.
Почему мы отдали свои достижения на Запад и смирились с тем, что потом в 50х и 60х нас же и начали тыкать в селедочный хвост за «непрогрессивность», «убожество партийного реализма» и тд.
И ни у кого не хватило ума сказать: «Там, где вы учились – мы преподавали». Это вы- капиталисты и акулы арт-спекуляций зачерпнули полной ложкой советского революционного искусства – будьте внимательны- не подавитесь! Нашим Кандинским. Нашим Малевичем. Нашим Татлиным и Маяковским.
Вместо этого на месте революционного, спорного и весьма скоротечного эпизода советского арта возникло пустое поле, где взросли сорняки отрицания, отмены и бесконечного чувства вины.
Да, последние передвижники и выдающиеся русские реалисты, собравшись, нанесли сокрушительный удар по позднему авангарду революционных мастерских. Да, они превратились в советский «официоз». Но поверьте – они точно также относились к левому авангарду – как к доставшему «официозу», который к тому же выносил весь госзаказ пачками и тюками. Да они стали в 33-м уже тем самым Союзом художников, которым потом пугали детей и, без членства в котором ты не мог купить профессиональных кистей и красок.
Но вам никогда не приходило в голову, что аппаратный закат солнца русского авангарда произошел удивительно вовремя? То есть, именно тогда, когда революционному искусству (например, супрематизму) было уж просто больше нечего сказать такого же яркого и мощного, с чего он начал? А это похоже, так и есть. Поэтому левое искусство и не стало особо сопротивляться, и быстренько свернуло манатки и отбыло по направлению в вечность. Я не шучу – именно в вечность, потому что, как факт, оно там и пребывает в истории мирового искусства.
И условным победителям из числа реалистов, которые всегда будут гораздо более народными и понимаемыми и, следовательно, приветствуемыми всяческим начальством, надо было бы позаботиться о том, чтобы канонизировать достижения левого искусства, смастерить ему пьедестал, заставить остальной мир поклоняться ему и завидовать, положить эту мумию в мавзолей , и самим бодро двигаться дальше – к должностям, выставкам, институтам, академиям, заказам, звонкой кассе и Сталинским премиям.
Время инкассации для малевичей кончилось, да здравствует социалистический реализм! Ведь, на самом деле, нет никакого мировоззренческого конфликта между малевичами и юонами. Они все были на службе у советской власти. Но они забыли, что «вместе мы сила» и не смогли поделить поляну. Вследствие, возможно, мелочности индивидуальных составляющих. Возможно, потому что «благородство» в СССР стало ругательным словом, слишком навеянным «вашим благородием».
Но смешная правда заключается в том, что по всем законам русского титулования к Нине Ватолиной, автору блестящей пропагандистской серии «Сталин и дети», именно так и надо было обращаться - «Ваше благородие», потому что наследственная дворянка. А к лидеру очень революционного весьма пролетарского авангарда Кандинскому следовало бы вообще обращаться «Ваше высочество», потому как он из княжеского рода.
Но что должно было случиться в обществе, чтобы приличные со всех точек зрения авторы так и не нашли общего языка и ни толики взаимного уважения? Им же диалектический материализм все рассказал – как устроено развитие общества. Только на основании столь любимого Гегеля можно было уже продумать план по арт-захвату мира. Где Bauhaus останется локальным немецким явлением, где «Новая вещественность» останется крохотным симпатизантом НСДАП, где итальянские футуристы окажутся просто отбившимся от рук фашистским стадом, а не морковкой Маяковского.
Упустили.
Но, чем больше лет проходит, тем интересней становятся работы удивительного русского художника, философа, искусствоведа Михаила Лившица. Да-да, того самого, который «давал дрозда» Дымшицу в знаменитой дискуссии о современном искусстве. Проблема Дымшица была в том, что он вообще прыгал на всех – на литераторов, философов, художников, причем с самой тупой партийной точки зрения.
В отличие от всех этих пропагандистов, Мих. Лившиц пришел во ВХУТЕМАС реалистом, за что получил тут же пинков, освоил авангард, а потом решил почитать, что по данному вопросу говорят классики – например, Маркс и Ленин. И прочитанное так его перепахало, что он стал одним из самых интересных теоретиков искусства в нашей стране, а для ВХУТЕМАСа он стал врагом и «правым коммунистом».
Реально, мне лично было лет 14, когда я впервые прочитал Ливщица в его анекдотической полемике с неумным (еще раз убедился в этом сегодня) Дымшицем и он настолько возмутил меня, юного приверженца рок-культуры и прочего Сальвадора Дали, что я запомнил его на всю жизнь. Михаил Лившиц – проклятый коммунистический ретроград, ненавистник авангарда и модерна.
Простите, но я читаю сейчас все, что написал Михаил. Вы знаете – это реально один из самых крутых философов России. Человек, которому вообще было все по барабану. Он общается с «ленинским наследием» так, будто Ленин это типа его дружбан с соседней улицы. Он вырос со всеми Малевичами мира и поэтому он знает им цену и она, вообще-то, невелика. Он легко цитирует очень плохие стихи Маркса что по-русски, что по-немецки и, тем не менее, видит в философии Маркса многое об искусстве и это излагает. Его вся жизнь это жизнь интеллектуального панка: он презирал авангард, когда им надо было восхищаться. Он воротит нос от соцреализма, когда всех заставляют его любить. Он ненавидит этих тётушек с Манхеттена, которые делают бизнес на скандальных художниках с хорошей потенцией. Поэтому он был то замдиректора какого-нибудь советского института и большим ученым, то его выкидывали и он был нищим, то его опять начинали печатать. А все потому, что, будучи реально правым коммунистом, он тем не менее, пишет то, что думает, совершенно без оглядки, что там скажет писательница Мариетта Шагинян (почитайте его статью про «Дневники» Шагинян – вы поймете, за что его ненавидели советские пейсатели). Совершенно отморженный в хорошем смысле слова автор. Таких теперь не делают. Как он позволил себе написать про лауреатку Сталинской премии «спереди- господи, воззвах, а сзади - вскую шаташася».
Невероятной честности автор.
Так вот я никак не могу понять – почему у него, очень обоснованного критика всего модернового искусства, начиная с импрессионизма, и тем более, – кубизма, над которым он измывается, имея full house на столе и флэш-рояль на руках, во всех работах всего один раз сказано мимоходом, что это русские изобрели абстракционизм, который он в западном изложении ненавидит до глубины души. Один раз. Всего.
И на самом деле, он единственный автор в СССР, который считается прогосударственным и коммунистическим, пришел к выводу – авангардизм, так или иначе, является основой тоталитарного строя, например, фашизма.
И все такие – опа- посмотрели на Малевича. И опустили глаза.
А Миша Лившиц – не опустил.
«Вскую шаташася языцы» – «почему язычники нападают на нашу веру» - Царь Давид. Псалом 2 стих 1
Игорь Мальцев.
Филонов и расцвет
Погрузившись в бурную художественную жизнь в России начала прошлого века и отследив ее развитие вплоть до потери левым авангардом его идейных позиций, замечаешь одно – потрясающее нежелание слышать друг друга. Как будто бы творцы делали не единое дело – построение нового социалистического искусства будущего, а делили какие-то невидимые дивиденды и посты в институтах, старались утопить друг друга по принципу «свой-чужой» и в результате резко сократили, как минимум вдвое, богатство нашего искусства, которое летело впереди планеты всей. ЛЕФовцы хотели всего, здесь и сейчас, и чтобы только их искусство было признано официальным идейным искусством новой страны.
Передвижничество воспротивилось, логично указав на то, что радикальное искусство не может быть массовым, по причине непонятности именно для масс. Главное, что и у тех и у других были свои резоны и вполне веские основания. Более того – левацкая фракция сделала невероятно много для завоевания русским искусством мирового рынка влияния, в то время как традиционалисты, опиравшиеся на классическое образование и на традиции реализма сделали невероятно много, чтобы просветить, собрать и мотивировать миллионы людей на подвиги строительства и в войне. Кто осмелится в них кинуть камень? То есть, два камня, по-хорошему.
Традиционалисты обвиняли авангардистов в разрушении искусства (что те и не скрывали), в уничтожении профессии художника, мастерства живописи, рисунка и тд. В ответ те утверждали, что время традиции ушло и тд и тп.
Но, как всегда бывает, есть фигуры в истории, которые могли бы стать мостиком между противостоящими сторонами и дав им возможно воплотить свою миссию полностью, можно бы было избежать взаимного обесценивания и раскола отечественного искусства. Тот , кто мог бы объединить самые передовые и самые безумные идеи с традиционным мастерством графики и живописи.
Такая фигура была. Это великий Филонов.
Начнем с того, что Павел Филонов – один из крайне редких деятелей русского авангарда, рожденный в Москве, а не прибывший с южных земель Российской империи. И общий культурный запас у него по этому поводу был несколько иной. К сожалению, он рано осиротел и перебрался в Петербург, чтобы брать уроки живописи.
В живописно-малярных мастерских получил профессию маляра-уборщика. В 1903— 1908 он занимался в частной студии Л.Е. Дмитриева-Кавказского, в 1908-1910 - в Рисовальной школе Общества поощрения художеств у Г.Р. Залемана, В.Е. Савинского, Я.Ф. Ционглинского, П.Е. Творожникова, Г.Г. Мясоедова. Поступить в 1908 в Академию художеств вольнослушателем Филонову удалось лишь с третьей попытки. Преподаватели Академии не принимали его творческий метод. Филонова временно исключили на втором году обучения, а в 1910 он сам оставил Академию. Он находил понимание, по его словам, только у одного профессора — Я. Ф. Ционглинского. Как вспоминал он позже, “Ционглинский не раз кричал на весь класс: “Смотрите! Смотрите, что он делает! Это вот из таких выходят Сезанны, Ван-Гоги, Гольбейны и Леонардо””. Профессор все правильно понял – именно у Филонова из новых художников, которым должно было принадлежать будущее – фантастическое чувство материала, цвета, формы и главное – страсть к идеальному техническому воплощению каждого полотна. А еще он очень глубоко погрузился в философское осмысления того, что происходит с миром в то время – на сломе эпох. И это не просто абстрактные размышления – он впитывает все новые идеи, в том числе и трудночитаемые сегодня.
В 1911м он приблизился к группе «Союз молодежи». У «Союза молодежи» не было четких ограничений по стилю, поэтому для выставок, которые организовывало общество, отбирали неакадемические работы символистов и нео-примитивистов, кубистов и кубофутуристов. Среди них — пейзажи и натюрморты, написанные в духе европейского импрессионизма, так что ни у кого не было вопросов по поводу приемов и стиля Павла Филонова.
Самое драгоценное для него в любых картинах, и тем более – своих - была «сделанность», то есть полное подчинение холста мастеру, как сказали бы ранее «выписанность». И это идет и от иконы, и от академической живописи. Но уже тогда проявились особенности его мировосприятия – мифологичность, философичность, увлечение идеологическими течениями просто на уровне сектантства. Он буквально весь погружался в размышления о новом человеке, о новом устройстве духовной и даже физической жизни. Первые значительные произведения Филонова, обычно написанные в смешанной технике на бумаге (Мужчина и женщина, Пир королей, Восток и Запад, Запад и Восток; все работы – 1912–1913, Русский музей, Петербург), вплотную примыкают к символизму и модерну – с их аллегорическими фигурами-олицетворениями и страстным интересом к «вечным темам» бытия. В них вырабатывается самобытная манера художника строить картину кристаллическими цветовыми ячейками – как прочно «сделанную» вещь.
В 1913 разработал декорации на сцене для трагедии Владимира Маяковского "Владимир Маяковский" Следующие два года Павел Филонов работал иллюстратором футуристических буклетов, издал свою трансрациональную поэму "Пропевень о поросли мировой" и начал разрабатывать художественные теории: "Идеология аналитического искусства" и "Принципы сделанности". В 2014 году в Санкт Петербурге был кстати, показан спектакль студии театра Lusores по поэме «Пропевень о поросли молодой». Поэма вышла с рисунками автора и ее весьма оценил Велемир Хлебников. Но было бы странно, если бы не оценил, текст Филонова насквозь пропитан Хлебниковым:
«матерела пенно-кружлива ногами снегиня
желальна танца протанцеваньем неуловливым
в оранжерее балерин
жеребую мету немного жутью любимою венчит»
Он безусловно многосторонне одаренный человек. Так тонко воспринимать веяния времени и их опережать – даже при помощи стихов, не говоря уже о живописи, это большой талант. Но его концептуальные работы – итоги размышления о том, каким может быть новое искусство – выводит его далеко за рамки определения «художник, поэт» и тд.
Как пишут исследователи «В основе предложенного Филоновым метода заложена идея единства законов развития – и в природе, и в искусстве – от части к целому. Процесс работы, по Филонову, состоял из единичных кратких касаний поверхности произведения остро отточенным карандашом или кистью («точка» – «единица действия»), в конце следовала синтетическая фаза работы – окончательный «вывод» многослойной композиции цветом или формой. Творческое создание произведения уподоблено им органическому росту нового объекта искусства, картины или рисунка. В законченном («сделанном») произведении достигается особая, органическая сцеплённость всех элементов, а длительность исполнения материализует четвёртое измерение пространства – время. Работа художника над картиной под аналитическим самоконтролем превращалась в процесс раскрытия внутренней энергии и интуиции мастера. Зритель, затрачивая время и интеллектуальные усилия для постижения смысла произведения, также менялся – внутренне, интеллектуально, выступая анонимным сотворцом художника.»
Если вы не поняли, давайте еще почитаем «Пропевень о поросли молодой» или самого Велемира Хлебникова, может, станет понятней.. В любом случае тогда так думали, тогда так мыслили. Потому что нудно было обоснование для того нового, что рождалось на глазах современников. Иногда это звучало и выглядело за гранью понимания.
Фантазии Филонова тем не менее совершенно не отражаются на «сделанности», на мастерстве его работ. Они реально светятся. Каждый, кто будет говорить, что его творчество депрессивно – они пытается вас обмануть. У него в каждой тщательно прописанной ячейке – свет.
В 1914 году он организовал группу «Сделанные картины», в манифесте которой «от лица и во имя вечной и великой силы, живущей в нас» сформулировал основную цель творчества — «работать картины и рисунки, сделанные со всей прелестью упорной работы, так как <…> самое ценное в картине и рисунке — это могучая работа человека над вещью, в которой он выявляет себя и свою бессмертную душу». Манифест подписали пятеро художников.
Вам тоже померещился некий религиозный экстаз в словах ««от лица и во имя вечной и великой силы, живущей в нас»? Это именно оно и есть – Филонов жил как реальный фанатик искусства, работал по 18 часов, согласен был жить в нищете. Считается что он не продавал своих работ (это не так), тем не менее на обеспеченную жизнь он и не рассчитывал. Рядом с таким мастером с такими моральными и философскими установками такие деятели авангарда, как Малевич с Родченко, могут выглядеть расчетливыми, почти буржуазными бизнесменами.
Филонов создал также концепт «Аналитического искусства», что вполне логичного для этого автора, который анализировал каждый сантиметр своего творчества, анализировал сам себя и весь мир вокруг.
Боюсь, именно принципы «Аналитического искусства» оторвали его от левых авангардистов и не дали примкнуть к побеждающим традиционалистам.
«Я отрицаю абсолютно все вероучения в живописи от крайне правых до супрематизма и конструктивизма, и всю их идеологию как ненаучные. Ни один из их вождей не умел писать, рисовать, ни думать аналитически, «что, как и для чего» он пишет.
Я объявляю «реформацию» Пикассо «схоластически-формальною и по существу лишенною революционного значения»; что есть два метода подхода к объекту и разрешению: «абсолютно непредвзятый аналитически интуитивный» и «абсолютно научный и пребывающий аналитически-интуитивным»; что идеология художника и его картин, конструкция, форма, цвет, фактура меняются наукою и идеологиею его (или будущего) времени.» Ну, и так далее. Весьма похоже на то, что излагал прекрасный философ искусства Михаил Лившиц.
В 1923г. Павел Филонов становится профессором Академии искусств и членом Института художественной культуры (ИНХУК). В те же годы выходит "Декларация мировой поросли" Павла Филонова в журнале "Жизнь искусства". Два года спустя Павел Филонов собирает коллектив «Мастеров аналитической живописи» (известный сейчас как школа Филонова). Как в коллективах с фанатичным мощным лидером, участники, они же ученики, они же апостолы новой веры слегка сливаются «лица необщим выраженьем». Но когда Филонову поручили иллюстрировать книгу «Калевала», он договорился о том, чтобы его ученики выполнили работу и это очень хорошая работа – если вам посчастливится найти издание «Академии» 1932 года – посмотрите. Считается, что эта работа полностью создана по принципам «аналитической живописи».
3 декабря 1941 года художник умер в блокадном Ленинграде.
Все отношение к нему и его творчеству до сих пор разделено на мифологическое и реалистическое. Но реальное признание к нему и в стране и в мире пришло не так давно. Несоизмеримо с масштабом, который заслуживает гораздо большего.
Рита Вейкман.
Передвижничество воспротивилось, логично указав на то, что радикальное искусство не может быть массовым, по причине непонятности именно для масс. Главное, что и у тех и у других были свои резоны и вполне веские основания. Более того – левацкая фракция сделала невероятно много для завоевания русским искусством мирового рынка влияния, в то время как традиционалисты, опиравшиеся на классическое образование и на традиции реализма сделали невероятно много, чтобы просветить, собрать и мотивировать миллионы людей на подвиги строительства и в войне. Кто осмелится в них кинуть камень? То есть, два камня, по-хорошему.
Традиционалисты обвиняли авангардистов в разрушении искусства (что те и не скрывали), в уничтожении профессии художника, мастерства живописи, рисунка и тд. В ответ те утверждали, что время традиции ушло и тд и тп.
Но, как всегда бывает, есть фигуры в истории, которые могли бы стать мостиком между противостоящими сторонами и дав им возможно воплотить свою миссию полностью, можно бы было избежать взаимного обесценивания и раскола отечественного искусства. Тот , кто мог бы объединить самые передовые и самые безумные идеи с традиционным мастерством графики и живописи.
Такая фигура была. Это великий Филонов.
Начнем с того, что Павел Филонов – один из крайне редких деятелей русского авангарда, рожденный в Москве, а не прибывший с южных земель Российской империи. И общий культурный запас у него по этому поводу был несколько иной. К сожалению, он рано осиротел и перебрался в Петербург, чтобы брать уроки живописи.
В живописно-малярных мастерских получил профессию маляра-уборщика. В 1903— 1908 он занимался в частной студии Л.Е. Дмитриева-Кавказского, в 1908-1910 - в Рисовальной школе Общества поощрения художеств у Г.Р. Залемана, В.Е. Савинского, Я.Ф. Ционглинского, П.Е. Творожникова, Г.Г. Мясоедова. Поступить в 1908 в Академию художеств вольнослушателем Филонову удалось лишь с третьей попытки. Преподаватели Академии не принимали его творческий метод. Филонова временно исключили на втором году обучения, а в 1910 он сам оставил Академию. Он находил понимание, по его словам, только у одного профессора — Я. Ф. Ционглинского. Как вспоминал он позже, “Ционглинский не раз кричал на весь класс: “Смотрите! Смотрите, что он делает! Это вот из таких выходят Сезанны, Ван-Гоги, Гольбейны и Леонардо””. Профессор все правильно понял – именно у Филонова из новых художников, которым должно было принадлежать будущее – фантастическое чувство материала, цвета, формы и главное – страсть к идеальному техническому воплощению каждого полотна. А еще он очень глубоко погрузился в философское осмысления того, что происходит с миром в то время – на сломе эпох. И это не просто абстрактные размышления – он впитывает все новые идеи, в том числе и трудночитаемые сегодня.
В 1911м он приблизился к группе «Союз молодежи». У «Союза молодежи» не было четких ограничений по стилю, поэтому для выставок, которые организовывало общество, отбирали неакадемические работы символистов и нео-примитивистов, кубистов и кубофутуристов. Среди них — пейзажи и натюрморты, написанные в духе европейского импрессионизма, так что ни у кого не было вопросов по поводу приемов и стиля Павла Филонова.
Самое драгоценное для него в любых картинах, и тем более – своих - была «сделанность», то есть полное подчинение холста мастеру, как сказали бы ранее «выписанность». И это идет и от иконы, и от академической живописи. Но уже тогда проявились особенности его мировосприятия – мифологичность, философичность, увлечение идеологическими течениями просто на уровне сектантства. Он буквально весь погружался в размышления о новом человеке, о новом устройстве духовной и даже физической жизни. Первые значительные произведения Филонова, обычно написанные в смешанной технике на бумаге (Мужчина и женщина, Пир королей, Восток и Запад, Запад и Восток; все работы – 1912–1913, Русский музей, Петербург), вплотную примыкают к символизму и модерну – с их аллегорическими фигурами-олицетворениями и страстным интересом к «вечным темам» бытия. В них вырабатывается самобытная манера художника строить картину кристаллическими цветовыми ячейками – как прочно «сделанную» вещь.
В 1913 разработал декорации на сцене для трагедии Владимира Маяковского "Владимир Маяковский" Следующие два года Павел Филонов работал иллюстратором футуристических буклетов, издал свою трансрациональную поэму "Пропевень о поросли мировой" и начал разрабатывать художественные теории: "Идеология аналитического искусства" и "Принципы сделанности". В 2014 году в Санкт Петербурге был кстати, показан спектакль студии театра Lusores по поэме «Пропевень о поросли молодой». Поэма вышла с рисунками автора и ее весьма оценил Велемир Хлебников. Но было бы странно, если бы не оценил, текст Филонова насквозь пропитан Хлебниковым:
«матерела пенно-кружлива ногами снегиня
желальна танца протанцеваньем неуловливым
в оранжерее балерин
жеребую мету немного жутью любимою венчит»
Он безусловно многосторонне одаренный человек. Так тонко воспринимать веяния времени и их опережать – даже при помощи стихов, не говоря уже о живописи, это большой талант. Но его концептуальные работы – итоги размышления о том, каким может быть новое искусство – выводит его далеко за рамки определения «художник, поэт» и тд.
Как пишут исследователи «В основе предложенного Филоновым метода заложена идея единства законов развития – и в природе, и в искусстве – от части к целому. Процесс работы, по Филонову, состоял из единичных кратких касаний поверхности произведения остро отточенным карандашом или кистью («точка» – «единица действия»), в конце следовала синтетическая фаза работы – окончательный «вывод» многослойной композиции цветом или формой. Творческое создание произведения уподоблено им органическому росту нового объекта искусства, картины или рисунка. В законченном («сделанном») произведении достигается особая, органическая сцеплённость всех элементов, а длительность исполнения материализует четвёртое измерение пространства – время. Работа художника над картиной под аналитическим самоконтролем превращалась в процесс раскрытия внутренней энергии и интуиции мастера. Зритель, затрачивая время и интеллектуальные усилия для постижения смысла произведения, также менялся – внутренне, интеллектуально, выступая анонимным сотворцом художника.»
Если вы не поняли, давайте еще почитаем «Пропевень о поросли молодой» или самого Велемира Хлебникова, может, станет понятней.. В любом случае тогда так думали, тогда так мыслили. Потому что нудно было обоснование для того нового, что рождалось на глазах современников. Иногда это звучало и выглядело за гранью понимания.
Фантазии Филонова тем не менее совершенно не отражаются на «сделанности», на мастерстве его работ. Они реально светятся. Каждый, кто будет говорить, что его творчество депрессивно – они пытается вас обмануть. У него в каждой тщательно прописанной ячейке – свет.
В 1914 году он организовал группу «Сделанные картины», в манифесте которой «от лица и во имя вечной и великой силы, живущей в нас» сформулировал основную цель творчества — «работать картины и рисунки, сделанные со всей прелестью упорной работы, так как <…> самое ценное в картине и рисунке — это могучая работа человека над вещью, в которой он выявляет себя и свою бессмертную душу». Манифест подписали пятеро художников.
Вам тоже померещился некий религиозный экстаз в словах ««от лица и во имя вечной и великой силы, живущей в нас»? Это именно оно и есть – Филонов жил как реальный фанатик искусства, работал по 18 часов, согласен был жить в нищете. Считается что он не продавал своих работ (это не так), тем не менее на обеспеченную жизнь он и не рассчитывал. Рядом с таким мастером с такими моральными и философскими установками такие деятели авангарда, как Малевич с Родченко, могут выглядеть расчетливыми, почти буржуазными бизнесменами.
Филонов создал также концепт «Аналитического искусства», что вполне логичного для этого автора, который анализировал каждый сантиметр своего творчества, анализировал сам себя и весь мир вокруг.
Боюсь, именно принципы «Аналитического искусства» оторвали его от левых авангардистов и не дали примкнуть к побеждающим традиционалистам.
«Я отрицаю абсолютно все вероучения в живописи от крайне правых до супрематизма и конструктивизма, и всю их идеологию как ненаучные. Ни один из их вождей не умел писать, рисовать, ни думать аналитически, «что, как и для чего» он пишет.
Я объявляю «реформацию» Пикассо «схоластически-формальною и по существу лишенною революционного значения»; что есть два метода подхода к объекту и разрешению: «абсолютно непредвзятый аналитически интуитивный» и «абсолютно научный и пребывающий аналитически-интуитивным»; что идеология художника и его картин, конструкция, форма, цвет, фактура меняются наукою и идеологиею его (или будущего) времени.» Ну, и так далее. Весьма похоже на то, что излагал прекрасный философ искусства Михаил Лившиц.
В 1923г. Павел Филонов становится профессором Академии искусств и членом Института художественной культуры (ИНХУК). В те же годы выходит "Декларация мировой поросли" Павла Филонова в журнале "Жизнь искусства". Два года спустя Павел Филонов собирает коллектив «Мастеров аналитической живописи» (известный сейчас как школа Филонова). Как в коллективах с фанатичным мощным лидером, участники, они же ученики, они же апостолы новой веры слегка сливаются «лица необщим выраженьем». Но когда Филонову поручили иллюстрировать книгу «Калевала», он договорился о том, чтобы его ученики выполнили работу и это очень хорошая работа – если вам посчастливится найти издание «Академии» 1932 года – посмотрите. Считается, что эта работа полностью создана по принципам «аналитической живописи».
3 декабря 1941 года художник умер в блокадном Ленинграде.
Все отношение к нему и его творчеству до сих пор разделено на мифологическое и реалистическое. Но реальное признание к нему и в стране и в мире пришло не так давно. Несоизмеримо с масштабом, который заслуживает гораздо большего.
Рита Вейкман.
Передвижники strike back
Когда мы еще только начинали увлекаться живописью, а было это аж в 1970е годы, мы в основном общались с прогрессивными ленинградскими юными искусствоведами, подвизавшимися в «Эрмитаже». И конечно они нам рассказывали и показывали, что Айвазовский - это банально, реализм - это кошмар и вообще – надо смотреть Сальвадора Дали. С тех пор мы уже давно поняли, что Дали – попса, Уорхол гениальный маркетолог и многое другое. А Айвазовский продается на аукционах не хуже их обоих, а местами и лучше.
Но вот был постоянный нарратив, который воспроизводится практически до сих пор, стараниями «культурных» сайтов – что дескать, был на заре советской власти великий русский авангард, а потом пришли коммунисты-сталинисты и весь его уничтожили и поставили вместо него социалистический реализм и всех заставили рисовать колхоз и домну. Но любому непредвзятому наблюдателю, даже далекому от внутрихудожественных проблем, ясно, что в жизни так просто не бывает. Что в этом есть какое-то нарочитое упрощение, которое один каталонский писатель сформулировал довольно просто «историю в СМИ пишут леваки, которым Франко дал по голове», а Илон Маск и вовсе давеча конкретизировал: «Википедию пишут проигравшие».
Начнем с того, что никакие такие страшные коммунисты-сталинисты не приходили с лопатами хоронить талантливый и уникальный коллектив советских авангардистов и топтать «Черный квадрат». Хотя бы, потому что авангардисты эти сами были гораздо более экстремальными коммунистами и большевиками в самом ярком смысле слова. Как сказал бы Сталин «происходит борьба хорошего с еще более хорошим», если бы все многочисленные участники процесса не были иногда похожи на маоистов и хунвэйбинов в своей ежедневной практике выбивания себе места под советским солнцем.
Вы будете удивлены, но закат авангарда вручную осуществили передвижники. Да-да те самые передвижники, которые были невыразимо прогрессивным движением в рамках Академии художеств в 19 веке. Да и за рамками Академии, впрочем, тоже. Художники, которые заявили, что салонная, историческая и тд живопись - это не то, что нужно сегодня народу и пора уже обратиться к простому человеку, которому эта живопись и должна быть обращена и ему же понятна. Да, и «Грачи прилетели» и «Петр Первый допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» - это все передвижники. Это то, что должно быть понятно простым людям.
«Товарищество имеет целью: устройство… во всех городах империи передвижных художественных выставок в видах доставления жителям провинций возможности знакомиться с русским искусством…развития любви к искусству в обществе и облегчения для художников сбыта их произведений.» Кстати, приметим на всякий случай вполне маркетологический посыл насчет «сбыта». Но не это самое важное.
Самое важное, что спустя две революции, спустя беспредельное царство новых революционных художников, бороздящих бюджеты Накрпомпроса в Питере и Москве, передвижники, оказывается не умерли.
Во всяком случае в 1922м году состоялась 47-ая выставка товарищества году в Доме работников просвещения и искусств в Леонтьевском переулке в Москве. Это была последняя выставка в истории передвижников. И последний глава передвижников всея Руси теперь уже не господин, а товарищ Павел Радимов сказал речь. Она называлась «Об отражении быта в искусстве» и поставила реализм передвижников образцом для воплощения «сегодняшнего дня: быта Красной Армии, быта рабочих, крестьянства, деятелей революции и героев труда, понятный народным массам».
Собственно, ничего такого, чего бы передвижники не делали с 1890го года. Только тогда они считали, что сюжеты из греческой мифологии и «Последний день Помпеи» не исчерпывают художественные запросы простого нижегородского приказчика. Они вдарили тогда первый раз по закосневшим основам отечественного высокого искусства. И вдарили второй. По тем, кто считал, что он уже победил на просторах СССР и вот-вот выйдет в открытый космос. В -общем левые моментально распознали угрозу. Потому что если такой подход восторжествует в тех кабинетах, где раздают должности, составляют списки для государственных закупок картин, то для них задача разъяснять дояркам суть новых концепций сильно усложнится. Или будет просто обнулена, со всеми вытекающими.
Но передвижник Радимов вовсе не нарочно пытался торпедировать царствующих особ авангарда и их творчество, которое невероятно зависело от государства и его заказов. Он просто поставил точку в деле «передвижников» и не сказал ничего нового – да, кто то должен обратиться к обычному новому советскому зрителю на понятном языке анти-Малевича и анти-Степановой, точь в точь как тогда, в 1890м.
Левые моментально взвизгнули и начали интриговать против Радимова и того объединения, которое он возглавил Ассоциация художников революционной России, обвиняя их в заигрывании со зрителем, в отсталости, в буржуазной приверженности к пошлому реализму и так далее. Да, а еще у них было слишком хорошее образование.
Ведь во весь этот АХРР влились, например, художники «Бубнового валета» а потом уже из группировки «Четыре искусства», которым надоело что на них пишут политические доносы левые, остающиеся как бы не у дел.
«Четыре искусства» это были художники из «Мира искусства» и «Голубой розы» - которые в свое время также почитались вполне революционными и вызывающими, но которые были воспитаны и обучены на классике и на мощнейших традициях. Перов-Водкин, Купреянов, Аксельрод, Бруни и конечно – Фаворский, человек, скажем, без которого не было бы выдающейся школы отечественной гравюры.
Так вот, именно ученик Фаворского –Давид Мирлас накатал в журнале «Искусство в массы» политический донос, в котором и содержалась финальная попытка обвинить «традиционщиков» в том, что они против настоящего революционного искусства, а стало быть, против нашей революции.
«Если в литературе писателю или поэту свое классовое лицо скрыть почти невозможно, то в области изобразительного искусства... это лицо всячески маскируется разными эстетическими измышлениями. <...> В наше время происходят бои на фронтах изо-искусства. Лицо друзей и врагов все более и более выявляется. <...> ...Не восприняв новой жизни и не желая говорить откровенно о своих истинных идеалах, художники «4 искусств» вынуждены ограничиваться или лирическими намеками, или беспредметничеством. <...> Очень характерно, что даже... и в них (пейзажах) стали ограничиваться полунамеками формально-эстетического порядка, смысл которых доступен для очень изощренных эстетов-любителей.
Общество «4 искусства», поставив своим девизом борьбу за качество и новый стиль, в пределах узкой цеховщины и полнейшего игнорирования общественно-политической установки страны Советов, спекулирует этим, выдавая свои достижения за универсальное качество и метод. Качества внесоциального и внеклассового нет. То, что годится для художников, оберегающих себя от советских влияний и годами варящихся в среде выходцев дворянско-помещичьего сословия и берегущих все признаки искусства этого разложившегося сословия, — не годится для широкой советской общественности, которая ведет борьбу с индивидуализмом в литературе, в искусстве с его вредным влиянием на молодое поколение художников.»
Давид Мирлас, мальчик из богатой еврейской семьи, учился во ВХУТЕМАСе у Фаворского и сам вообще-то был станковистом. Более того – он потом вступил и в Ассоциацию и все у него было хорошо. Но в тот момент, когда он писал донос, он как будто не понимал, что ровно те же претензии можно предъявить левой оппозиции, а про «беспредметничество» так это вообще какая -то ирония судьбы.
По-хорошему, если бы эти два мощных течения не пытались аннигилировать друг друна на просторах СССР, то страна бы получила исключительно богатую художественную сцену, но вместо этого мы получили на долгие годы миф о разгроме уникального прогрессивного искусства и торжестве унылого совка. Собственно, самых ярких отцов мирового абстрактного искусства -Кандинского, Малевича и тд выдавили из страны свои же прогрессивисты. А мы бумерангом в ответ получили политические сказки о том, что «абстракционизм» - это упадочническое империалистическое псевдоискусство. И бесконечную дискуссию Дымшица и Лифшица кто хуже. Выпускник ВХУТЕМАСа Михаил Лифшиц уже тогда, пока учился, получал по голове за «правый уклон в авангарде» только потому что был склонен к философии социологии и более ясно видел, куда прогрессивное искусство революции заведут леваки. Ему не простили вывод «Релятивизм есть диалектика дураков». И он же в 1968м году напишет ««Почему бы не открыть для обозрения всех Малевичей и Кандинских, которые хранятся у нас в запасниках». Несмотря на то, что он весьма ярко доказывал, что авангард ведет к тоталитаризму. Читайте Михаила Лившица, господа, это один из самых интересных советских искусствоведов и философов. Его работы отрезвляют.
А последний передвижник Радимов внезапно собрал вокруг себя огромное количество художников, которым надоел авангард, а главным образом -авангардисты с их специфическим образом ведения арт-бизнеса. И не надо думать, что это какие-то замшелые неудачники. Это Алексей Щусев – без которого по Москве просто так не пройти, это Меер Аксельрод – автор будущего цикла «Немецкая оккупация», это вполне себе авангардист Константин Истомин (зайдите в Третьяковку), это Павел Басманов, автор иллюстраций к «Хождениям по мукам», арестованный затем по «делу группы пластического реализма».
Конечно, удивительный документ опубликовало новое сообщество в журнале «Искусство в массы» : ««Художники революции, боритесь за промфинплан! Художники революции, все на заводы и фабрики для великого исторического дела – активного участия в выполнении пятилетнего плана. Оформляйте стенгазеты, доски по соцсоревнованию, красные уголки, рисуйте портреты героев борьбы за промфинплан, бичуйте в карикатурах стенгазеты лодырей, рвачей, прогульщиков, летунов, бичуйте бюрократизм, выявляйте вредительство! Художники революции, для проведения всей этой работы разворачивайте соцсоревнование между собой в высших его формах и фазах (сквозные бригады, общественный буксир и т.д.), объявите себя ударниками, вливайтесь в бригады, организуемые профорганизациями, ликвидируйте отставание всего изофронта от общего фронта борьбы за социализм! Боритесь за пятилетку в четыре года!»
Что это нам напоминает? Прежде всего – такое впечатление, что они собрали все «Окна РОСТА» в единый текст. Но они хотели сказать одно – отныне художник себя считает пролетарием и бойцом за Советскую власть.
Кроме того, стремлением к реалистичности «ахровцы» привлекли в свой стан зрелых живописцев, отвергавших авангард (например, А. Е. Архипов, Н. А. Касаткин, В. К. Бялыницкий-Бируля, В. Н. Мешков, Е. И. Столица, К. Ф. Юон, В. Н. Бакшеев, М. Б. Греков и др., а также скульпторов М. Г. Манизер, С. Д. Меркуров, Н. В. Крандиевская). Среди тех, кто позже пополнил ряды АХРР, также было немало живописцев, получивших признание до революции: И. И. Бродский, Б. М. Кустодиев, Е. Е. Лансере, Ф. А. Малявин, И. И. Машков – то есть просто золотой фонд русской и советской живописи.
За 10 лет своего существования верная линии партии АХРР стала самой крупной художественной организацией страны. Она стремительно разрасталась: уже к лету 1923 года она насчитывала около трёхсот членов. Стали возникать областные и республиканские филиалы. К 1926 году их насчитывалось уже около сорока. В числе первых появились филиалы в Ленинграде, Казани, Саратове, Самаре, Нижнем Новгороде, Царицыне, Астрахани, Ярославле, Костроме, Ростове-на-Дону. Возник ряд смежных группировок, например «Ассоциация художников Красной Украины» (АХЧУ), а в 1927 году даже «Ассоциация художников революционной Германии».
А потом это все организационно превратилось в Советский Союз художников, каким мы его знаем. То есть, это не было одномоментным «разгромом». Это был довольно органический процесс. А если политические власти использовали его для установления «господствующей линии партии» в искусстве, то это, скорей, дело самих политиков.
Игорь Мальцев
Но вот был постоянный нарратив, который воспроизводится практически до сих пор, стараниями «культурных» сайтов – что дескать, был на заре советской власти великий русский авангард, а потом пришли коммунисты-сталинисты и весь его уничтожили и поставили вместо него социалистический реализм и всех заставили рисовать колхоз и домну. Но любому непредвзятому наблюдателю, даже далекому от внутрихудожественных проблем, ясно, что в жизни так просто не бывает. Что в этом есть какое-то нарочитое упрощение, которое один каталонский писатель сформулировал довольно просто «историю в СМИ пишут леваки, которым Франко дал по голове», а Илон Маск и вовсе давеча конкретизировал: «Википедию пишут проигравшие».
Начнем с того, что никакие такие страшные коммунисты-сталинисты не приходили с лопатами хоронить талантливый и уникальный коллектив советских авангардистов и топтать «Черный квадрат». Хотя бы, потому что авангардисты эти сами были гораздо более экстремальными коммунистами и большевиками в самом ярком смысле слова. Как сказал бы Сталин «происходит борьба хорошего с еще более хорошим», если бы все многочисленные участники процесса не были иногда похожи на маоистов и хунвэйбинов в своей ежедневной практике выбивания себе места под советским солнцем.
Вы будете удивлены, но закат авангарда вручную осуществили передвижники. Да-да те самые передвижники, которые были невыразимо прогрессивным движением в рамках Академии художеств в 19 веке. Да и за рамками Академии, впрочем, тоже. Художники, которые заявили, что салонная, историческая и тд живопись - это не то, что нужно сегодня народу и пора уже обратиться к простому человеку, которому эта живопись и должна быть обращена и ему же понятна. Да, и «Грачи прилетели» и «Петр Первый допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» - это все передвижники. Это то, что должно быть понятно простым людям.
«Товарищество имеет целью: устройство… во всех городах империи передвижных художественных выставок в видах доставления жителям провинций возможности знакомиться с русским искусством…развития любви к искусству в обществе и облегчения для художников сбыта их произведений.» Кстати, приметим на всякий случай вполне маркетологический посыл насчет «сбыта». Но не это самое важное.
Самое важное, что спустя две революции, спустя беспредельное царство новых революционных художников, бороздящих бюджеты Накрпомпроса в Питере и Москве, передвижники, оказывается не умерли.
Во всяком случае в 1922м году состоялась 47-ая выставка товарищества году в Доме работников просвещения и искусств в Леонтьевском переулке в Москве. Это была последняя выставка в истории передвижников. И последний глава передвижников всея Руси теперь уже не господин, а товарищ Павел Радимов сказал речь. Она называлась «Об отражении быта в искусстве» и поставила реализм передвижников образцом для воплощения «сегодняшнего дня: быта Красной Армии, быта рабочих, крестьянства, деятелей революции и героев труда, понятный народным массам».
Собственно, ничего такого, чего бы передвижники не делали с 1890го года. Только тогда они считали, что сюжеты из греческой мифологии и «Последний день Помпеи» не исчерпывают художественные запросы простого нижегородского приказчика. Они вдарили тогда первый раз по закосневшим основам отечественного высокого искусства. И вдарили второй. По тем, кто считал, что он уже победил на просторах СССР и вот-вот выйдет в открытый космос. В -общем левые моментально распознали угрозу. Потому что если такой подход восторжествует в тех кабинетах, где раздают должности, составляют списки для государственных закупок картин, то для них задача разъяснять дояркам суть новых концепций сильно усложнится. Или будет просто обнулена, со всеми вытекающими.
Но передвижник Радимов вовсе не нарочно пытался торпедировать царствующих особ авангарда и их творчество, которое невероятно зависело от государства и его заказов. Он просто поставил точку в деле «передвижников» и не сказал ничего нового – да, кто то должен обратиться к обычному новому советскому зрителю на понятном языке анти-Малевича и анти-Степановой, точь в точь как тогда, в 1890м.
Левые моментально взвизгнули и начали интриговать против Радимова и того объединения, которое он возглавил Ассоциация художников революционной России, обвиняя их в заигрывании со зрителем, в отсталости, в буржуазной приверженности к пошлому реализму и так далее. Да, а еще у них было слишком хорошее образование.
Ведь во весь этот АХРР влились, например, художники «Бубнового валета» а потом уже из группировки «Четыре искусства», которым надоело что на них пишут политические доносы левые, остающиеся как бы не у дел.
«Четыре искусства» это были художники из «Мира искусства» и «Голубой розы» - которые в свое время также почитались вполне революционными и вызывающими, но которые были воспитаны и обучены на классике и на мощнейших традициях. Перов-Водкин, Купреянов, Аксельрод, Бруни и конечно – Фаворский, человек, скажем, без которого не было бы выдающейся школы отечественной гравюры.
Так вот, именно ученик Фаворского –Давид Мирлас накатал в журнале «Искусство в массы» политический донос, в котором и содержалась финальная попытка обвинить «традиционщиков» в том, что они против настоящего революционного искусства, а стало быть, против нашей революции.
«Если в литературе писателю или поэту свое классовое лицо скрыть почти невозможно, то в области изобразительного искусства... это лицо всячески маскируется разными эстетическими измышлениями. <...> В наше время происходят бои на фронтах изо-искусства. Лицо друзей и врагов все более и более выявляется. <...> ...Не восприняв новой жизни и не желая говорить откровенно о своих истинных идеалах, художники «4 искусств» вынуждены ограничиваться или лирическими намеками, или беспредметничеством. <...> Очень характерно, что даже... и в них (пейзажах) стали ограничиваться полунамеками формально-эстетического порядка, смысл которых доступен для очень изощренных эстетов-любителей.
Общество «4 искусства», поставив своим девизом борьбу за качество и новый стиль, в пределах узкой цеховщины и полнейшего игнорирования общественно-политической установки страны Советов, спекулирует этим, выдавая свои достижения за универсальное качество и метод. Качества внесоциального и внеклассового нет. То, что годится для художников, оберегающих себя от советских влияний и годами варящихся в среде выходцев дворянско-помещичьего сословия и берегущих все признаки искусства этого разложившегося сословия, — не годится для широкой советской общественности, которая ведет борьбу с индивидуализмом в литературе, в искусстве с его вредным влиянием на молодое поколение художников.»
Давид Мирлас, мальчик из богатой еврейской семьи, учился во ВХУТЕМАСе у Фаворского и сам вообще-то был станковистом. Более того – он потом вступил и в Ассоциацию и все у него было хорошо. Но в тот момент, когда он писал донос, он как будто не понимал, что ровно те же претензии можно предъявить левой оппозиции, а про «беспредметничество» так это вообще какая -то ирония судьбы.
По-хорошему, если бы эти два мощных течения не пытались аннигилировать друг друна на просторах СССР, то страна бы получила исключительно богатую художественную сцену, но вместо этого мы получили на долгие годы миф о разгроме уникального прогрессивного искусства и торжестве унылого совка. Собственно, самых ярких отцов мирового абстрактного искусства -Кандинского, Малевича и тд выдавили из страны свои же прогрессивисты. А мы бумерангом в ответ получили политические сказки о том, что «абстракционизм» - это упадочническое империалистическое псевдоискусство. И бесконечную дискуссию Дымшица и Лифшица кто хуже. Выпускник ВХУТЕМАСа Михаил Лифшиц уже тогда, пока учился, получал по голове за «правый уклон в авангарде» только потому что был склонен к философии социологии и более ясно видел, куда прогрессивное искусство революции заведут леваки. Ему не простили вывод «Релятивизм есть диалектика дураков». И он же в 1968м году напишет ««Почему бы не открыть для обозрения всех Малевичей и Кандинских, которые хранятся у нас в запасниках». Несмотря на то, что он весьма ярко доказывал, что авангард ведет к тоталитаризму. Читайте Михаила Лившица, господа, это один из самых интересных советских искусствоведов и философов. Его работы отрезвляют.
А последний передвижник Радимов внезапно собрал вокруг себя огромное количество художников, которым надоел авангард, а главным образом -авангардисты с их специфическим образом ведения арт-бизнеса. И не надо думать, что это какие-то замшелые неудачники. Это Алексей Щусев – без которого по Москве просто так не пройти, это Меер Аксельрод – автор будущего цикла «Немецкая оккупация», это вполне себе авангардист Константин Истомин (зайдите в Третьяковку), это Павел Басманов, автор иллюстраций к «Хождениям по мукам», арестованный затем по «делу группы пластического реализма».
Конечно, удивительный документ опубликовало новое сообщество в журнале «Искусство в массы» : ««Художники революции, боритесь за промфинплан! Художники революции, все на заводы и фабрики для великого исторического дела – активного участия в выполнении пятилетнего плана. Оформляйте стенгазеты, доски по соцсоревнованию, красные уголки, рисуйте портреты героев борьбы за промфинплан, бичуйте в карикатурах стенгазеты лодырей, рвачей, прогульщиков, летунов, бичуйте бюрократизм, выявляйте вредительство! Художники революции, для проведения всей этой работы разворачивайте соцсоревнование между собой в высших его формах и фазах (сквозные бригады, общественный буксир и т.д.), объявите себя ударниками, вливайтесь в бригады, организуемые профорганизациями, ликвидируйте отставание всего изофронта от общего фронта борьбы за социализм! Боритесь за пятилетку в четыре года!»
Что это нам напоминает? Прежде всего – такое впечатление, что они собрали все «Окна РОСТА» в единый текст. Но они хотели сказать одно – отныне художник себя считает пролетарием и бойцом за Советскую власть.
Кроме того, стремлением к реалистичности «ахровцы» привлекли в свой стан зрелых живописцев, отвергавших авангард (например, А. Е. Архипов, Н. А. Касаткин, В. К. Бялыницкий-Бируля, В. Н. Мешков, Е. И. Столица, К. Ф. Юон, В. Н. Бакшеев, М. Б. Греков и др., а также скульпторов М. Г. Манизер, С. Д. Меркуров, Н. В. Крандиевская). Среди тех, кто позже пополнил ряды АХРР, также было немало живописцев, получивших признание до революции: И. И. Бродский, Б. М. Кустодиев, Е. Е. Лансере, Ф. А. Малявин, И. И. Машков – то есть просто золотой фонд русской и советской живописи.
За 10 лет своего существования верная линии партии АХРР стала самой крупной художественной организацией страны. Она стремительно разрасталась: уже к лету 1923 года она насчитывала около трёхсот членов. Стали возникать областные и республиканские филиалы. К 1926 году их насчитывалось уже около сорока. В числе первых появились филиалы в Ленинграде, Казани, Саратове, Самаре, Нижнем Новгороде, Царицыне, Астрахани, Ярославле, Костроме, Ростове-на-Дону. Возник ряд смежных группировок, например «Ассоциация художников Красной Украины» (АХЧУ), а в 1927 году даже «Ассоциация художников революционной Германии».
А потом это все организационно превратилось в Советский Союз художников, каким мы его знаем. То есть, это не было одномоментным «разгромом». Это был довольно органический процесс. А если политические власти использовали его для установления «господствующей линии партии» в искусстве, то это, скорей, дело самих политиков.
Игорь Мальцев
Стенберги
История братьев Стенбергов – пример того, как скандинавские практичность и трудолюбие, упертость и левополушарность способны послужить не только на благо Российской Империи, но пригодились и в Советском Союзе.
В 1896 году в Юзовке (нынешний Донецк) проходила выставка, на оформление которой был приглашен блестящий художник-декоратор из Швеции Карл Иоганн Август Стенберг. Далее его ждала Шестнадцатая Всероссийская промышленная и художественная выставка промышленных и кустарных промыслов в Нижнем Новгороде, на которую, кстати, в тот год из Юзовки привезли не только шведа, но и Пальму Мерцалова. Стальную конструкцию, выкованную без сварки из цельного куска рельса, и теперь красующуюся на гербе города Донецка. После Нижнего Август Стенберг очутился в Москве, где женился на латышской девушке Анне (они общались на немецком языке), и у него родилось трое детей. Август занимался оформительскими работами, в том числе в гостинице “Метрополь” и магазине компании “Мюр и Мерилиз”. Двое братьев-погодок Владимир (1899 – 1982) и Георгий (1900-1933), рано показали талант не только в рисовании, но и в технических науках. Следуя педагогическому чутью, с подросткового возраста отец стал брать мальчиков на объекты – оформление витрин магазинов, летних ресторанов. Дома у детей был неограниченный доступ к книгам по искусству, потому поступив в Императорское Строгановское Центральное Художественно-Промышленное Училище, братья часто вели себя более свободно, ориентируясь в классическом материале и позволяя вольность выполнять задания, используя необычные ракурсы. Параллельно с учебой, Владимир и Георгий с 16 лет начали работать в театрах, помогая отцу, в том числе в киевском театре оперетты, но только выполняя конкретные задачи, не напрашиваясь в ассистенты к тому же Федору Федоровичу Федоровскому, поскольку не чувствовали себя готовыми.
В 1917 году Строгановское училище вошло в состав Государственных свободных художественных мастерских, а затем ВХУТЕМАСа. Система преподавания была перестроена. Федоровский, Кончаловский, Якулов, Татлин, Осмеркин и т. д. стали мастерами, а студенты — подмастерьями — их учениками. У каждого мастера в группе было от тридцати до пятидесяти учеников. А Маяковский, Каменский, Хлебников часто приходили в Свободные государственные художественные мастерские, чтобы пообщаться и прочитать свои произведения. В 1918 году братья (17 и 18 лет) делили комнату с Константином Медунецким (17 лет). Однажды, вдохновленная витающей в воздухе свободой и революционным романтизмом, троица сочинила обращение к студентам и преподавателям – без точек и запятых, конечно, - где призывала свергать титанов импрессионизма, а также Пикассо и Гогена, и прекратить воспроизводство Татлинов, Кончаловских, Лентуловых и прочих мастеров. Зачем Кончаловские учат студентов быть Кончаловскими, если перед мастером сидят не просто студенты, но личности – молодые художники. По итогам дебатов, состоявшихся при большом скоплении людей, троица получила возможность учиться в мастерской без руководителя. Братья изучали различные техники декоративно-прикладного искусства - роспись по фарфору, эмаль, главными были занятия театральной живописью у В. Е .Егорова, П. В. Кузнецова, А. С. Янова. Плюс Стенберги занимаются на курсах военной инженерии, знакомятся с принципами строительства мостов и других инженерных сооружений. С 1918 по 1920 братья изучали архитектуру, монументальную живопись, скульптуру и графику у Г.Б. Якулова.
Вместе с соратником Медунецким братья делают переход от абстрагированных композиций на плоскости к пространственным конструкциям и экспериментируют с цветоконструкциями. Стенберги и Медунецкий стали активными членами Общества молодых художников (ОБМОХУ) — объединения существовавшего в 1919–1923 гг, в которое входили также Карл Иогансон, Александр Замошкин, Николай Денисовский. Это можно назвать ранней ступенью русского конструктивизма. В 1922 году в московском «Кафе поэтов» на Горького состоялась выставка, с которой началось основное движение конструктивизма, поскольку манифест Александра Гана вышел позже, летом этого года, а манифест Стенбергов и Медуницкого был подготовлен к выставке «Конструктивисты». Величайший трамплин для прыжка к всечеловеческой культуре – так Стенберг Медунецкий Стенберг назвали конструктивизм, призывая объявить искусство вне закона: «Великие соблазнители человеческой породы — эстеты и художники — разрушили все мосты на этом пути, заменив их слащавым наркозом: искусством и красотой. Сущность земли, человеческий мозг, растрачивается впустую, чтобы удобрить трясину эстетизма. Взвешивая факты на весах честного отношения к жителям земли, конструктивисты объявляют искусство и его жрецов вне закона». Пространственные конструкции Стенбергов были показаны в 1922 году на Первой русской художественной выставке в Берлине (и в 1923 в Амстердаме).
«Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства ― конструктивизм. Даже удивляешься, что это слово есть во французском лексиконе. Не конструктивизм художников, которые из хороших и нужных проволок и жести делают ненужные сооруженьица. Конструктивизм, понимающий формальную работу художника только как инженерию, нужную для оформления всей нашей практической жизни», — Владимир Маяковский, 1923 год.
В 1919 году группа художников устроила выставку, наподобие итоговой, так как с 1914 по 1919 годы дипломные работы у студентов не принимались, и их даже называли «вечными студентами». На закрытой выставке присутствовали Луначарский и нарком искусств Давид Петрович Штеренберг. Тогда Луначарский назвал их «Первой группой красных художников». Некоторые художники из этой десятки были приглашены для получения дипломов. «Но мы не пошли за дипломами. Художнику не нужен диплом, потому что художник всю жизнь работает, выставляется, и это, так сказать, его диплом. Диплом нужен только инженеру или кому-то вроде врача. Гражданской войны мы не боялись, потому что уже делали плакаты для фронта. Когда нас провозгласили «красными художниками», нам сделали исключение. Но нам с братом это было не нужно, так как мы были гражданами Швеции. Кроме того, мы служили, изготавливали плакаты для фронта и ликвидации неграмотности, а также выполняли всю другую работу» - говорил о том времени Владимир Стенберг.
С 1922 по 1931 год братья активно сотрудничают с Таировым. Посещают с гастролями Камерного театра в 1923 году Париж, где Пикассо был так восхищен конструкциями Стенбергов, и их экспозиция привлекла такое внимание, что заревновавший Таиров не разговаривал с художниками целую неделю.
«Кто шел работать в Камерный, тотчас же становился рабом этого театра. Ничего внешнего не существовало, ни семьи, ничего. Театр был абсолютно всем. Но мы не могли себе этого позволить. Мы работали, делали плакаты, украшали город — украшали за это время разные площади — и это мешало. А в 1928 году, когда мы начали украшать Красную площадь, был праздник Октября, и Первомайский праздник, потом был Международный день молодежи, и День борьбы с войной, первого августа. Каждый раз по полтора месяца. Это означало, что четыре раза в год, шесть месяцев в году мы должны были целиком и полностью посвятить себя этой работе. Иногда нам не хватало возможности прийти в театр, когда нам нужно было там быть.»
Выбирая между гением театра и Красной площадью, Стенберги выбирают очевидное. В 1928 г. по результатам конкурса на лучшее праздничное оформление Красной площади к 7 ноября, Первая премия была присуждена братья Стенбергам. Вплоть до 1963 года Владимир Стенберг будет исполнять обязанности главного оформителя главной площади столицы СССР. Первой яркой идеей было перенесение основного оформления площади со стороны Кремлевской стены на фасад ГУМа, также была разработана пространственно-силуэтная и цвето-световая структура оформления, затем превратившаяся в традиционную. Впервые на здании ГУМа крупным планом воцарился портрет вождя.
«Для того чтобы почувствовать себя, массы должны внешне проявить себя, а это возможно только когда, по слову Робеспьера, они сами являются для себя зрелищем. Если организованные массы проходят шествием под музыку, поют хором, исполняют какие-нибудь большие гимнастические маневры или танцы, словом, устраивают своего рода парад, но парад не военный, а по возможности насыщенный таким содержанием, которое выражало бы идейную сущность, надежды, проклятия и всякие другие эмоции народа, – то те, остальные, неорганизованные массы, обступающие со всех сторон улицы и площади, где происходит праздник, сливаются с этой организованной массой, и, таким образом, можно сказать: весь народ демонстрирует сам перед собой свою душу.» - пишет в своей статье о народных празднествах нарком просвещения Луначарский в 1920 году.
Стенберги реагируют на «ТЗ» сверху, используя свои технические таланты и инженерное мышление. Праздничный образ колонн, шествующих по Красной площади создавали с помощью привлечения технических новинок из индустриального обихода, шествие сопровождалось автомобилями, грузовиками с эмблемами, прожекторами, разноцветными гирляндами; на платформах устанавливались большие щиты с фотомонтажными композициями, экраны со световыми диаграммами, теневые подвижные изображения заводов, локомотивов, кранов, тракторов, «живые картины». Стенбергами была проработана и осуществлена целая система праздничного оформления городской среды и зданий. В 1931 году в канун празднования XIV годовщины Октября, оформительские работы коснулись всей столицы. Журнал «За пролетарское искусство» сообщал: «Для усиления освещения улиц предполагается использовать оставшиеся церкви и колокольни путем установки на них прожекторов и бегающих световых реклам. По проекту братьев Стенбергов основной принцип оформления улицы должен идти по линии организации света. Поэтому они и предлагают все дома на Арбате выкрасить в серый цвет, а окна, рамы и двери — в черный цвет».
В 1933 погибает Георгий. И Владимир, привыкший говорить о их жизни и творчестве «мы» - никогда «я», остается один. А в мировой истории кинематографа, как и в истории искусства их киноафиши для «Совкино», сочетавшие энергию агитационного плаката с театральной декоративностью и стилистикой конструктивизма, навсегда останутся за подписью 2-Стенберг-2.
Над проектами, связанными с Красной площадью Владимир работает сначала с сестрой Лидией, а затем, начиная с 1945 года, с сыном Стеном.
В 1934 г. Владимир Стенберг предлагает новое видение оформления главной площади Москвы, базирующееся на предыдущем варианте. Главное отличие заключалось в замене алых стягов с лозунгами, развернутых в плоскости на декоративные знамена на здании Исторического музея и в центральной части ГУМа. Этот проект действовал вплоть до 1947 г.
Следует обратить внимание на освещение, придуманное Стенбергами для оформления такой большой площади. Оно создавало единое в объеме пространство, высвечивало контуры зубцов по всей Кремлевской стене, расположенной напротив ГУМа, гребешки универмага, остроконечные крыши Исторического музея. Источники света были скрыты, это создавало особую мерцающую световую «ауру». Стенберги активно использовали в оформлении эмблемы, символы, гербы. Стяги с укороченными, закрепленными по древку полотнищами – это характерный элемент оформления Стенбергов.
На тематических плакатах и панно, эмблематика использовалась вместе с символическими и аллегорическими композициями на темы коллективизма, союза рабочих и крестьян, освобожденного труда, с различными диаграммами, изображениями сельскохозяйственной техники. Все элементы праздничного убранства подчинялись принципу ансамбля, соответствующего архитектурным особенностям Красной площади.
К июньскому параду победы 1945 г. Стенберги – на это раз отец Владимир и сын Стен заменили убранство стен Кремля, оставив его аскетику контрастировать с яркостью оформления Исторического музея и здания Верхних торговых рядов. На Лобном месте вместо «Интернационала» - традиционной уже для оформления Красной площади скульптуры работы Николая Кузнецова - воздвигается грандиозный фонтан, который венчается статуей рабочего и колхозницы со звездой в руках, украшенный зеленью и живыми цветами. Ритуал «публичной казни» вражеских знамен в июне 1941 года знаком каждому жителю нашей страны, и вошел не только в историю агитационного искусства, но в историю страны, историю Великой Отечественной войны 1941-45 годов.
В 1947 г. Москва праздновала 800-летний юбилей. Фасады зданий украшали портреты, панно, плакаты, декоративные картуши, флаги, зелень, полотнища с цифрами «1147» и «1947». На кремлевскую стену, в обрамления в виде древнерусских щитов, Стенберг помещает профильные изображения полководцев прошлого от Александра Невского до Михаила Кутузова. Эта галерея портретов отражала основную тему оформления праздника — идею преемственности героических традиций русского народа.
В 1952 г. Владимир Стенберг арестован по обвинению в шпионаже, реабилитирован в 1953 и продолжил работать над оформлением Красной и Советской площадей вплоть до 1963 г. Именно тогда Владимир Августович начинает терять зрение. Скончался Владимир Стенберг в 1982 году.
Думал ли шведский художник –оформитель Август Стенберг, решивший покинуть новорожденную страну в 1917 году и пропавший без вести по дороге в родную Швецию, что его дети войдут в историю мировой культуры с невиданными конструкциями и новым взглядом на мир, и что их работой будут не просто любоваться тысячи людей, но миллионы граждан СССР из года в год будут соучастниками главных мероприятий страны на главной площади страны, и еще больше людей навсегда запомнят как должна выглядеть Красная площадь в торжественные дни именно так, как придумали братья-шведы Стенберги.
В 1896 году в Юзовке (нынешний Донецк) проходила выставка, на оформление которой был приглашен блестящий художник-декоратор из Швеции Карл Иоганн Август Стенберг. Далее его ждала Шестнадцатая Всероссийская промышленная и художественная выставка промышленных и кустарных промыслов в Нижнем Новгороде, на которую, кстати, в тот год из Юзовки привезли не только шведа, но и Пальму Мерцалова. Стальную конструкцию, выкованную без сварки из цельного куска рельса, и теперь красующуюся на гербе города Донецка. После Нижнего Август Стенберг очутился в Москве, где женился на латышской девушке Анне (они общались на немецком языке), и у него родилось трое детей. Август занимался оформительскими работами, в том числе в гостинице “Метрополь” и магазине компании “Мюр и Мерилиз”. Двое братьев-погодок Владимир (1899 – 1982) и Георгий (1900-1933), рано показали талант не только в рисовании, но и в технических науках. Следуя педагогическому чутью, с подросткового возраста отец стал брать мальчиков на объекты – оформление витрин магазинов, летних ресторанов. Дома у детей был неограниченный доступ к книгам по искусству, потому поступив в Императорское Строгановское Центральное Художественно-Промышленное Училище, братья часто вели себя более свободно, ориентируясь в классическом материале и позволяя вольность выполнять задания, используя необычные ракурсы. Параллельно с учебой, Владимир и Георгий с 16 лет начали работать в театрах, помогая отцу, в том числе в киевском театре оперетты, но только выполняя конкретные задачи, не напрашиваясь в ассистенты к тому же Федору Федоровичу Федоровскому, поскольку не чувствовали себя готовыми.
В 1917 году Строгановское училище вошло в состав Государственных свободных художественных мастерских, а затем ВХУТЕМАСа. Система преподавания была перестроена. Федоровский, Кончаловский, Якулов, Татлин, Осмеркин и т. д. стали мастерами, а студенты — подмастерьями — их учениками. У каждого мастера в группе было от тридцати до пятидесяти учеников. А Маяковский, Каменский, Хлебников часто приходили в Свободные государственные художественные мастерские, чтобы пообщаться и прочитать свои произведения. В 1918 году братья (17 и 18 лет) делили комнату с Константином Медунецким (17 лет). Однажды, вдохновленная витающей в воздухе свободой и революционным романтизмом, троица сочинила обращение к студентам и преподавателям – без точек и запятых, конечно, - где призывала свергать титанов импрессионизма, а также Пикассо и Гогена, и прекратить воспроизводство Татлинов, Кончаловских, Лентуловых и прочих мастеров. Зачем Кончаловские учат студентов быть Кончаловскими, если перед мастером сидят не просто студенты, но личности – молодые художники. По итогам дебатов, состоявшихся при большом скоплении людей, троица получила возможность учиться в мастерской без руководителя. Братья изучали различные техники декоративно-прикладного искусства - роспись по фарфору, эмаль, главными были занятия театральной живописью у В. Е .Егорова, П. В. Кузнецова, А. С. Янова. Плюс Стенберги занимаются на курсах военной инженерии, знакомятся с принципами строительства мостов и других инженерных сооружений. С 1918 по 1920 братья изучали архитектуру, монументальную живопись, скульптуру и графику у Г.Б. Якулова.
Вместе с соратником Медунецким братья делают переход от абстрагированных композиций на плоскости к пространственным конструкциям и экспериментируют с цветоконструкциями. Стенберги и Медунецкий стали активными членами Общества молодых художников (ОБМОХУ) — объединения существовавшего в 1919–1923 гг, в которое входили также Карл Иогансон, Александр Замошкин, Николай Денисовский. Это можно назвать ранней ступенью русского конструктивизма. В 1922 году в московском «Кафе поэтов» на Горького состоялась выставка, с которой началось основное движение конструктивизма, поскольку манифест Александра Гана вышел позже, летом этого года, а манифест Стенбергов и Медуницкого был подготовлен к выставке «Конструктивисты». Величайший трамплин для прыжка к всечеловеческой культуре – так Стенберг Медунецкий Стенберг назвали конструктивизм, призывая объявить искусство вне закона: «Великие соблазнители человеческой породы — эстеты и художники — разрушили все мосты на этом пути, заменив их слащавым наркозом: искусством и красотой. Сущность земли, человеческий мозг, растрачивается впустую, чтобы удобрить трясину эстетизма. Взвешивая факты на весах честного отношения к жителям земли, конструктивисты объявляют искусство и его жрецов вне закона». Пространственные конструкции Стенбергов были показаны в 1922 году на Первой русской художественной выставке в Берлине (и в 1923 в Амстердаме).
«Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства ― конструктивизм. Даже удивляешься, что это слово есть во французском лексиконе. Не конструктивизм художников, которые из хороших и нужных проволок и жести делают ненужные сооруженьица. Конструктивизм, понимающий формальную работу художника только как инженерию, нужную для оформления всей нашей практической жизни», — Владимир Маяковский, 1923 год.
В 1919 году группа художников устроила выставку, наподобие итоговой, так как с 1914 по 1919 годы дипломные работы у студентов не принимались, и их даже называли «вечными студентами». На закрытой выставке присутствовали Луначарский и нарком искусств Давид Петрович Штеренберг. Тогда Луначарский назвал их «Первой группой красных художников». Некоторые художники из этой десятки были приглашены для получения дипломов. «Но мы не пошли за дипломами. Художнику не нужен диплом, потому что художник всю жизнь работает, выставляется, и это, так сказать, его диплом. Диплом нужен только инженеру или кому-то вроде врача. Гражданской войны мы не боялись, потому что уже делали плакаты для фронта. Когда нас провозгласили «красными художниками», нам сделали исключение. Но нам с братом это было не нужно, так как мы были гражданами Швеции. Кроме того, мы служили, изготавливали плакаты для фронта и ликвидации неграмотности, а также выполняли всю другую работу» - говорил о том времени Владимир Стенберг.
С 1922 по 1931 год братья активно сотрудничают с Таировым. Посещают с гастролями Камерного театра в 1923 году Париж, где Пикассо был так восхищен конструкциями Стенбергов, и их экспозиция привлекла такое внимание, что заревновавший Таиров не разговаривал с художниками целую неделю.
«Кто шел работать в Камерный, тотчас же становился рабом этого театра. Ничего внешнего не существовало, ни семьи, ничего. Театр был абсолютно всем. Но мы не могли себе этого позволить. Мы работали, делали плакаты, украшали город — украшали за это время разные площади — и это мешало. А в 1928 году, когда мы начали украшать Красную площадь, был праздник Октября, и Первомайский праздник, потом был Международный день молодежи, и День борьбы с войной, первого августа. Каждый раз по полтора месяца. Это означало, что четыре раза в год, шесть месяцев в году мы должны были целиком и полностью посвятить себя этой работе. Иногда нам не хватало возможности прийти в театр, когда нам нужно было там быть.»
Выбирая между гением театра и Красной площадью, Стенберги выбирают очевидное. В 1928 г. по результатам конкурса на лучшее праздничное оформление Красной площади к 7 ноября, Первая премия была присуждена братья Стенбергам. Вплоть до 1963 года Владимир Стенберг будет исполнять обязанности главного оформителя главной площади столицы СССР. Первой яркой идеей было перенесение основного оформления площади со стороны Кремлевской стены на фасад ГУМа, также была разработана пространственно-силуэтная и цвето-световая структура оформления, затем превратившаяся в традиционную. Впервые на здании ГУМа крупным планом воцарился портрет вождя.
«Для того чтобы почувствовать себя, массы должны внешне проявить себя, а это возможно только когда, по слову Робеспьера, они сами являются для себя зрелищем. Если организованные массы проходят шествием под музыку, поют хором, исполняют какие-нибудь большие гимнастические маневры или танцы, словом, устраивают своего рода парад, но парад не военный, а по возможности насыщенный таким содержанием, которое выражало бы идейную сущность, надежды, проклятия и всякие другие эмоции народа, – то те, остальные, неорганизованные массы, обступающие со всех сторон улицы и площади, где происходит праздник, сливаются с этой организованной массой, и, таким образом, можно сказать: весь народ демонстрирует сам перед собой свою душу.» - пишет в своей статье о народных празднествах нарком просвещения Луначарский в 1920 году.
Стенберги реагируют на «ТЗ» сверху, используя свои технические таланты и инженерное мышление. Праздничный образ колонн, шествующих по Красной площади создавали с помощью привлечения технических новинок из индустриального обихода, шествие сопровождалось автомобилями, грузовиками с эмблемами, прожекторами, разноцветными гирляндами; на платформах устанавливались большие щиты с фотомонтажными композициями, экраны со световыми диаграммами, теневые подвижные изображения заводов, локомотивов, кранов, тракторов, «живые картины». Стенбергами была проработана и осуществлена целая система праздничного оформления городской среды и зданий. В 1931 году в канун празднования XIV годовщины Октября, оформительские работы коснулись всей столицы. Журнал «За пролетарское искусство» сообщал: «Для усиления освещения улиц предполагается использовать оставшиеся церкви и колокольни путем установки на них прожекторов и бегающих световых реклам. По проекту братьев Стенбергов основной принцип оформления улицы должен идти по линии организации света. Поэтому они и предлагают все дома на Арбате выкрасить в серый цвет, а окна, рамы и двери — в черный цвет».
В 1933 погибает Георгий. И Владимир, привыкший говорить о их жизни и творчестве «мы» - никогда «я», остается один. А в мировой истории кинематографа, как и в истории искусства их киноафиши для «Совкино», сочетавшие энергию агитационного плаката с театральной декоративностью и стилистикой конструктивизма, навсегда останутся за подписью 2-Стенберг-2.
Над проектами, связанными с Красной площадью Владимир работает сначала с сестрой Лидией, а затем, начиная с 1945 года, с сыном Стеном.
В 1934 г. Владимир Стенберг предлагает новое видение оформления главной площади Москвы, базирующееся на предыдущем варианте. Главное отличие заключалось в замене алых стягов с лозунгами, развернутых в плоскости на декоративные знамена на здании Исторического музея и в центральной части ГУМа. Этот проект действовал вплоть до 1947 г.
Следует обратить внимание на освещение, придуманное Стенбергами для оформления такой большой площади. Оно создавало единое в объеме пространство, высвечивало контуры зубцов по всей Кремлевской стене, расположенной напротив ГУМа, гребешки универмага, остроконечные крыши Исторического музея. Источники света были скрыты, это создавало особую мерцающую световую «ауру». Стенберги активно использовали в оформлении эмблемы, символы, гербы. Стяги с укороченными, закрепленными по древку полотнищами – это характерный элемент оформления Стенбергов.
На тематических плакатах и панно, эмблематика использовалась вместе с символическими и аллегорическими композициями на темы коллективизма, союза рабочих и крестьян, освобожденного труда, с различными диаграммами, изображениями сельскохозяйственной техники. Все элементы праздничного убранства подчинялись принципу ансамбля, соответствующего архитектурным особенностям Красной площади.
К июньскому параду победы 1945 г. Стенберги – на это раз отец Владимир и сын Стен заменили убранство стен Кремля, оставив его аскетику контрастировать с яркостью оформления Исторического музея и здания Верхних торговых рядов. На Лобном месте вместо «Интернационала» - традиционной уже для оформления Красной площади скульптуры работы Николая Кузнецова - воздвигается грандиозный фонтан, который венчается статуей рабочего и колхозницы со звездой в руках, украшенный зеленью и живыми цветами. Ритуал «публичной казни» вражеских знамен в июне 1941 года знаком каждому жителю нашей страны, и вошел не только в историю агитационного искусства, но в историю страны, историю Великой Отечественной войны 1941-45 годов.
В 1947 г. Москва праздновала 800-летний юбилей. Фасады зданий украшали портреты, панно, плакаты, декоративные картуши, флаги, зелень, полотнища с цифрами «1147» и «1947». На кремлевскую стену, в обрамления в виде древнерусских щитов, Стенберг помещает профильные изображения полководцев прошлого от Александра Невского до Михаила Кутузова. Эта галерея портретов отражала основную тему оформления праздника — идею преемственности героических традиций русского народа.
В 1952 г. Владимир Стенберг арестован по обвинению в шпионаже, реабилитирован в 1953 и продолжил работать над оформлением Красной и Советской площадей вплоть до 1963 г. Именно тогда Владимир Августович начинает терять зрение. Скончался Владимир Стенберг в 1982 году.
Думал ли шведский художник –оформитель Август Стенберг, решивший покинуть новорожденную страну в 1917 году и пропавший без вести по дороге в родную Швецию, что его дети войдут в историю мировой культуры с невиданными конструкциями и новым взглядом на мир, и что их работой будут не просто любоваться тысячи людей, но миллионы граждан СССР из года в год будут соучастниками главных мероприятий страны на главной площади страны, и еще больше людей навсегда запомнят как должна выглядеть Красная площадь в торжественные дни именно так, как придумали братья-шведы Стенберги.
Эль Лисицкий, утвердитель нового
На сцене русского авангарда Эль Лисицкий стоит как будто бы в тени фигуры Малевича — как часть свиты, которая на театре всегда играет короля. Ученик, последователь, проводник идей. «Клином красным бей белых», типография «Огонька» — да и все, пожалуй.
И все же если хотя бы ненадолго выключить софиты, которые нещадно подсвечивают отца «Черного квадрата», — окажется, что Лисицкий и сам по себе фигура не просто интересная, не только важная для авангарда, русского и мирового, но и в некотором смысле ключевая для нас сегодняшних и для устройства сегодняшнего мира. Без всякого преувеличения.
Лазарь, разумеется — подписываться сначала Л. Лисицкий, а потом Эль Лисицкий он станет только после знакомства с Малевичем, а так — Лазарь, сын Марка Соломоновича, родившийся в белорусском местечке в 1890 году, в один год с Пастернаком, Молотовым, а также, внезапно, Лавкрафтом и Агатой Кристи. Учиться пошел в Витебске, посещал художественную школу Юделя Пэна вместе с Шагалом. Окончил школу уже в Смоленске, после чего попробовал поступить в Академию художеств в Петербурге. Не поступил: квота для евреев была 3% от общего числа учащихся. Уехал в Дармштадт и там поступил на Архитектурный факультет Высшей политехнической школы, центра немецкого модерна.
Вот тут, пожалуй, нужно сделать первую остановку. Лисицкий, кажется, никогда не говорил о себе как о художнике. Не сохранилось никаких его ранних — как это обычно бывает у художников — пейзажей, портретов, эскизов или этюдов. Нет и никаких длинных ностальгических рассказов о творческих метаниях молодого художника и в собственных сочинениях Лисицкого. В этом контексте и поступление в технический вуз на архитектурный факультет надо рассматривать, очевидно, не как случайное —лишь бы куда взяли, — а как сознательный выбор творческого пути. Надо думать, что не художником хотел быть будущий Эль Лисицкий, не живопись его интересовала и не бессмертие в музейных залах, но что-то другое.
Что именно?
После четырех лет в Дармштадте он возвращается в Россию — как раз с началом войны, и возвращаться приходится кружными путями, через весь юг Европы. Но работать в России с иностранным дипломом он не имел права, поэтому в Москве он поступает в эвакуированный Рижский политехнический. Параллельно с учебой работает ассистентом в архитектурном бюро, организует выставки Еврейского общества поощрения художеств в Москве и в Киеве, участвует в двух выставках «Мира искусства» и в последней выставке «Бубнового валета», но главное его увлечение в эти годы — еврейская книжная графика.
Вот тут, пожалуй, нужно сделать вторую остановку. Увлечение искусством своего народа — естественная, понятная, благородная вещь, и Лисицкий много сделал для сохранения и развития еврейского искусства. Детские книги, исследования храмовых росписей, этнографические экспедиции, Лига еврейской культуры, — и все же Лисицкого не получится ограничить рамками национальной культуры. Думается, что, позанимавшись ею несколько лет, он никогда не возвращался к ней потом именно потому, что безусловно интересное национальное наследие интересовало его только как площадка для поиска универсальных приемов и общечеловеческого языка. Вот почему важнее всего тут, в этом периоде, книжная графика. Именно в книгах киевского «Идишер фолкс-фарлаг» Лисицкий впервые нащупывает те принципы новой изобразительности, которые будет развивать потом всю жизнь.
В 1919 году Шагал зовет его преподавать в Витебск в архитектурной мастерской при Витебской художественной школе. История ее достаточно известна, чтобы здесь вдаваться в ее подробности. Скажем только, что конфликт Шагала с основной массой учеников и преподавателей, вопреки распространенному мифу, начался еще до того, как в школе появился Малевич. Однако же да, именно Лисицкий привез из столицы Малевича, с которым был знаком еще по работе в московских Советах в 1917 году. (Лисицкий возглавлял Художественную секцию при Совете рабочих депутатов, Малевич — такую же секцию при Совете солдатских депутатов.)
Знакомство с Малевичем, совместная работа с ним стали для Лисицкого катализатором всех его художественных поисков предыдущих лет. Лисицкий, вопреки еще одному распространенному мифу, не был учеником Малевича в том смысле, в котором учеником крупного мастера становится еще не оперившийся птенец. Лисицкому было уже тридцать лет, он и сам был мастером, со своими идеями и своим мировоззрением — только для окончательного их оформления, теоретического прежде всего, не хватало последнего движения, жеста, толчка. Малевич и сделал этот толчок.
Мы уже обсуждали, что для истории авангарда не так уж важно, был Малевич пророком или шарлатаном, искренне он верил в то, что нашел Истину в форме черного квадрата, или всего лишь хотел других заставить в это верить. Еще менее это важно в случае с его влиянием на Лисицкого. Последнего вообще, кажется, не очень-то интересовали мессианские идеи Малевича — он взял из них ровно столько, сколько ему надо было для окончательного оформления своих в первую очередь чисто практических идей.
Лисицкого, кроме того, мало интересовало увековечивание своего имени, личная слава, творческое бессмертие, вот это вот все — он не был тщеславен, огромное число его работ вообще подписаны не именем, а обозначением мастерской. Для эпохи и страны, утверждающей превосходство масс над индивидуальностью, «мы» над «я», это вообще выглядит вполне органичной стратегией. Важно не застолбить свое имя за изобретением, а внедрить это изобретение в жизнь — разумеется, радикально изменив ее. Знаменитые проуны, проекты утверждения нового, не были отвлеченными художественными теориями и не задумывались как таковые — они должны были быть применением передовых идей к производственной практике.
Мало того, в этом смысле Лисицкий оказал громадное обратное влияние и на Малевича — ибо до того, ему, кажется, и не приходило в голову, что супрематические идеи могут и должны из чисто абстрактной, живописной плоскости перейти в практическую сферу — архитектуру, оформление интерьеров, проектирование мебели и так далее. И однако же то, что для Малевича осталось только программой — для Лисицкого стало непосредственной работой, внедрением отвлеченных идей в жизнь.
Совместная работа в Витебске была невероятно плодотворна. Журналы, альманахи, выставки, знаменитый УНОВИС — объединение «Утвердителей нового искусства», — театральные декорации, лекции и доклады, ученики — даже удивительно, что все это уместилось в неполные два года. Но время не способствовало долгому сидению на месте. В 1920 году Лисицкий переезжает в Москву, где недолгое время преподает во ВХУТЕМАСе, потом оказывается в Петрограде, где работает в ГИНХУКе, а уже в 1921 году перебирается в Германию, куда молодое Советское государство командирует его для пропаганды нового советского искусства.
В Германии Лисицкий вместе с Эренбургом выпустил три номера журнала «Вещь», создал книгу «Супрематический сказ про два квадрата» и оформил еще одну —«Для голоса» Маяковского. Кроме того — работа с Баухаусом и с голландским объединением «Де стиль», проект «Трибуна Ленина», серия литографий «Победа над Солнцем», выставки и конгрессы — но все же, как кажется, важнее всего тут именно печатная графика.
Именно в форме печатной графики — вспомним, что именно с нее он, в период увлечения еврейской детской книгой, и начинал, — яснее и точнее всего проявилась главная идея Лисицкого. Та идея, которая в конечном счете и стала главным вкладом Лисицкого в развитие не столько искусства XX века — еще раз: Лисицкого мало интересовало искусство вообще, вся эта метафизика осталась вотчиной Малевича, — сколько визуальной культуры новой эпохи.
Идея же эта крайне проста и нам сейчас кажется очевидной. Если для всех предшествующих эпох главным транслятором информации был текст, а изображение рассматривалось лишь как иллюстрация к тексту, пояснение к нему, дополнительное украшение, то для самых разнообразных практик XX века изображение должно стать полноценным носителем передаваемого смысла — наравне с текстом или даже без него.
Достаточно взглянуть на страницы «Супрематического сказа о двух квадратах», чтобы увидеть: всякий раз, когда мы сегодня берем в руки детскую книгу, в которой почти нет слов, или видим рекламный плакат с одним коротким слоганом или рассматриваем графики и диаграммы в специализированном блоге — мы сталкиваемся с работой именно этой идеи. Идеи, которую Лисицкий первым явно сформулировал и которую несколько лет пропагандировал по всей Европе.
В 1924 году Лисицкому диагностировали туберкулез, а в 1925-ом он вернулся в Москву, где снова стал преподавать, в обновленном ВХУТЕИНе, на отделении проектирования мебели и интерьеров. Кроме того, он оформил Всесоюзную типографическую выставку в Москве в 1927-ом, советский павильон на выставке «Пресса» в Кёльне в 1928-ом, работал над проектом главного павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, оформил книгу Сельвинского и спектакль Мейерхольда, несколько фотоальбомов и ряд номеров журнала «СССР на стройке».
Лисицкий долго боролся с болезнью, но силы явно угасали. Он еще разработал футуристический проект горизонтальных небоскребов для Бульварного кольца и спроектировал здание типографии «Огонька». Правда, то знаменитое здание, которое до сих пор стоит в 1-ом Самотечном переулке, он «своим» не признавал — в письмах жене говорил, что хочет снять свое имя с проекта, настолько сильно он оказался, с его точки зрения, искажен. Едва ли не последнее, что сделал Лисицкий перед смертью в декабре 1941-го года, — плакат «Все для фронта! Все для победы!».
Остается не вполне понятным, почему наследие Лисицкого и память о нем сравнительно мало изучались и пропагандировались в позднем Советском Союзе. Естественное предположение о влиянии тут пресловутой борьбы с космополитизмом остается все-таки гипотезой, требующей подтверждения или опровержения. Факт остается фактом — долгое время и музейный, и исследовательский интерес к Лисицкому был преимущественно западным. Первая (и на сегодняшний день, кажется, последняя) выставка Лисицкого прошла в Третьяковской галерее в 1991 году, а более или менее подробная книга о нем до сих пор существует только по-немецки.
Что ж, Лисицкий не был тщеславен — вероятно, на все эти вещи ему было бы плевать. Гораздо важнее для него было бы то, что его идеи сработали — настолько, что афиша выставки «Культурдокументов» большевистского и еврейского разложения», прошедшей в Мюнхене в 1936-ом, вынуждена была повторить знаменитый плакат «Клином красным бей белых», просто потому что другого изобразительного языка уже не было, только тот, что изобрел Лисицкий. Нет его и до сих пор.
Вадим Левенталь.
И все же если хотя бы ненадолго выключить софиты, которые нещадно подсвечивают отца «Черного квадрата», — окажется, что Лисицкий и сам по себе фигура не просто интересная, не только важная для авангарда, русского и мирового, но и в некотором смысле ключевая для нас сегодняшних и для устройства сегодняшнего мира. Без всякого преувеличения.
Лазарь, разумеется — подписываться сначала Л. Лисицкий, а потом Эль Лисицкий он станет только после знакомства с Малевичем, а так — Лазарь, сын Марка Соломоновича, родившийся в белорусском местечке в 1890 году, в один год с Пастернаком, Молотовым, а также, внезапно, Лавкрафтом и Агатой Кристи. Учиться пошел в Витебске, посещал художественную школу Юделя Пэна вместе с Шагалом. Окончил школу уже в Смоленске, после чего попробовал поступить в Академию художеств в Петербурге. Не поступил: квота для евреев была 3% от общего числа учащихся. Уехал в Дармштадт и там поступил на Архитектурный факультет Высшей политехнической школы, центра немецкого модерна.
Вот тут, пожалуй, нужно сделать первую остановку. Лисицкий, кажется, никогда не говорил о себе как о художнике. Не сохранилось никаких его ранних — как это обычно бывает у художников — пейзажей, портретов, эскизов или этюдов. Нет и никаких длинных ностальгических рассказов о творческих метаниях молодого художника и в собственных сочинениях Лисицкого. В этом контексте и поступление в технический вуз на архитектурный факультет надо рассматривать, очевидно, не как случайное —лишь бы куда взяли, — а как сознательный выбор творческого пути. Надо думать, что не художником хотел быть будущий Эль Лисицкий, не живопись его интересовала и не бессмертие в музейных залах, но что-то другое.
Что именно?
После четырех лет в Дармштадте он возвращается в Россию — как раз с началом войны, и возвращаться приходится кружными путями, через весь юг Европы. Но работать в России с иностранным дипломом он не имел права, поэтому в Москве он поступает в эвакуированный Рижский политехнический. Параллельно с учебой работает ассистентом в архитектурном бюро, организует выставки Еврейского общества поощрения художеств в Москве и в Киеве, участвует в двух выставках «Мира искусства» и в последней выставке «Бубнового валета», но главное его увлечение в эти годы — еврейская книжная графика.
Вот тут, пожалуй, нужно сделать вторую остановку. Увлечение искусством своего народа — естественная, понятная, благородная вещь, и Лисицкий много сделал для сохранения и развития еврейского искусства. Детские книги, исследования храмовых росписей, этнографические экспедиции, Лига еврейской культуры, — и все же Лисицкого не получится ограничить рамками национальной культуры. Думается, что, позанимавшись ею несколько лет, он никогда не возвращался к ней потом именно потому, что безусловно интересное национальное наследие интересовало его только как площадка для поиска универсальных приемов и общечеловеческого языка. Вот почему важнее всего тут, в этом периоде, книжная графика. Именно в книгах киевского «Идишер фолкс-фарлаг» Лисицкий впервые нащупывает те принципы новой изобразительности, которые будет развивать потом всю жизнь.
В 1919 году Шагал зовет его преподавать в Витебск в архитектурной мастерской при Витебской художественной школе. История ее достаточно известна, чтобы здесь вдаваться в ее подробности. Скажем только, что конфликт Шагала с основной массой учеников и преподавателей, вопреки распространенному мифу, начался еще до того, как в школе появился Малевич. Однако же да, именно Лисицкий привез из столицы Малевича, с которым был знаком еще по работе в московских Советах в 1917 году. (Лисицкий возглавлял Художественную секцию при Совете рабочих депутатов, Малевич — такую же секцию при Совете солдатских депутатов.)
Знакомство с Малевичем, совместная работа с ним стали для Лисицкого катализатором всех его художественных поисков предыдущих лет. Лисицкий, вопреки еще одному распространенному мифу, не был учеником Малевича в том смысле, в котором учеником крупного мастера становится еще не оперившийся птенец. Лисицкому было уже тридцать лет, он и сам был мастером, со своими идеями и своим мировоззрением — только для окончательного их оформления, теоретического прежде всего, не хватало последнего движения, жеста, толчка. Малевич и сделал этот толчок.
Мы уже обсуждали, что для истории авангарда не так уж важно, был Малевич пророком или шарлатаном, искренне он верил в то, что нашел Истину в форме черного квадрата, или всего лишь хотел других заставить в это верить. Еще менее это важно в случае с его влиянием на Лисицкого. Последнего вообще, кажется, не очень-то интересовали мессианские идеи Малевича — он взял из них ровно столько, сколько ему надо было для окончательного оформления своих в первую очередь чисто практических идей.
Лисицкого, кроме того, мало интересовало увековечивание своего имени, личная слава, творческое бессмертие, вот это вот все — он не был тщеславен, огромное число его работ вообще подписаны не именем, а обозначением мастерской. Для эпохи и страны, утверждающей превосходство масс над индивидуальностью, «мы» над «я», это вообще выглядит вполне органичной стратегией. Важно не застолбить свое имя за изобретением, а внедрить это изобретение в жизнь — разумеется, радикально изменив ее. Знаменитые проуны, проекты утверждения нового, не были отвлеченными художественными теориями и не задумывались как таковые — они должны были быть применением передовых идей к производственной практике.
Мало того, в этом смысле Лисицкий оказал громадное обратное влияние и на Малевича — ибо до того, ему, кажется, и не приходило в голову, что супрематические идеи могут и должны из чисто абстрактной, живописной плоскости перейти в практическую сферу — архитектуру, оформление интерьеров, проектирование мебели и так далее. И однако же то, что для Малевича осталось только программой — для Лисицкого стало непосредственной работой, внедрением отвлеченных идей в жизнь.
Совместная работа в Витебске была невероятно плодотворна. Журналы, альманахи, выставки, знаменитый УНОВИС — объединение «Утвердителей нового искусства», — театральные декорации, лекции и доклады, ученики — даже удивительно, что все это уместилось в неполные два года. Но время не способствовало долгому сидению на месте. В 1920 году Лисицкий переезжает в Москву, где недолгое время преподает во ВХУТЕМАСе, потом оказывается в Петрограде, где работает в ГИНХУКе, а уже в 1921 году перебирается в Германию, куда молодое Советское государство командирует его для пропаганды нового советского искусства.
В Германии Лисицкий вместе с Эренбургом выпустил три номера журнала «Вещь», создал книгу «Супрематический сказ про два квадрата» и оформил еще одну —«Для голоса» Маяковского. Кроме того — работа с Баухаусом и с голландским объединением «Де стиль», проект «Трибуна Ленина», серия литографий «Победа над Солнцем», выставки и конгрессы — но все же, как кажется, важнее всего тут именно печатная графика.
Именно в форме печатной графики — вспомним, что именно с нее он, в период увлечения еврейской детской книгой, и начинал, — яснее и точнее всего проявилась главная идея Лисицкого. Та идея, которая в конечном счете и стала главным вкладом Лисицкого в развитие не столько искусства XX века — еще раз: Лисицкого мало интересовало искусство вообще, вся эта метафизика осталась вотчиной Малевича, — сколько визуальной культуры новой эпохи.
Идея же эта крайне проста и нам сейчас кажется очевидной. Если для всех предшествующих эпох главным транслятором информации был текст, а изображение рассматривалось лишь как иллюстрация к тексту, пояснение к нему, дополнительное украшение, то для самых разнообразных практик XX века изображение должно стать полноценным носителем передаваемого смысла — наравне с текстом или даже без него.
Достаточно взглянуть на страницы «Супрематического сказа о двух квадратах», чтобы увидеть: всякий раз, когда мы сегодня берем в руки детскую книгу, в которой почти нет слов, или видим рекламный плакат с одним коротким слоганом или рассматриваем графики и диаграммы в специализированном блоге — мы сталкиваемся с работой именно этой идеи. Идеи, которую Лисицкий первым явно сформулировал и которую несколько лет пропагандировал по всей Европе.
В 1924 году Лисицкому диагностировали туберкулез, а в 1925-ом он вернулся в Москву, где снова стал преподавать, в обновленном ВХУТЕИНе, на отделении проектирования мебели и интерьеров. Кроме того, он оформил Всесоюзную типографическую выставку в Москве в 1927-ом, советский павильон на выставке «Пресса» в Кёльне в 1928-ом, работал над проектом главного павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, оформил книгу Сельвинского и спектакль Мейерхольда, несколько фотоальбомов и ряд номеров журнала «СССР на стройке».
Лисицкий долго боролся с болезнью, но силы явно угасали. Он еще разработал футуристический проект горизонтальных небоскребов для Бульварного кольца и спроектировал здание типографии «Огонька». Правда, то знаменитое здание, которое до сих пор стоит в 1-ом Самотечном переулке, он «своим» не признавал — в письмах жене говорил, что хочет снять свое имя с проекта, настолько сильно он оказался, с его точки зрения, искажен. Едва ли не последнее, что сделал Лисицкий перед смертью в декабре 1941-го года, — плакат «Все для фронта! Все для победы!».
Остается не вполне понятным, почему наследие Лисицкого и память о нем сравнительно мало изучались и пропагандировались в позднем Советском Союзе. Естественное предположение о влиянии тут пресловутой борьбы с космополитизмом остается все-таки гипотезой, требующей подтверждения или опровержения. Факт остается фактом — долгое время и музейный, и исследовательский интерес к Лисицкому был преимущественно западным. Первая (и на сегодняшний день, кажется, последняя) выставка Лисицкого прошла в Третьяковской галерее в 1991 году, а более или менее подробная книга о нем до сих пор существует только по-немецки.
Что ж, Лисицкий не был тщеславен — вероятно, на все эти вещи ему было бы плевать. Гораздо важнее для него было бы то, что его идеи сработали — настолько, что афиша выставки «Культурдокументов» большевистского и еврейского разложения», прошедшей в Мюнхене в 1936-ом, вынуждена была повторить знаменитый плакат «Клином красным бей белых», просто потому что другого изобразительного языка уже не было, только тот, что изобрел Лисицкий. Нет его и до сих пор.
Вадим Левенталь.